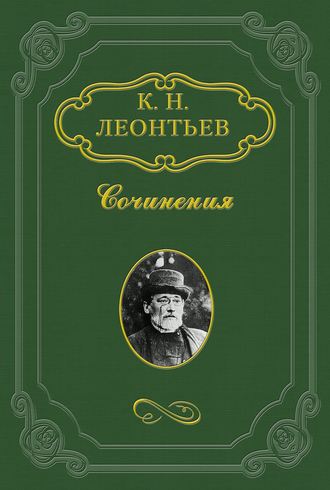 полная версия
полная версияИсповедь мужа (Ай-Бурун)
– Я боюсь этого льва, – сказала она.
– Лев он не очень кровожадный, – отвечал я. – И зачем я с ними поеду? Пусть Лиза развлекается. Время ей жизнью дохнуть слегка. И может быть, он посватается за нее?
– Когда бы так! Об этом еще можно бы подумать, – сказала она. – Лиза неопытна, а он… Кто его знает, какой он!
Я собрался ехать и пошел в конюшню. Лиза сама взнуздывала своего коня, пока кучер седлал.
– Меня твоя мать посылает с тобой гувернером! она боится любезности Маринаки.
– Чего же она боится? – отвечала Лиза. – Она хочет меня замуж отдать. Я за него и выйду, когда захочу.
– Захочет ли он? – спросил я.
– Я знаю, что говорю! – возразила Лиза и вывела лошадь.
Я подержал ее под уздцы; Лиза стала на большой камень, вскочила на седло, сказала только «пустите!» и ускакала. Я поехал за ней. Маринаки ждал нас за поворотом, играл концом уздечки, улыбался и гордо и сладко. Я всю дорогу был задумчив. Я никогда не умел хорошо скрывать своих чувств, а на южном берегу отвык от всяких усилий над собой, И не все ли равно? Скрытность имеет свои выгоды, откровенность свои. А самолюбие еще не умерло… Слава Богу, думал я, что сделали шоссе; можно троим рядом ехать. Я ехал с ними и молчал. Пожалел, что не умею холодно язвить. Этим, как известно, старым средством умеют иные ронять других при женщинах. А я не умею; рассердиться и рассердясь нагрубить, – это я понимаю. Но как-то все жалко трогать спокойно самолюбие другого. Хотел для пользы Лизы попробовать подтрунить над Маринаки, и вышло неудачно. А у него спросил:
– А что, это про вас написали стихи:
МаринакиПоел все раки и т. д.А он отвечал без гнева и смущения:
– Нет, это про Манираки. Вы видите, и рифма лучше:
МаниракиПоел все раки.Маринаки говорит вообще немного. Лиза часто молчалива и угрюма. Прогулка наша была нескучна (езда по таким местам и в такую погоду все-таки приятна); но грустная-прегрустная была эта прогулка! Я предался вопросам – как назвать, как определить мое собственное чувство? Ревность? О, нет! Отчего же я не ревновал, когда Алеша принес Лизе букет? Лиза приняла букет и сказала с улыбкой: «спасибо, Алеша!» И посмотрела на него пристально этими пылкими глазами, которые так пугают мать и так нравятся мне. Потом заняла у меня рубль серебром и хотела дать ему на чай, но я остановил ее. Почему же начало этой встречи порадовало меня, а конец огорчил? Где же ревность? Или это оттого, что я нахожу Алешу лучше себя, а Маринаки хуже? Что за странная роль! Отец? Но отец сравнивает только Алешу и Маринаки, А и В. А у меня еще является между ними С, и это С – я сам.
2-го февраля 1854.
Катерина Платоновна нездорова. Сверх того ее огорчила скрытность дочери; мы недавно только узнали, что Маринаки делал ей предложение, и она отказала. Она боялась, что мать будет жалеть об этом, и скрывала до сих пор. Я долго журил Лизу за эгоизм и объяснил ей, что от такой доброй и несчастной матери можно перенести замечания, что принуждать ее никто бы не стал, а если любишь мать, не надо скрываться от нее. Они помирились. Лиза просила у нее прощенья. Она слушается меня, я это давно вижу. И мне захотелось признаться Катерине Платоновне, что я не раз смеялся над Маринаки и доказывал Лизе, насколько она выше такого жениха. «Хорошо ли вы это сделали?» – спросила бедная мать с таким чувством, что я на минуту смутился. Но потом напомнил ей, что она сама, однако, предпочла бы своего мужа господину Маринаки.
– То я, – сказала она. – Свои страданья не так еще страшны. А сокровище мое, дочь родную, не вернее ли по гладкому пути ввести в хаос жизни?
Я возразил ей на это, что она верно бы не желала, чтобы сын ее покупал покой и право идти по гладкому пути в «хаос жизни» ценою чести?
– La vertu conjugale est le courage et l'honneur de la femme! – заметила мать.
Я с этим не согласился. Надо еще знать, с кем соблюдается vertu conjugale!
11-го апреля 1854.
Катерине Платоновне хуже и хуже; она, кажется, не переживет весны. Сегодня она одна сидела на скамье в тени; я подошел к ней.
– В дальний путь собираюсь! – сказала она печально.
Я молчал.
– Благодарить вас или нет? – спросила она.
– Не благодарите, – отвечал я, – мы квиты. Мне было легче этот год. И вас и Лизу я очень люблю.
– Ах, Лиза! Лиза! – воскликнула бедная мать и заплакала. – Лиза, дитя мое родное! Отрада, жизнь моя! Что я с тобой сделаю, дочь моя милая? Куда я дену тебя?
– Куда? – сказал я, – никуда. Пусть здесь живет.
– А языки?
– Я сделаю ее наследницей моей. Встретится жених и получше Маринаки. Кого вы боитесь? Мнений Зильхмиллера, который румянится, и ему подобных?
Катерина Платоновна думала, а мне хотелось поглубже войти в ее душу, и я продолжал:
– И наконец, всякий знает, что я ей двоюродный дядя, плешив, сорок пять лет, отжил. Поставьте себя на место других и судите – чем я не опекун?
– Ваше открытое чело всем нравится; на нем печать мысли, – отвечала она. – У вас лицо приятное, выразительное. Вы бодры и здоровы… Поверьте, найдутся низкие люди… и наконец, вы сами не бессмертны; а что она будет и без вас, и без меня!
Я отклонился от разговора, желая подумать. Когда Катерина Платоновна уснула, я позвал Лизу гулять. Вечер был прохладный. Она повязалась по-русски белым платком, а этот убор смягчал ее строгое лицо.
– Лиза! – сказал я, – если твоя мать умрет, что ты будешь делать?..
Она просила не говорить о матери, но я настаивал.
– Я знаю, ты целый день плачешь, когда одна. Ты знаешь, она сильно больна. Любя ее, подумай о себе…
– Я у вас останусь. Буду на ее могилу ходить, буду вам служить, буду вас любить…
– Мать твоя боится людей. Скажут, что она тебя продала мне.
– Я не боюсь.
– Но она боится и с этой боязнью в гроб уйдет.
– Уеду, определюсь куда-нибудь. Одна она у меня; ее не будет, что мне!
– Лиза, – сказал я ей, – что быть любовницей нелюбимого человека, что женой – все равно для души. Но для жизни все ловчее быть женой. Мне тебя жалко!
– Кусок хлеба найду, если вы не хотите, чтобы я у вас осталась! – перебила она.
– Я не хочу? я не хочу? Да я буду умирать от тоски без тебя и без твоей матери! (Я чувствовал, как вся моя душа уходила в мои слова.) Я сочту себя несчастным, если дам тебе погибнуть.
– Что такое «погибнуть»?
– Что такое «погибнуть»? Это очень длинное объяснение. Проще всего погибнуть – значит унизиться, упасть. Не то, чтобы нужду терпеть или страдать. Если нужда тебя не унизила, если, напротив того, ты стала выше и прекраснее от ее тяжести – тогда ты не погибла. Если ты умерла от нужды в честной борьбе, ты тоже не погибла. С другой стороны: если ты ведешь богатую и разгульную жизнь, но при этом добра, великодушна, пряма, умна, даровита и пленительна, как одна из тех знаменитых артисток, монархинь и других женщин, имена которых дошли до нас, тогда ты не погибла, по-моему. А если беспорядочная жизнь обезобразила твою душу – ты погибла! Или, если ты можешь быть счастливой с Маринаки – ты погибла!
– Вот как! – сказала Лиза. – Вот вы что говорите! А с вами быть счастливой – это не погибнуть?
– Нет, – отвечал я смело, – влюбиться в меня, обнищавшего духом, с лицом старым, с сердцем бесстрастным – это своего рода гибель или жалкая ошибка. А выйти за меня замуж, чтобы быть независимой, порадовать больную мать, чтобы иметь в руках средства помогать другим страдальцам, чтобы жить вольно и широко, когда захочется, и в запасе иметь верного друга для чорных дней, для дней болезни, отвращения и обманов – это не гибель, это улучшение!
– Так, значит, кончено? – спросила она.
– Кончено, мой друг, – отвечал я.
Она, быть может, думала, что я обниму ее в этот вечер, прижму ее к сердцу, и готовилась это снести; но я, как случалось и прежде, поцаловал ее в лоб и перекрестил три раза, вместо матери, которая уснула и не успела благословить ее.
Я спал ночь хорошо и не чувствовал в себе никакой перемены.
Я думаю, она привыкла ко мне; любит Аи-Бурун, пожалуй, и Христинья тут замешалась; никогда Лиза прежде так привольно не жила; и в сердце столько движений! Спроси у нее, она и не сумеет отделить меня от Аи-Буруна. И не надо. Зачем требовать невозможного и неуместного в таком деле бескорыстия? Она не сознает своего детского расчета, и довольно! Будет ей привольно, будет и мне не стыдно.
15-го апреля.
Вчера мы обвенчались.
Мы возвращались домой по шоссе в коляске; ехали рысью и молчали. Я не знаю, отчего Лиза молчала, а я молчал от радости. Лиза бывала почти всегда одета не только бедно, но иногда не совсем опрятно: с матерью за это у нее бывали ссоры. Но в день свадьбы она была дама, как дама! Белое кисейное платье, пышное, новое; палевые перчатки, букет цветов в руке и в косе белая роза, брильянтовые серьги (это я выписал для нее еще прежде). В первый раз я ее видел в душистых палевых перчатках! Лиза – дама! Моя Лиза – дама, и еще богаче многих! Из-за этого одного стоило жениться. Верст за пять не доезжая до Аи-Буруна, мы увидели на горке толпу молодых татарских всадников в праздничных одеждах. Они крикнули все разом, бросились с горы вскачь, окружили нашу коляску, осыпали нас цветами и проводили на рысях до самого крыльца.
Мы благодарили их, угощали кофеем и фруктами, жалели, что они не пьют вина. Зато вина вдоволь выпили русские дворовые, которых собралось меня поздравить человек до двенадцати из соседних экономии. Они пели и плясали, и татары плясали на площадке перед домом, а русские смотрели. Море опять было тихое, бледно-лиловое; луна начинала слабо светить в стороне; по решотке и колоннам нашего балкона уже распускались ползучие цветы, а за морем чуть был виден розовый отблеск зари. Добрая мать наша, полуживая от умиления, сидела на балконе; Лиза внизу на ступеньках пела с русскими девушками «Во лузях, во зеленыих лузях»; татары собрались кучкой под кипарисами; а я? Я – что чувствовал в этот миг!
17-го апреля.
Однако небольшое облако набежало на мое счастье. Пока пели и плясали люди, пока мы ехали в коляске, пока я смотрел на мать и любовался (клянусь, только любовался!) на Лизу, я был счастлив чуть ли не чужим счастьем. Да! радость моя смутилась при одной мысли, что я в самом деле муж, а не только покровитель. Лиза моя! Когда ты вчера принимала покорно и серьезно мои презренные, нерешительные ласки, ты не знала, моя дочь, что твой друг отступает в ужасе от своих святотатственных прав!
Мне ли следует окончить весну ее жизни? Мне ли сделать ее матерью! Мне ли?!
Что я приношу ей, кроме теплой дружбы? Законные права? Отдать первые чувства девы не божественной страсти, а печальной дружбе и правам… Боже! дай мне силы быть счастливым!
20-го апреля.
Сегодня поутру я вышел рано на крыльцо и спросил себя еще раз: зачем я женился? Но провидению угодно было вразумить меня. Около крыльца распутался роскошный махровый мак. Еще вчера весь цветок был завернут в зеленые листья бутона. Я знаю, зеленые листики эти отпадают, когда цвет распутался в полной красоте. Такими листиками для нее буду я со всем моим до поры до времени. Придет время, и отпаду и высохну!
25-го июня.
И за то благодарю, что она не показывает мне любви. В ней ничего как будто не изменилось. Все та же Лиза. Слава Богу! Что бы я должен был думать, если бы она хоть раз обняла меня страстно или бы томно прижалась к моему плечу? Дурной вкус? Притворство? Презренное получувство привычки? И то, и другое, и третье! Один раз она рассеянно поднесла мою руку к губам своим. Я оттолкнул ее и сказал ей с таким гневом: «никогда, Лиза, никогда!», что она смутилась и ушла. Я выждал минуту и просил у нее извинения за мою грубость.
– Я не буду, если я вам так противна, – сказала она.
– Не ты противна, дитя мое, а я сам себе противен! Придет время, когда ты поймешь меня.
Она просила меня говорить ей всегда, чем я недоволен; я отвечал ей:
– Я, Лиза, всем доволен. Довольна ли ты?
– Живу, – сказала она угрюмо. – Я еще никогда так не жила… Что мне? Сад есть, гуляю; рояль есть, играю и пою; корова есть – дою корову… Верхом катаюсь.
О матери ни слова. А мать угасает так, как я бы желал угаснуть. Счастье и покой дышат во всех ее словах, во всех движениях. Сама недавно мне сказала: «так умирать еще можно, как я умираю у вас, глядя на Лизу. Лиза не думает, что смерть так близка». Свадьба наша сначала оживила немного Катерину Платоновну, и это обманывает дочь. К тому же у Лизы есть та благородная детская стыдливость, которая избегает говорить о высоких чувствах. Но надо видеть, как она служит матери, как веселит ее своими отрывистыми шутками, пением; читает громко целые часы; ночью сколько раз встает и прислуживает ей.
28-го июня.
Да! она довольна. Она незнакома с лучшим и не знает, что есть лучшее на свете и что мы не только имеем право, но обязаны иногда узнавать (не искать ли?) это лучшее, если оно не покупается ценою унижения и духовной гибели. Она, кажется, довольна. Наряжаться не ищет и не умеет. Но когда я прошу, чтобы она оделась в новое платье – оденется. Один раз сама оделась наряднее в длинное шелковое платье, вышла (а мы с матерью пили кофе поутру), посмотрела на нас, покраснела, не своим голосом сказала: «дама сегодня пришла!» Ушла и переоделась. Лошадей любит; на конюшне беспрестанно; вышивает кучерам пояса; за орехами ходит с девушками в верхние рощи; в саду работает; зимою сажает деревья сама, вдвоем со стариком Ахметом. Корову я ей отличную подарил; доит, кормит ее. Последнее время газеты интересны; грозятся высадкой в Крым; Лиза иногда читает нам их громко и делает свои замечания.
– Как уж мне этот фельдцехмейстер фон-Гесс надоел! Все куда-то ездит! Вот в Вену опять поехал.
Мы с Катериной Платоновной этой выходке очень смеялись.
Иногда ее суровые мужские вкусы смягчаются; недавно она завела котят. Один чорный котенок вышел такой забавный, что я и в жизни такого не видал. Только мы собрались все вместе, он на сцену и давай штуки выделывать, кубарем так и катается, без нужды заберется везде…
Лиза его полюбила; а за ней и мне он стал как будто родной.
В гости она любит ходить только к татарам и к простым русским и всегда приносит оттуда любопытные рассказы: как Эмине, дочь Саад-Сейдамета-Оглу, делала в бумажном окне отверстие, чтобы видеть своего жениха; как он ее увез; как отвез к русской помещице в степь; как гнались за ним двадцать человек; как молодые немецкие колонисты помогали им; мать ездила жаловаться губернатору, а дочь у губернатора в кабинете по-русски сказала: «Я его люблю; я за него и пойду!» Рассказывает, как убирают золотом лоб невесты на свадьбе, как ее раз самое всю раздели татарки, чтобы видеть и платье и белье со всех сторон.
Находим изредка случай делать добро. Недавно Лиза выручила из рук Зильхмиллера (чтеца Дюма) Парашу, крепостную девушку соседа нашего Ш-ва, у которого Зильхмиллер управителем. Она ходила за г-жею Зильхмиллер, а муж ухаживал за нею. Madame Зильхмиллер прибила ее по щекам раз; Параша перенесла; но на другой раз прибежала к нам вся в слезах. Помещик Ш. человек умный и хороший; я написал ему в Петербург об этом; а Лиза встретила в Ялте ревнивую управительницу, заспорила с ней о Параше и разгорячилась до того, что наговорила грубостей. Madame Зильхмиллер сказала как-то: «Всякая порядочная женщина…» – А Лиза скрипнула зубами и говорит (из бархатных глаз ее как будто посыпались искры): «Да разве вы женщина!», отвернулась и ушла.
Мы взяли Парашу внаймы к себе.
29-го июня.
Я каждый день купаюсь за грудой больших камней, за которыми ничего не видно, кроме неба и моря. И прежде я тут же купался, но все было не то. Волны те же; каждый день, каждый миг бьют они точно так же, как прежде, в те же камни… Та же пена кипит… И я по-старому сижу долго один на песке, смотрю на зеленую и малиновую морскую траву… все то же… Но я не тот! Все кругом поет тебе долголетие и мир. Возможна ли здесь мысль о смерти?
11-го июля.
Давно я не брал пера в руки. Катерина Платоновна скончалась. Мы ее похоронили.
23-го июля.
Мне понравилось, что Лиза в первые дни не плакала, а стала плакать потом. Могила Катерины Платоновны на круге, к которому ведет миртовая дорожка; весь круг тоже обсажен стриженными миртами, дорожка вдруг заворачивает в ту сторону. А посредине круга старый, огромный дуб, и под дубом скамья. Не раз уже мы на ней молча сидели вдвоем. Памятник покойнице еще не готов, но в душах наших воздвигнут вечный памятник ее кротости и горю!
25-го июля.
Газеты продолжают говорить о будущих бомбардировках. Я не верю, чтобы французы решились высадиться в Крым. В Варне был большой пожар. Приписывают его грекам и их преданности России.
22-го сентября 1854.
Как это вдруг все сделалось! Высадка; несчастное сражение под Альмой; Севастополь осажден. Мы слышим отсюда грохот артиллерии. По морю уже ходят большие неприятельские суда. Что делать? Уехать или нет? Уехать – ограбят все. Не уехать – Лиза, башибузуки… быть может, и татары… Конечно, они почти все знакомы нам и любят нас; но слышно со всех сторон, что они расположены к измене и грабежу. Какие неожиданные чувства разгораются у народа мирного и честного под влиянием широких исторических эпидемий! Лиза думает остаться; я вижу, ее интересует близость войны; она ничего не боится, и по незнанию, и по природной отваге.
10-го октября 1854.
Говорят, турок в этой стороне не будет. Англичане занимают Балаклаву. Поэтому лучше остаться и стеречь имение. Ее никто, Бог даст, не тронет; а те средства, которые дают нам возможность жить по-своему, могут пострадать, если мы уедем. Христинья боится больше всего татар; Ахмед-садовник нарочно стращает ее, а она проклинает его на чем свет. Лизу все это занимает до крайности. И у меня душа выросла… Все сильнее, все слышнее стало чувствоваться! Ловишь каждый миг своей жизни, каждый слух… Все исполнилось кругом как бы иным, высшим смыслом…
Останемся!
2-го марта 1855.
Что за зиму мы провели здесь с Лизой! У нас здесь мир и еще безлюднее прежнего. Из прекрасных экономии уехали последние помещики; зайдешь или заедешь в которую-нибудь – ни души! Для кого эти столпообразные скалы Орианды (самые прекрасные из всех здешних скал)? Для кого бурый исполин Аю-Даг с начала веков купает свою медвежью голову в море? Эти сады террасами, с растеньями всех стран и дивными домиками, разноцветными в разноцветной зелени? С непостижимым чувством смотришь вечером с высот на огонек, мерцающий далеко в русском окне.
На плоских вершинах гор сходит снег.
В верхних сосновых лесах и пониже, в орешниках и рощах, которые лепятся по склонам – все уже в цвету.
Цветут нежные орхидеи; фиалки уже кончились. Недавно ходили мы вдвоем с Лизой в рощи собирать фиалки для белья. Боже мой, вблизи ни звука, ни голоса… Все распускается, все душисто, а севастопольская пушка ревет вдали и день, и ночь!.. Лиза говорит: «ах! если б туда!» Всякий раз, как грянет знакомый гром, она бледнеет и краснеет, а глаза искрятся… какие разнообразные силы сокрыты в ее душе!
3-го апреля.
И у нас показались признаки войны. Заезжали донские казаки со стороны Ялты. Со стороны Балаклавы показываются иногда неприятели. Французы сходили в Алупку, но ничего не испортили. Было человек десять и в трех верстах от нас. Вообще они ведут себя хорошо, и солдаты и офицеры. Однако прекрасный мраморный дом соседа Ш. сгорел, и церковь его ограбили; один русский работник заболел от страха и недавно умер; мимо него промчался французский кавалерист: на голове один свадебный венец из церкви, а в руке другой. Я думаю, француз вообразил себе, что это какие-нибудь «couronnes ducales!»
Говорят, что они нашлись в погребе Ш-ва; другие обвиняют татар, которые поселены на земле Ш. Мне трудно поверить, что это сделали французы; это на них не похоже. Однако на одной из обгорелых стен написано: «Le 47 de ligne a passé par là! Adieu messieurs les russes!» По дороге вокруг дома валяются пружины из диванов и кресел. Погибла картина Айвазовского «Вид Керчи в пасмурный день».
Может быть, вино и в самом деле довело их до поступка, который не в нравах их честной армии.
Хорошо, что мы остались, хотя иногда и страшно за Лизу.
Да! между прочим, за ней ухаживает казацкий юнкер, который приезжает иногда сюда. Красивый и лихой казачок двадцати пяти лет; говорит высокопарно. «Когда б, – говорит, – вы посмотрели наш народ на тихом Дону! Народ чистый, уродливый! А дончиха в Новочеркасске идет – так ее ветром колышет; словно пташка на древе!»
Лизу он занимает; она ездит с ним верхом, крутит ему папиросы, поет ему «Колыбельную песню» Лермонтова, ходит с ним под руку. Раз надела его папаху и шашку, подтянулась поясом, стала перед нами и ударила себя молодецки кулаком в грудь: «Каков казак?» Юнкер с радости захлопал в ладоши. Неужели она в него влюбится?
2-го мая.
Параша пришла объявить Лизе, что юнкер предлагал ей пять рублей и просил научить, в какое окно надо влезть ночью в спальню Лизы. «Я, – говорит, – одурел от твоей барыни. Ну, такая любовь, такая любовь – просто заключение!» Меня удивило особенно, что Параша запомнила последние слова.
Лиза пришла и рассказала мне все это. Она смеялась и вместе с тем была смущена. Я успокоил ее и сказал: «Если ты сама не влюблена в него, будь только как можно суше в следующий раз… А если влюблена – это твое дело. Предупреждаю тебя только, что он очень груб и развратен»…
(Раз мне пришлось ужинать в Ялте с ним и другими казаками; он напился и стал рассказывать, как он любит (стыдно даже повторить) «баб и девок розгами или плетьми драть». Я спросил: «за что?» – «На вот – знай наших Гаврилычей!» Жаль было слышать такие речи от лихого русского молодчика.)
Через три дня он приехал; но Лиза едва показалась ему, не сказала почти ни слова, и он перестал заезжать к нам.
Июль.
Вдали все слышен страшный гул с небольшими роздыхами. Недавно штурм отбит от Малахова кургана. Отличился один генерал Хрулев, о котором я прежде не слыхал. Дай Бог нам побольше военных дарований!
Нас, крымских жителей, затрагивает не только честь русского оружия; нам грозят самые глубокие потери. Если, от чего Боже сохрани, Крым возьмут весь и отдадут Турции или еще хуже – сами союзники завладеют им? Прощай тогда горный рай! Куда мы поедем с Лизой? В Россию, внутрь, где бродит столько старых теней, где как из гробов восстанут близкие и давно чужие люди? А больше некуда. Еще лучше остаться у турок. Французы и англичане заведут везде здесь железные дороги и фабрики, от пароходов отбоя не будет; будут топтать в грязь все русское; оденут как раз татар в жакетки и фраки; распространится зловоние местных газет…
«Courrier de la Tauride!» Прощай тогда дикая, забытая поэзия Крыма! Боже, избави нас от завоевания! Мы так тут сжились – Лиза, я и южный берег! В другом месте (кто знает) и я, и Лиза будем не те!
Июля 16-го, 1855.
Сейчас Лиза умоляла меня свозить ее хоть на северную сторону в Севастополь; хоть издали посмотреть на войну; видеть, как громят бедный город, как ночью по небу летают ракеты и каленые ядра. Но я решительно отказался взять ее… Лучше, чтобы развлечь ее, съезжу с ней в Симферополь. Теперь там все кипит. Я знаю, что я там встречу много знакомых из Москвы и Петербурга; но на войне они будут и лучше и новее, да и разве, если станет больно, не могу я тотчас убежать от них сюда?
Июля 29-го, 1855.
Что за шум! Что за движение в Симферополе! При въезде в город и на большой улице дороги нет. Мы беспрестанно останавливались. Гремят городские экипажи; офицеры мчатся на перекладных; немазанные шаграры скрипят; верблюды ревут… Визг, брань, лай собак! Лошади, буйволы, казаки, пленные в фесках, пленные в синих и красных мундирах; дамы, ополченцы с песнями, пики, каски с перьями, патриотические сарафаны, папахи, шляпки с цветами, генералы, татары, цыгане, небритые греки, армяне, евреи, чернобровые гречанки у калиток… Насилу отыскали мы порядочный номер – и то за 20 рублей в день! Все лучшие, большие дома, и казенные и частные, заняты ранеными и больными. Беспрестанно приходят и уходят новые отряды; девицы ловят женихов, молодые люди увлекают девиц и спешат уехать; в городе тиф и холера.
Рядом два дома: в одном сотни людей изнемогают на койках, в другом – танцы и музыка далеко за полночь. Не скучно, когда опомнишься… Ночи теперь лунные, и на бульваре около Салгира каждый вечер музыка. Мне приятно было видеть, как все оглядывались на Лизу, когда она шла со мной в белом кашемировом бурнусе и белой шляпке. Я думаю, жалеют, что у нее муж уже немолод и немолодцоват. Впрочем все эти прохожие смотрят, вероятно, в белые стекла и разделяют мнение, что «мужчина, если немного получше чорта, так и хорош!» (Что за смрадное мнение!).









