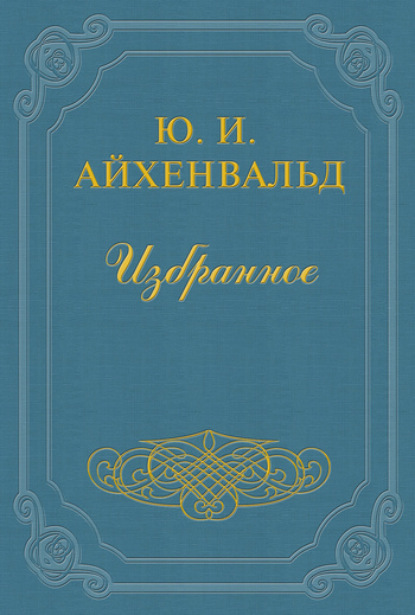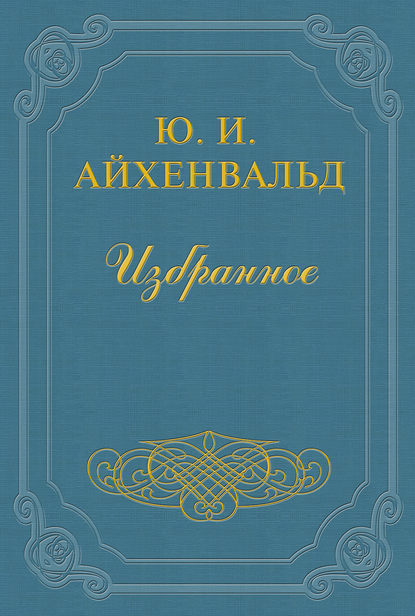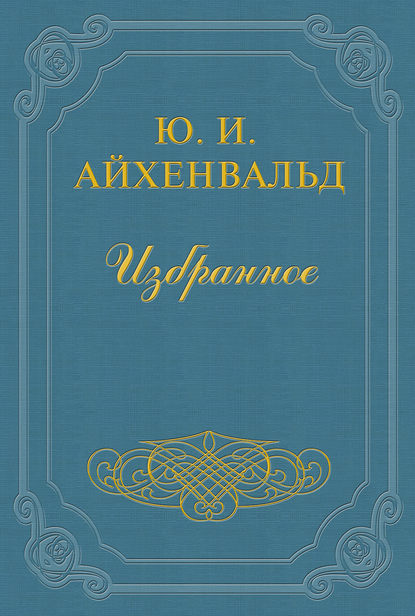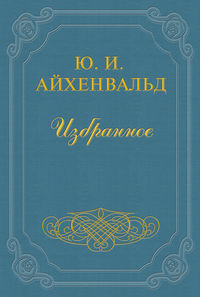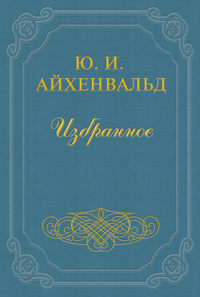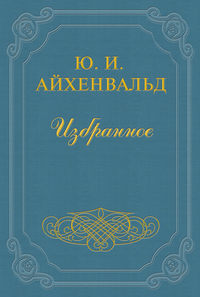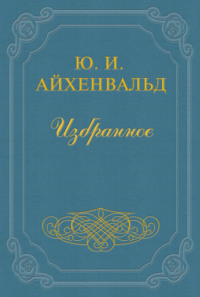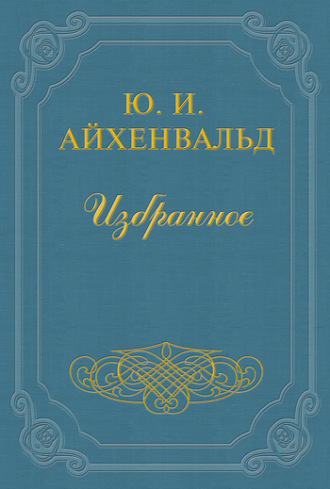 полная версия
полная версияЛев Толстой
Так чуден и символичен образ матери, покойной «мамы», реющий и в «Семейном счастьи» и особенно в «Детстве и отрочестве»… Там – предел трогательного. Рассказывает мальчику старая любящая няня Наталья Саввишна (образ дивный в своей простоте!), как умирала его мать… «Только» откроет губки и опять начнет охать: «Боже мой! Господи! Детей! детей…» После уж только поднимет ручку и опять опустит. И что она этим хотела, Бог ее знает! Я так думаю, что это она вас заочно благословила; да, видно, не привел ее Господь перед последним концом взглянуть на своих деточек. Потом она приподнялась, моя голубушка, сделала вот так ручки и вдруг заговорила, да таким голосом, что я вспомнить не могу: «Матерь Божия, не оставь их!»
Так мать передает Матери своих детей – великое поручение смертного часа! История не расскажет, что стало с прочими детьми этой женщины; но одного ее сына она уже облекла бессмертным именем и сохранила для вечности. И мы знаем наверное: Мать послушалась матери и не оставила, и сберегла, и взлелеяла его, и подарила ему не только гений и славу, но и, в угождение своей богомолице, сделала его поэтом святого материнства, писателем-сыном. И если где-нибудь живет и витает дух той, которая дала ему его долгую и благословенную жизнь, то должна она радоваться высокой и гордой радостью, ибо себя, свою душу, свое влияние видит она в творениях своего великого сына – великого и любящего, к своей и ко всякой матери благоговейного.
Но жизнедавец и пестун жизни от самых истоков ее, Толстой в неразрывной связи с этим много думал и много написал о смерти. Он так часто и близко видел ее, она так часто возвращается в его художественных произведениях, и страх смерти является жизненным нервом его морали. Единственная глава, которую он в «Анне Карениной» озаглавил, – это Смерть. И особо он создал «Три смерти» и «Смерть Ивана Ильича». Он вообще изумительно, вызывая почти суеверный трепет у читателей, передает ощущения умирающего. Что такое жизнь, это показал он и в смерти. От первого крика новорожденного и вплоть до могилы провожает он своих героев. Силой дивинации, вдохновенной догадки, он, живой, так близко приник к смерти, как это лишь возможно тому, кто сам – еще в рамках бытия, и он приблизился к самому краю человеческого. И кажется, еще одно усилие, еще одно последнее усилие – и слово мировой загадки будет найдено, и тайна творения будет раскрыта. Его психология смерти проникнута тем исключительным, толстовским правдоподобием, той несомненной правдой, которой нельзя противиться: разве можно допустить, что Андрей Болконский в предсмертные минуты своего бреда и своих умиленных просветлений испытывал что-нибудь другое – не то, что говорит нам Толстой, вещий провидец последних тайн?
Умирает Иван Ильич, барахтается «в черном мешке» смерти, – он это знает наверное, но просто не понимает, никак не может понять этого. Правда, в школе он заучил силлогизм о смертности Кая, но ведь то был Кай, человек вообще, а он, Иван Ильич, был не Кай и не вообще человек, а «всегда был совсем, совсем особенное от всех других существ; он был Ваня, с мама, с папа, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня? Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери?» Но Кай в индивидуальном облике Ивана Ильича умирает со своими мячиками, с папой и мамой… Однако в последнее мгновение вместо смерти ощутил он свет, и, когда живые произнесли над ним: «кончено», он понял, что это кончена не жизнь, а смерть. Ибо смертью является вся эта наша пошлая, мелкая, невнимательная жизнь, смертью является все это бремя ненужных разговоров, одежда и обстановка, весь этот внешний человек. «Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная, и самая ужасная». Не только те мертвые души, великолепно похороненные, «с далеким подобием улыбки», с далеким подобием всего человеческого, те бездушные сановники-тюремщики из «Воскресения», которые, сами мертвые, хоронят живых (это еще ужаснее, чем когда мертвые хоронят мертвых), – но все мы не живем в своей жизни, и чем дальше мы от детства, этого подлинного носителя природы и правды, тем мы ближе к нравственной смерти. И Толстой пристально наблюдает, как борется в нас внешний человек с внутренним. Часто первый берет нас в свою полную власть, как он завладел Стивой Облонским, – но княжна Марья испытывает «высокое страдание души, тяготящейся телом»; но Пьер, взятый в плен, смеется над тем, что его, его бессмертную душу, думают держать в плену, ее хотят запереть в балаган из досок; но князь Андрей, слушая пение Наташи, готов плакать от живо сознанной им «страшной противоположности между чем-то бесконечно великим и неопределимым, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем он был сам и даже была она (Наташа)». Да, Толстой, с такой непревзойденной глубиною описавший душевные состояния человека именно в неразрывной связи с телесностью, «тайновидец плоти», Толстой, в известном смысле Рубенс русской литературы, – он в своих завершающих созерцаниях пришел к духу, к чистейшему платонизму, и в освобождении от тела, в этом выходе из видимой природы, в смерти, познал спасение. Душе тесно в теле. Или это не противоречит натурализму, потому что ведь и смерть натуральна? Да и, в конечном счете, может быть, и сама природа – дух? И мир не вещь?
От бремени вещей и внешнего, от земной тягости, от всяческого плена освобождает нас смерть. Она – благо, потому что избавляет от необходимости жить, т. е. не любить или любить любовью разрозненной. Жизнь не может быть любовью сплошной. А в частичности любви заключается грех. Его, но только до некоторой степени, преодолевает не обремененный внешностью и вещами, почти исключительно внутренний, в круглый облик мира своей круглотою входящий Платон Каратаев; он олицетворяет собою и любовь круглую, беспрерывную, безустанную, но для того, чтобы она достигала своего предельного совершенства и завершенности, своей последней круглоты, на нем должен был разрядить свое бездушное ружье французский солдат. Правда, эта каратаевская любовь ко всему, беспричинное и беспредельное благоволение, как часто показывает Толстой, в своем истоке рождается в человеке из горячей любви к самому себе, из чувства собственного счастья. Любовь к другим – от любви к себе. В любви сплошной сливаются ее объект и субъект. Человек любит в себе то, что в нем любят люди, – свое хорошее. Это испытал Левин, когда полюбила его Кити и он получил для себя огромное значение и важность; это испытал и Оленин, чувствуя в себе безудержное счастье и любовь ко всему; об этом, об этой «беспредметной силе любви», ищущей для себя предмета, говорят многие герои Толстого. Любовь к другим, когда-то сказывавшаяся в горячей юной влюбленности и самовлюбленности, в жажде счастья, приходит к радостному самоотвержению. Это – явления одного порядка. Не обеднение, а обогащение – всякое дело любви, и чем больше мы отдаем, тем обильнее становится наш внутренний мир, и в конце концов одна индивидуальность так в подвиге своей жертвы переносится в другую, что теряется различие между ними и на деле торжествует вселенское Tat twam asi. «Жив Никита – значит, жив и я», – говорит умирающий, отдавая свою жизнь другому. Вот силлогизм, продиктованный живою логикой любви. И так замыкается круглая линия мира, вечное кольцо бытия.
Та область существования, в которой особенно нужна любовь и помощь, область нужды и муки, подолгу задерживала в себе Толстого. И вековечная проблема хозяина и работника, но не только в своей социальной, а и в своей этической и религиозной постановке, не покидала его никогда. Как Достоевский написал это плачущее «дите» на руках у голодной матери, так и у Толстого является оно же, только не плачущее, а старчески расплывающееся в голодную предсмертную улыбку; и все эти бедные и голодные, которые окружают умирающее от недокорма дитя, все эти обреченные Хитрова рынка, арестанты и каторжники – они Толстым не забыты, им отдает он свой лучший дар: он их изображает. Но для него, широкого, всеобъемлющего и всеоживляющего, любовь не является достоянием только работников – он показал (и это гораздо важнее) любовь хозяина в ее неожиданном и в то же время естественном, психологически подготовленном расцвете. Когда Петруха говорит свой стишок, вычитанный у «Пульсона»: «Буря с мглою небо скроить», и Василий Андреич замечает на это: «вишь, стихотворец какой», читателя пугает открывающееся вдруг перед ним безмерное расстояние, какое отделяет стихотворца, Пушкина, от Василия Андреича, и кажется безнадежным соединить, связать людей в человечество. Какую нить взять для этого? Но вот оказывается через несколько страниц, что Пушкин, идеальное, высокое, просыпается в замерзшем было сердце хозяина. Вид чернобыльника, мучимого немилосердным ветром, заставил его содрогнуться, искать спасения, и кончил он эти поиски тем, что собственным телом прикрыл замерзавшего работника со слезами умиления на глазах, на этих всю жизнь торгашеских глазах; он согрел его собою и вернул к жизни, а сам перестал быть Брехуновым, переродился, узнал, в чем дело (не в деньгах, не в лавке, не в покупках и продажах оно – теперь знаю), и с этим новым счастливым знанием перестал уже что-либо видеть, и слышать, и чувствовать в этом мире Василий Андреич.
Так Любовь устрояет. Она – последнее слово Толстого. Из природы выросшая, она над природой поднялась и живой вершиной своею увенчала ту храмину естества, воспроизведенную Толстым, о которой говорит Бодлер. И на свете все «образуется» ее, любви, стихийной силой. Покуда в это верил и только этим жил творец «Войны и мира», он был художник. Но художества ему показалось мало, и он жизнь захотел осмыслить, определить, объяснить. Он забыл, что сам прежде, как писатель, отказался от этого. Прежде он считал, что можно жить хорошо, а думать дурно – жить «духовными инстинктами»; что ответы находишь тогда, когда не спрашиваешь, так как мысль и жизнь несоизмеримы. Его Левин не мог построить жизнь как систему, понять себя и ее как целое, но он продолжал жить и в самом существовании находил его философию и тем, что жил, влагал в свою жизнь несомненный смысл добра. И другой искатель правды, представляющий самого Толстого, был возмущен жестокосердием богатой люцернской публики, ничего не подарившей бедному музыканту, и он не мог понять и уразуметь этой жестокости и несправедливости, в которой отразилась вся неправда мира. Но потому ли, что он заметил «большие добрые глаза» горбатой судомойки, участливо смотревшей на обиженного певца, или потому, что вообще углубилась работа его духа, – он понял всю бесплодность попытки точно разделить жизнь на добро и зло и авторитетно указать сферы и границы каждого из них. «Веками бьются и трудятся люди, чтобы отодвинуть к одной стороне благо, к другой – неблаго. Проходят века, и где бы что бы ни прикинул беспристрастный ум на весы доброго и злого, весы не колеблются и на каждой стороне – столько блага, сколько и неблага. Ежели бы только человек выучился не судить и не мыслить резко и положительно и не давать ответов на вопросы, данные ему только для того, чтоб они вечно оставались вопросами!.. Сделали себе подразделения в этом вечно движущемся бесконечном, бесконечно перемешанном хоасе добра и зла, провели воображаемые черты по этому морю и ждут, что море так и разделится… Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, Всемирный Дух, принимающий нас всех вместе и каждого как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно, – тот самый Дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить семя к осени и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу».
Толстой забыл эти слова, эту истину «прагматизма», забыл о том, что жизнь, великая путаница, иррациональна, и своими теориями он хотел раздвинуть ее, как Чермное море, на две стены. Беспредельно сильный как художник, не встречая на этом своем, эстетическом, пути ничего недоступного, никаких препятствий, он упрямо пожелал добиться таких же результатов и в сфере разума, философских определений и логики, – и здесь он потерпел крушение. Неверный самому себе, он сам ушел от природы, он сам изменил ее стихийному безмыслию и на утлой ладье человеческой мысли возмечтал достигнуть обетованной земли, переплыть океан мировой сложности. Он старался, в своем качестве мыслителя, быть Сократом, он рационализировал жизнь. Но Сократ не любил природы, и это было для него так последовательно; а Толстой, возлюбленный и любящий сын природы, наоборот, только в силу непоследовательности, по недоразумению, мог свою художническую гениальность менять на указку моралиста и мыслителя. Природа, к счастью, его мать великая, этого обмена не позволила. И пусть он хотел меньшего – достигал он большего. Он сказал про свою героиню Лизу, что у нее было «неиспорченное умом, доброе, прямое сердце»; вот и свое сердце, ясновидение своей любви и дарования он пытался испортить умом, или умствованием. Если всегда яркой напряженности его непосредственных впечатлений и зорких наблюдений грозило его резонерство, если всегда сомнениями духа своего, недоумениями ума своего противостоял он непринужденному дыханию живой жизни, то в последний период его творчества особенно оправдалось его предчувствие и обезоруживающее признание: «я начинаю понемногу исцеляться от моих отроческих недостатков, исключая, впрочем, главного, которому суждено наделать мне еще много вреда в жизни, – склонности к умствованию»; в этот период над его естественной личностью одержали было победу шаткое размышление и бесплодный интеллектуализм, и вот соткалась безотрадная сеть недоразумений, противоречий, непонимания, – эта печальная мель в глубоком Толстовском море.
Книги – события. Порождаемые страстностью и заинтересованностью своих авторов, они и у читателя не попадают на мертвые точки, в зону душевного безразличия. В этом – их великая действенность, и оттого теряется граница между словом и делом. Но все-таки в начале было Слово. И потому все, что происходит от него, все от Слова рожденные слова лишь тогда поднимаются на самую вершину своих благотворных влияний, когда они проникнуты художественностью. Ибо есть у слова поверхность и есть глубина, есть недра слова – искусство заложено именно в них. Вот почему Толстой влиятелен и властен больше всего как художник. И то, что спасает в нем красоту и художество, спасает их от него самого, от покушений тенденциозности, – это натурализм. Природа – палладиум искусства. Ум не первенец природы, и оттого на ком лежит печать ее исключительного благоволения, те ее особенные избранники и любимцы движутся под знаком не ума и мысли, а непосредственной художественности; у них больше интуиции, чем рефлексии. Разум – аскет; душа же в миру живет. Разум – педант; весь же человек духовно свободен. И потому как ни старался Толстой заглушить свои художественные произведения мыслью, он в этом, к счастью, не успевал. Например, в драме «И свет во тьме светит» от прикосновения эстетического реактива, независимо от воли автора, скорее – вопреки ей, проявила теория толстовства свои отрицательные стороны; и характерно, что наиболее бледной фигурой в этой пьесе оказывается тот самый Сарынцев, который должен олицетворять собою толстовские идеи. Толстому не удался Толстой. И граф Толстой так же не мог быть толстовцем, как его князь Касатский не мог быть отцом Сергием. Монашество потому не удовлетворяет последнего, что оно меньше природы. Оно – часть; целому хочется целого. От природы ни в какую пещеру скрыться нельзя. И когда однажды, в чудный майский вечер, в кустах щелкали и заливались соловьи, отец же Сергий умственную молитву творил, псалом читал, – «вдруг, среди псалма, откуда ни возьмись, воробей слетел с куста на землю и, чиликая, попрыгивая, подскочил к нему». Это гениально: среди псалма воробей. Природа ворвалась в умственную молитву, и как раз это должно было бы не ослабить, а усилить религиозность отца Сергия. «Соловьи заливались; жук налетел на него и пополз по затылку. Он сбросил его». «Да есть ли Он? Что, как я стучусь у запертого снаружи дома? Замок на двери, и я мог бы видеть его. Замок этот – соловьи, жуки, природа». Именно если так думаешь, то на вопрос «есть ли Он?», ответишь утвердительно. Ибо Он, это – Она. От Нее, природы, приходишь к Нему; по крайней мере, именно этим ключом, силою своею натурализма, иррациональной мощью гения, стихийностью своего существа, открывал Толстой-художник все двери тайн, осязательно являл миру божественность мира. Религиозны не его богословские трактаты, а его романы, как религиознее птицы, чем псалмы. Вещий голос послал Сергия к Пашеньке, к той, кто служит Богу среди людей и через людей, кто осуществляет добро не в монастыре, а в миру, и кто творит этим живую волю естества. И оттого Сергий, теперь больше отец Сергий, чем прежде, пришел к ней, к этой первой и последней инстанции, к природному сердцу человеческому, и жалостно дрогнувшими устами сказал ей: «Пашенька, я к тебе пришел, прими меня!»
Вообще, счастливо видеть, как у Толстого сквозь рассуждения и морализации его позднейших книг прорывается, словно луч неугасимого солнца, прежняя сила художественных очарований. Пусть, например, тенденциозно «Воскресение», пусть иные его страницы публицистичны, но всю эту преднамеренность искупает и в красоту, в последнюю эстетику, претворяет, священная скорбь, проникающая книгу, выстраданное недовольство современным строем жизни, которая чахнет под взглядом «оловянных глаз» какого-нибудь деспота. Примечательно зрелище, что, старый, Толстой – с молодыми, со всеми этими «альтруистическими личностями», что все эти юные политические преступники, наивные мечтатели и утописты, как благородный Симонсон, который женится на Кате Масловой, для того чтобы «эта пострадавшая душа отдохнула», – что все они имеют его на своей стороне.
Теперь мы знаем, что эти делатели революции ввергли свою страну в бездонную пучину страдания. Но поскольку есть правда в отрицании государственности вообще (а частичная правда в нем есть) и старой русской государственности особенно, поскольку бездушие знаменуют те «светлые пуговицы», какие претили Толстому, постольку был он прав в своих симпатиях к молодой России. И трогательно видеть его ласковое внимание к этой молоденькой девушке с энергичным лицом и короткими волосами – Толстой, седой и мудрый, рядом с нигилисткой, Толстой, с улыбкой выслушивающий речи, «пересыпанные иностранными словами о пропагандировании, о дезорганизации, о группах, секциях и подсекциях»! Он отрицает политическую революцию, он не может не отрицать ее; но, например, в рассказе «За что?» явил он всю красоту борьбы за свободу, и, сам недовольный всей совокупностью мировых учреждений, Толстой в сущности, – самый страстный бескровный революционер, потому что он требователен к отдельной личности, всего ждет как раз от нее, только от нее ждет ее преображения – он ищет внутреннего переворота. И потому, что он, которому было так много дано, хотел так много и от каждого из нас, мы бессильны были осуществить его надежды и требования; и, как моралист и человек, переживал он горькую драму: он говорил, мир не слушал, мир продолжал свое неправое дело и даже отлучал от себя, от своей частной церкви, своего изобличителя – забыв, что опровергнуть Толстого можно лучше всего аргументами из него самого; забыв, что это именно он, в своих лучших созданиях, осветил немеркнущей поэзией и «скрытую теплоту патриотизма», и личность русского царя (Александра I), и доблесть воина, и церковную службу (молитва Наташи, венчание Кити) – все то признанное и традиционное, к чему он потом переменил свое отношение и за отрицание чего поносили и кляли его прославленное имя. Не приняли во внимание, что у него есть своя литургия, свое богослужение: это err художественное творчество, которое по духу своему так религиозно и консервативно, как консервативна сама природа, и которое проникнуто глубоким утверждением божеских и человеческих ценностей. Именно художественное строительство самого Толстого, вопреки Толстому-теоретику, показывает нам, что личность – это вовсе не революционная и цельная душа, которая все может, на которой не почило прошлое, которой не осилили история и оцепеневшие формы быта, и собственная нестройность; в этом смысле далеко не совпадают сложный и слабый человек в понимании Толстого прежнего и прямолинейный человек в понимании Толстого новейшего. Впрочем, быть может, как раз художественное наитие и открыло ему когда-то самые глубины людских возможностей и внушило ему надежду на них и непоколебимую веру в их реализацию, в грядущее царство любви? Как художнику явился впервые Толстому человек и, несмотря на свою нецелостность, перед ним оправдался. Прежде чем в Толстом оказался мыслитель и учитель, он был поэт.
И тем печальнее, что свою поэзию, правду своих непосредственных вдохновений, Толстой хотел разрушить и себя как художника сурово осуждал. Дивный ток душевности льется от его страниц; жизнь и люди, даже разоблаченные, в его психологической живописи ярко осенены светом счастья и умиления; с глубиной и простотою в чистом ореоле показаны и миниатюры, и бесконечные перспективы духа, а сам создатель всей этой живой радости угрюмо отказывался от своих творений. Его, жизнедавца, его, подателя неисчислимых утешений, могучего, великого, с благословениями окружало человечество его книг, у подножия его духовного престола восседали с любовью и лаской все эти Пьеры, Болконские, Анны Каренины, все эти дети и девушки, незабвенные Кити, Маши, Наташи, которых он воззвал к бытию, к «семейному счастью», в которых он вдохнул прекрасные сердца, и все они, благодарные за жизнь, припадали к его старой отцовской руке и молитвенно простирали руки к нему, своему Богу-Отцу с седой бородою, – а он отворачивался от них, не смотрел на них и, недовольный, неблагодарный к своему гению, как новый Гоголь, нравственно сжигал свои не мертвые, а живые души…
Но если священные предания учат нас, что Бог создал мир, то нет такой легенды, которая бы говорила, что Бог взял мир обратно. И Толстому не удалось разрушить то, что он сотворил, и грядущие поколения будут приникать к его животворящим книгам с такими же слезами восторга и счастья, какие знали и мы, и те, которые были до нас. Нельзя сопротивляться стихийной силе таланта; своей гениальности потушить нельзя. Может быть самоубийство человека, но не самоубийство художника. Проповедуя непротивление злу, Толстой зато противился добру – добру своего дара; но, к счастью, в этой битве с собою он был собою осилен.
Это нисколько не исключает того, что Толстой нам дорог весь – не только в своем художественном центре, но и на всей своей периферии. Можно, и даже должно, не принимать его мировоззрения, но нельзя не принять самого типа его личности. Когда подходишь к ней, тогда уже не делишь Толстого на художника и мыслителя, тогда высоко ценишь целое. Книги его можно разделять – сам он, как живой образ, неделим. И в этом отношении среди обильных психологических красот, среди прекрасной выразительности, отличающей повесть «Нет в мире виноватых», так важны и такого глубокого смысла полны субъективные признания Толстого. Вот он говорит: «…тем-то и страшна жизнь, что телесные поранения, всякие болезни не забываются и заставляют страдать и бороться; поранения же нравственные, духовные сглаживаются для людей, не живущих духовной жизнью, сглаживаются просто течением жизни, мелкими интересами обихода, засыпаются мелким сором обыденной жизни». Когда-то он бы этого не сказал; когда-то он не сетовал на Наташу Ростову, а благословлял ее за то, что смерть Болконского, это «нравственное поранение», эта духовная рана, у нее зарубцевалась; и целительные силы жизни, ее «образуется» он не решился бы отожествить с мелочами и сором обыденности. Но чем дольше он сам жил, тем страшнее, именно страшнее казалась ему наша способность заглушать свои духовные боли, наша удобная способность привыкать. И величие его как человека сводится именно к тому, что над ним привычка не взяла верха. Он успокоиться не мог. Он упорно искал выхода из жизненных тупиков, безустанно решал мучительные задачи, хотел сломить социальную обиду и неправду. И то, что в мире нет виноватых, что есть целая система преступности, круговая порука зла, – это не утешало его. Он искал. И, не находя спасения и чувствуя, что вместе с другими влечет его самого волна повседневности, он, старый, приходил в отчаяние. И неотразимо действует его жалоба на самого себя, его сокрушение, что он не имеет сил уйти из своей беспечной, но «развращающей, преступной» среды. Когда же эти силы явились к нему и он ушел, тогда он умер. Но многих смерть застает уже мертвыми, – Толстой умер живым. «На девятом десятке, ослабевший телесными силами… все сильнее и сильнее сознавая всю преступность своего положения, я все более и более страдаю от этого положения». На девятом десятке… Казалось бы, в эти годы можно бы уже успокоиться и привыкнуть к себе, – мы это делаем гораздо раньше… Но вот Толстой к жизни и к себе не привык, на жизнь и на себя не махнул рукою и унес к тому Богу, в которого он верил, душу непривыкшую и неуспокоенную, душу требовательную, душу поистине бессмертную. И когда думаешь об этом, то он восстает перед нами весь, единый, цельный и великий.