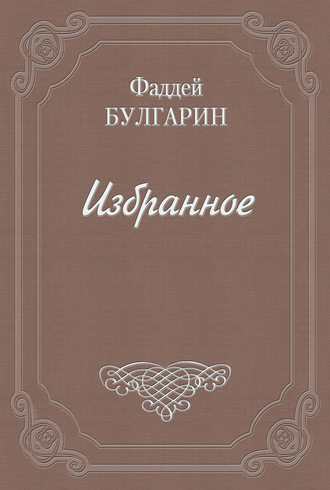
Полная версия
Воспоминания
"Король, верно, не ограбит нас", сказал мой отец, "а напротив, защитит. Зачем нам таскаться по чужим домам: останемся!" Мать моя согласилась, и мы остались. Родители мои приготовили комнаты, велели даже обить мебель в двух комнатах новым бархатом и адамашком (старинной шелковой тканью, весьма прочной), запаслись лучшими съестными припасами и винами, и ждали гостя, хотя и не весьма спокойно. Наконец нам дали знать, что шведы уже приближаются, и к вечеру приехали к нам двадцать четыре человека трабантов с офицером, который поставил у ворот двух конных часовых, а на воротах вывесил большой желтый флаг с шведским гербом, в знак того, что здесь королевская квартира. Для трабантов и офицера отвели комнаты во флигеле, но шведы не хотели знать их, и провели ночь среди двора, возле огня, и даже не расседлывали лошадей, хотя ночи были еще довольно холодны, потому что это было в половине марта, а зима того года была продолжительная.
Всю ночь вокруг дома и по дороге беспрестанно разъезжали трабанты и подавали сигналы, крича из всей силы, не давая нам уснуть. Со светом потянулось войско шведское мимо нашего дома, и при виде королевского знамени били в барабаны. Полка две пехоты и несколько эскадронов конницы остановились за нашим гумном лагерем, а в самом гумне поместились офицеры. Матушка, я и две покойные мои сестры принарядились; отец надел свой парадный кунтуш, и мы не отходили от окна, чтобы встретить короля у крыльца.
Около полудня въехали во двор два шведские офицера, а за ними конный солдат. "Неужели это адъютанты шведского короля, так бедно одетые?" заметил отец мой. Офицеры слезли с лошадей и вошли в переднюю, а потом в залу, окнами в сад; их встретил маршалек нашего дома (мажордом), потому что все мы были в столовой, окнами на двор. Маршалек доложил батюшке, что офицеры спрашивают хозяина дома. Мы все перешли в залу, приказав служанке дать знать, когда король въедет в ворота. – "Вы ли хозяин дома?" спросил вежливо, по-немецки, офицер помоложе другого. – "К вашим услугам; что вам угодно?" отвечал отец. – "Здесь королевская квартира: укажите, пожалуйста, комнаты короля", примолвил офицер. – "Весь мой дом и все, что в нем, к услугам его величества", возразил мой отец. – "Для него довольно и одной комнаты", отвечал офицер; "а комнаты две прошу я для канцелярии, для королевского министра и для двух адъютантов". – "Распоряжайтесь, как вы знаете – весь дом мой принадлежит его величеству!" отвечал батюшка. "Но позвольте узнать, скороли король прибудет, чтобы встретить его, как подобает, у крыльца?" Офицер улыбнулся: "Вы уже его встретили, и гораздо покойнее для вас и для него – я король!"
Мы остолбенели. Отец мой хотел извиниться, но не нашел слов, и только кланяясь провел его в парадные комнаты. Как теперь вижу его перед собой, этого страшного короля, о котором написали столько книг! В три дня я насмотрелась на него в волю. Он напугал весь свет, а сам был смирен, как ягненок, скромен, как монахиня. Он был довольно высокого роста, тонок и поджар. Лицо у него было маленькое, совсем не соразмерное целому туловищу и даже голове. Красавцем он не был; нельзя однако ж сказать, чтоб он был дурен лицом, хотя был рябоват. Зато темно-голубые глаза блестели как алмазы. Немецкое платье покрывали голову огромными париками, что нашим полякам казалось и смешно, и неприлично; но король шведский не носил парика. Волосы у него были каштанового цвета[10], легко напудренные, остриженные коротко и взбитые или взъерошенные вверх, а с тыла связанные в небольшую косу. Он казался очень моложавым[11].
Он всегда был в синем мундире с желтым подбоем и красным воротником, в желтом лосинном нижнем платье и огромных сапожищах с пребольшими шпорами. Плащ его, лосинные перчатки, доходившие до локтей, сапоги и шпоры были вовсе не по его росту, и мы, девицы, насмехались над этим Голиафовским вооружением. Шляпу носил он маленькую, без галуна, да и во всем его наряде не было на один шелюг золота или серебра. Родители мои беспрестанно говорили нам: "Рассматривайте Короля! Это великий муж, как наши Ян Собиеский и Стефан Батори!" Отец мой, не любя немцев, весьма уважал Карла XII за то, что он выгнал Короля Августа II из Польши, и посадил на престол шляхтича, Станислава Лещинского.
Через час приехали две коляски и две крытые фуры с людьми королевскими. С этим обозом прибыли королевский министр[12] и другой адъютант. Между королевскими людьми был и переводчик, и мать моя через него стала расспрашивать камердинера, какое кушанье король более любит. – "Всякое жареное мясо, свинину и дичь, отвечал камердинер; из зелени шпинат, а из приправ петрушку и руту. Свежих фруктов теперь нет, но если у вас есть лимоны, положите перед ним на столе: Король очень любит их". – «А какое вино пьет король?» спросила матушка. – «Ни какого!» и отвечала камердинер: «король не пьет даже пива; он пьет одну воду». – У нас всего было в запасе; матушка умела даже сохранять целый год свежие яблоки. – Обед был готов в два часа, и матушка спросила у камердинера, на сколько особ прикажет король накрывать стол.
Камердинер доложил королю, и потом объявил матушке, что король будет кушать за одним столом со всем нашим семейством. Это всех нас обрадовало, и отец сожалел, что братьев моих не было дома; они тогда были в Вильне, в школе. Я не спускала глаз с короля во время стола. Он ел с аппетитом, и особенно ему понравилась голова дикого кабана (la hure) в студне. Он ел охотнее жирное, и вообще употреблял много хлеба. Во время обеда, он расспрашивал батюшку о положении края, и сказал, между прочим, что война скоро кончится, и он даст средства Станиславу Лещинскому вознаградить Польшу за все, ею претерпевшее.
Перед обедом приехали к королю три генерала, которых батюшка упросил остаться с нами откушать, и они также поместились за общим столом. Все шведы порядочно пили вино, похваливали его, и нисколько не стеснялись присутствия короля. Но он пил одну воду, жевал беспрестанно хлеб, и не обращал на других внимания. С нами, т. е. с женщинами, он не промолвил ни словечка, и только сказал комплимент матушке, насчет ее хозяйства, когда узнал, что яблоки из нашего сада. На другой день камердинер сказал матушке, что король всем очень доволен, но просит, чтоб за столом было не более четырех блюд, и чтоб обед продолжался не больше четверти часа. На ужин король пил стакан сладкого молока, примешав в него соли, и съедал большой кусок хлеба.
Все утро он проводил за бумагами. Камердинер сказал нам, что король для того только и остановился у нас на трое суток, чтоб написать бумаги, которые с нарочным должно отослать в Швецию. После обеда он прогуливался в саду, по большой аллее, со своим министром, а мы рассматривали его из беседки. – Отъезжая, король из своих рук подарил отцу моему золотую табакерку со своим вензелем из алмазов, и велел заплатить за все забранное для его людей и лошадей. Отец мой обиделся этим и сказал адъютанту, что он шляхтич, а не трактирщик, и угощает Короля, а не торгует съестными припасами и фуражом.
Когда мы узнали о несчастии Карла под Полтавой, мы душевно сожалели о нем, хотя и не теряли надежды, что он еще поправится, а когда к нам пришло известие о его смерти – мы все плакали!"
"Видала я также и соперника Карла, московского царя Петра", примолвила прабабушка: "это было в 1711 году, также в половине марта. В Слуцке стоял русский фельдмаршал Шереметьев (прабабушка называла его Шеремет), и мы приехали со всем семейством в Слуцк, чтоб просить у него залоги, потому что его казаки и разные дикие народы, башкиры и калмыки, производили страшные грабежи. В это время разнеслась весть, что сам царь будет в Слуцке, вместе с женой своей, которую тогда впервые назвали царицей.
В Польше говорили, что новая царица родом польская шляхтянка, из фамилии, оставшейся в Лифляндии от времени Сигизмунда и впоследствии обедневшей. Все наши дамы весьма любопытствовали видеть царицу, и подговорили мужей своих дать бал для царя. Для этого убрали огромную залу на Радзивилловской поясной фабрике[13] и приготовили великолепное угощение. Царь прибыл с царицей и своими генералами и офицерами. Он был великан ростом, молодец собой и красавец, с черными усами и орлиным взглядом, только огромный парик весьма вредил его красоте. Он был в синем мундире, и казался ловок и развязен. Говорил он громко, шутил и смеялся. Ему было уже под сорок лет, но по лицу он казался моложе. Меня весьма удивило, что и у царя, точно как и у его соперника, Карла, лицо, по росту, казалось несоразмерно малым. Царица была очень недурна собой, с большими черными глазами и прелестными плечами, белыми как снег. Она была в белом атласном платье, с малиновым бархатным верхом, впереди расстегнутым, и с шлейфом, и вся в алмазах и в жемчугах. Волосы были напудрены, и над высокой прической была маленькая алмазная корона. Она говорила изрядно по-польски, хотя и примешивала русские слова, но по-немецки объяснялась хорошо.
Царь Петр, увидев меня, подошел ко мне, и, похвалив мой рост, спросил, сколько мне лет, а потом промолвил, что если я хочу идти замуж, то он доставит мне жениха по моему росту. Потом подозвал гренадерского офицера, такого же великана, как и он сам, и представил его мне. Понимая шутку, я отвечала, что напротив, я хочу маленького мужа. – "Чтоб держать в руках, не правда ли?" сказал царь, улыбаясь. "Ой, вы, польки!" С этим он оставил меня.
Царь и царица танцевали польский и остались ужинать. За столом царь пил вино из большого бокала, за здравие Короля польского Августа II и за благоденствие республики, называя себя другом ее, и был весьма фамильярен с поляками. Наши пили за здоровье царя, царицы и русского войска. Один из нашей шляхты, выпив порядком, сказал, что если бы он дожил до выборов, то дал бы голосна избрание царя в короли польские, что весьма ему понравилось, и он провозгласил тост за здоровье польской шляхты. Потом провозглашены были тосты за здоровье дам, и наконец наш знаменитый народный тост: "kochaymy sie"[14]. Когда все встали при этом, по старинному обычаю, и начали обниматься и целоваться, царь также целовался и обнимался со всеми. Разъехались по домам поздно, и все мужчины уже порядочно навеселе. Наши поляки весьма полюбили царя за его популярность, что именно в нашем народном духе, и жаловались ему на любимца его, князя Меньшикова, который не отличался бескорыстием, и забрал все драгоценности даже у пани Огинской, тетки пана Огинского, самого сильного царского приверженца, воевавшего за него против шведов. Царь сказал, что все зло делается против его воли, и что Меньшикову не пройдет это даром, а пани Огинская получит обратно все у нее взятое.
Царь с царицей пробыли в Слуцке пять дней, и я видела его ежедневно на улицах и в доме пана Хлевинского, без большого парика он был красавец. Он узнал меня при первой встрече, после бала, и повторил свою шутку, утверждая, что я должна быть непременно его гренадершей, т. е. женой его исполинского капитана. Но все же скромный и задумчивый Карл мне больше нравился!".
Хотя Петру великому и не удалось выдать замуж моей прабабушки за саженного гренадера, но в доме ее была настоящая гренадерская субординация. Она страстно любила вышивание по канве и в тамбуре, и будучи уже не в состоянии сама работать, находила наслаждение в руководстве работами, и имела в доме своем род мануфактуры. Более двадцати крепостных девушек, с полдюжины сирот и воспитанниц и несколько бедных шляхтяночек ежедневно занимались вышиванием ковров и обоев. Все стены и все мебели в ее доме обиты были превосходнейшим шитьем, едва ли уступающим гобеленовым обоям. Этих ковров и обоев она никогда не продавала, но не только родным, а даже и значительным людям, не по их силе, а по ее выбору, и самому королю польскому, посылала она в подарок свои изделия, которые высоко ценились знатоками. На выписывание рисунков она не жалела денег. На больших стенных коврах рисунки изображали битвы, охоту; фигуры были в натуральный рост. На старинной массивной мебели, над дверями, над окнами и даже на печах и на всей домашней посуде и утвари были вырезаны или нарисованы гербы нашей фамилии. В портретной зале была коллекция портретов наших предков с XVI века. Словом, это был в полном смысле дом исторический, и если Литва имела своего Вальтера-Скотта, то Русиновичи и вотчинница этого имения непременно играли бы роли в историческом романе.
Обычно в Русиновичах также принадлежали к истории. Русское бью челом и польское padam do nog (т. е. упадаю к ногам вашим) не суть пустые выражения, или одни комплименты. Везде, в старину, бедный и слабый бросались к ногам богатого и сильного, и били перед ними челом в землю, как это и до сих пор ведется на Востоке и между крестьянами в России и Польше. И теперь еще, даже у богатых купцов и дворян русских, придерживающихся старины, молодая пара, перед венцом, бросается в ноги родителям, и просит благословения. В Польше, в прошлом веке, все родные в нисходящей линии должны были падать на колени перед старшими родными, и целовать ноги родителей. У моей прабабушки, пани Онюховской, этот обычай велся до ее смерти. Когда мы приехали к ней, она сидела в больших креслах. Мои родители и сестра пали к ногам ее, заставив и меня сделать то же, и она протянула ногу, которую мы поцеловали. Потом она приказала нам встать, и дала обе руки для облобызания, и уже после этой операции приподнялась с кресел, поцеловала всех нас в лицо, благословила и велела родителям моим сесть, а мне и сестре стать возле ее кресла.
Отец мой рассказал ей обо всем случившемся с нами, не забыв и того, что все вещи наши остались в руках наездников, и что мы имеем только то, что на нас. Прабабушка не сказала в ответ ни слова, а только покачала головой.
Мы приехали утром. – "Ступайте же в ваши комнаты, и отдохните", – сказала прабабушка: "а я займусь хозяйством". Любимая ее девка отвела нас в назначенные нам комнаты, и тотчас явился повар, чтобы расспросить о любимых блюдах каждого из нас. Через час лакеи внесли к нам кипы. Тут был холст, батист, шелковые материи в кусках, кружева, платки, даже сукно. Не забыты были и ковры. По старо-польскому обычаю, все это надлежало иметь в запасе в порядочном доме. При каждой покупке земных произведений у помещика, купец, по обычаю, должен был дарить хозяйке и, кроме того, на каждой ярмарке покупались новые товары, хотя без нужды, чтобы только купить что-нибудь, и оттого кладовые в домах были полны. По счастью, во время последней войны, начальник войск русских, человек образованный, узнав, что моя прабабушка лично знала Петра Великого, нарочно ездил к ней, и из уважения к памяти великого мужа, хотевшего сделать ее своей гренадершей, дал ей залог и охранительный лист, и дом ее остался неприкосновенным. Любимая служанка прабабушки объявила, что барыня просит нас принять все это на первый случай.
Мне ужасно хотелось побегать в саду, но отец мой сказал, что здесь нельзя гулять в саду без особого позволения хозяйки. Все находившиеся под крышей дома должны были сообразоваться с волей хозяйки; таков был старинный обычай! Пей, ешь, спи и прогуливайся не когда хочешь, а когда велят! Каждый был в своем доме властелином, а в чужом доме подданным.
Нас позвали к обеду, и родители мои снова хотели повторить обряд коленопреклонения, но прабабушка не допустила до этого; довольно было и одного раза! Изъявление благодарности моих родителей она выслушала хладнокровно, и отвечала только пословицей, соответствующего русской поговорке: "свой своему поневоле друг". Все кушанья стояли на столе, по старинному обычаю. Обыкновенные кушанья, для всех, были в серебряных крытых блюдах, а кроме того, перед каждым гостем и перед сыном прабабушки, королем, стояли маленькие красивые горшочки и кастрюльки с отборным кушаньем, по вкусу каждого. Прабабушка сама указала нам места: по правую руку посадила матушку, по левую своего короля, за матушкой меня и сестру, а возле своего короля отца моего. Далее сидели панны (т. е. шляхтянки, служащие в доме) и поживальницы или резидентки, комиссар, эконом и несколько бедных шляхтичей, приехавших с почтением или за делом. Перед мужчинами стояли кружки с пивом. При конце обеда, лакей поднес отцу моему бокал венгерского вина. За столом все молчали и только отвечали на вопросы хозяйки. После обеда я пошел гулять в сад, с королем. Хотя он уже тогда был в возрасте, однако же играл со мной как ребенок, и пускал воздушного змея. Он был близорук, оттого что в детстве его держали в комнатах, закрытых занавесами, чтобы не испортить зрения; притом он сильно заикался.
Приехал наш адвокат из Минска, и сказал, что при просьбе надлежало представить список всем вещам, оставленным в Маковищах, т. е. всей движимости, с примерной оценкой ее. Родители мои и сестра Антонина занялись этим, и на другой день от всех представлены были адвокату списки, из которых он должен был сделать общий свод. К общей поверке списков призваны были наши слуги и служанки.
Не могу забыть сцены, когда адвокат, начав читать список, поданный матушкой, вдруг бросил его на стол со своими очками, вскочил со стула и, отступив на шаг, поднял руки с удивлением, воскликнув: – Гарнец жемчуга!
– Что это значит? – спросил батюшка.
– Тут написано, что у вашей супруги был целый гарнец жемчуга, не в деле, просто как горох в мешке! – сказал адвокат.
Отец мой посмотрел с удивлением на матушку, и сказал: Об этом я ничего не знаю, и теперь впервые слышу!
– Потому, что я об этом никому не говорила, и хранила этот жемчуг, как последнюю помощь, в случае несчастья. Анна! промолвила матушка, обращаясь к моей няньке, (самой верной из всех слуг и ее молочной сестре, т. е. дочери ее кормилицы), – помнишь ли тот мешок, который мы зарывали с тобой в землю, ночью, под большим дубом, возле пруда, когда разнеслись вести, что наши снова будут воевать с русскими?
– Как не помнить, сударыня, – отвечала нянька: – ведь это было в третьем году; мешок был желтый, сафьяновый, точно такой, в каких для барина привозят курительный табак, а вырыли мы его только нынешней весной.
– Это был мешок с моим жемчугом, данным мне братьями моими в приданое, при втором моем замужестве, сказала матушка.
Адвокат покачал головой и возразил: Помните, что в этом вы должны присягнуть.
– Присяга не страшна в правом деле; я и братья мои присягнем, что у меня был целый гарнец жемчуга!
– Как угодно, – сказал адвокат, сев на свое место. Отец мой надел шапку и вышел на крыльцо, взяв меня за руку. Он смотрел вверх и посвистывал, а это означало, что он недоволен. Он не сомневался в истине показания матушки, но ему досадно было, что она перед ним скрывала это.
Когда прабабушка узнала об этом гарнце жемчуга, она ни мало не усомнилась, и сказала: «Если бы из дома Бучинских дан был и целый корец жемчуга, то я бы не удивилась, зная, что этот дом исстари славился богатством и порядком, а что Анеля (имя моей матушки) не сказала об этом моему пану Венедикту, за это похвалю ее. Знаю я хорошо его девиз: день мой – век мой, сегодня жить, а завтра гнить!» В самом деле, отец мой повторял это, когда его упрекали в излишней щедрости и хлебосольстве.
Прожив несколько дней в Русиновичах, мы отправились в Минск. Перед отъездом повторились коленопреклонение, целование в ногу и в руки и благословение. Прабабушка дала моей матери кожаный мешочек со ста червонцами, завязанный и запечатанный; сестре подарила десять червонцев, а мне один червонец, на конфеты. Отца моего она только погладила по голове, и сказала: "Живи скромнее!" Когда мы уселись в коляску, отец ощупал под ногами мешок; он приподнял его; мешок был с рублями и с надписью: "500 рублей".
Мои родители не могли надивиться щедрости прабабушки: она весьма редко дарила деньгами родных, и подарок ее никогда не превышал ста злотых польских. Видя нас в несчастном положении, она отступила от своего правила. Фамильная гордость восторжествовала над всеми чувствами и правилами. Она даже не одобряла смирения отца моего, и сказала, что надлежало пустить пулю в лоб дерзкому, осмелившемуся беспокоить шляхтича в его доме! Таковы были польские женщины в старину. Они поджигали мужей и сыновей своих на битвы.
Прибыв в Минск, матушка подала просьбу, с приложением инвентаря оставшихся в Маковищах вещей, и через неделю уехала со мной и с сестрой в Белоруссию, к своим родным, а отец мой остался лечиться у доктора Марбурга, в Минске.
В Могилевской губернии, в Оршанском уезде, жил близкий родственник матушки, Викентий Кукевич, маршал (дворянский предводитель) Оршанский, в имении своем, называемом Высокое (принадлежащем ныне князю Любомирскому). Кукевич был холост и уже более нежели в среднем возрасте. Это был самый честный и благородный человек, какой только может быть между людьми, но имел некоторые непостижимые странности. Он любил уединение и проводил большую часть дня или в своей комнате, или в поле, в лесу, в разговорах, с самим собой. Мы несколько раз смотрели с сестрой в замочную скважину, чтобы узнать, чем он занимается. Он ходил по комнате сперва тихо, потом шибко, говорил громко, щелкал пальцами, смеялся, хохотал, взявшись за бока, садился, кланялся, шаркал, потом пел и наконец, устав, ложился, а отдохнув, являлся в общество, как будто ничего не бывало; был чрезвычайно любезен, снисходителен и вежлив со всеми. Он был в одно время опекуном князей Любомирских и племянницы своей, богатой сироты Куровской, которая и воспитывалась в его доме. Решено было, чтобы сестра моя и я остались в доме Кукевича, сестра для беседы и надзора за родственницей Куровской, а я для воспитания. Отец мой, хотя неохотно, но согласился на это, намереваясь приехать к нам.
В доме Кукевича проживало целое семейство филолога, занимавшегося воспитанием детей в домах. Он назывался Цыхра. Старик был человек ученый и превосходный музыкант, нрава кроткого, характера веселого. Сын его Людовик, немного старее меня, был впоследствии знаменитым виртуозом на гитаре. Старший сын преподавал уроки истории, географии и арифметики. Старик Цыхра, человек чрезвычайно добрый и ласковый, полюбил меня как родное дитя, и умел возбудить во мне, мало сказать охоту, нет, страсть к учению. Под его руководством и чтобы ему нравиться, я оказывал удивительные успехи в языках и в музыке, а историю и географию полюбил до того, что меня надлежало силой отрывать от книг, географических карт и глобусов.
Много, весьма много, чтобы не сказать все, зависит от учителя, от его усердия, от его характера и от общения с детьми. Глубокая ученость в учителе не принесет пользы, если он не обладает искусством передавать своих познаний, делать их понятными для детей, и если не умеет привязать к себе детей, не может заставить их полюбить науку, возбудить в них жажду познаний, представить науку в занимательном виде. Хороших учителей весьма мало на свете, и оттого так мало успехов в науках, вообще во всех учебных заведениях. Обучают по должности, учатся поневоле. Учитель будто стыдится своего звания, чуждается своих занятий, и требует, чтоб его почитали чиновником; ученики помышляют не о науках, а об экзамене и чиновничестве!.. Добрый мой Цыхра! Прими и за гробом дань моей благодарности. Ты был образец учителей, учитель, каких я мало встречал в жизни!.. Боюсь сказать, что вовсе не встречал. Все твое честолюбие, почтенный мой наставник, и наслаждение сосредоточивались в успехах, которые делали в науках и музыке дети твои и мы, твои воспитанники…
Между тем процесс кипел в Минске.
Отец мой был нелюбим многими из так называемых выскочек (parvenus) и новых богачей, составивших себе состояние карточной игрой, торговлей совести, грабежом народного достояния в общем замешательстве края, или обкрадыванием польских вельмож, при управлении их делами и вотчинами. Особенно оскорбил он одного нового богача, на последних сеймиках (дворянских выборах), желавшего быть дворянским маршалом. – "Если вы выкопаете из могилы его деда", сказал отец мой шляхте: "то на его черепе еще найдете ермолку!"
Я уже сказывал о снятом парике.
Некто, разбогатевший в службе князя Карла Радзивилла, играл уже важную роль и занимал какое-то место в службе. Он обошелся слишком фамильярно с отцом моим, в большом обществе, в присутствии губернатора Тутолмина. – "Мы часто виделись с вами в доме князя Карла Радзивилла", сказал свысока отцу моему новый богач. – "Правда", отвечал отец: "присматриваясь к порядку в доме князя Радзивилла, я иногда заглядывал и в кухню, и в конюшню, и в лакейскую!" Этого не мог никогда забыть оскорбленный выскочка!
Словом, отец мой часто говорил горькие истины в глаза, и за чванство наказывал жестокими эпиграммами. Теперь все это обрушилось на него, и за него – на матушку! Процесс принял дурное направление, особенно после отъезда в Петербург Тутолмина. На его место назначен губернатором в Минске действительный статский советник К###, человек добрый и правосудный, но не знавший ни польского языка, ни польских законов, ни польского порядка сделок. На первых порах он невольно должен был увлечься, как говорится, течением, которому новые люди, прильнувшие к правительству, давали направление. Гарнец жемчуга, о котором никто не знал в доме, ни муж, ни дети, послужил предметом к шуткам, насмешкам и наконец к обвинению матушки в кривоприсяжестве! Ее отдали под уголовный суд, и к дому ее приставили часовых. Пример единственный и небывалый с польской дамой!









