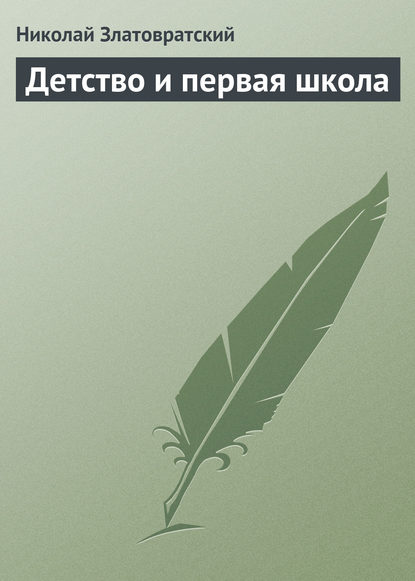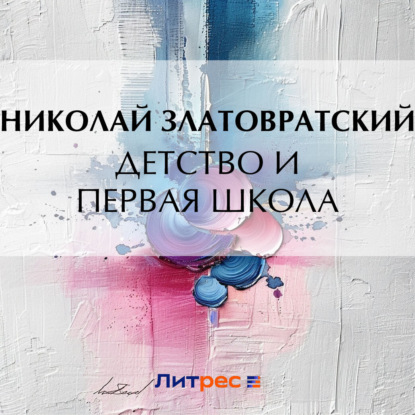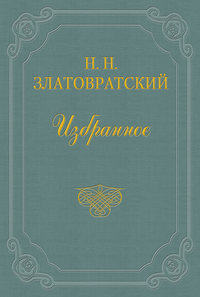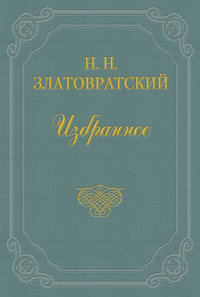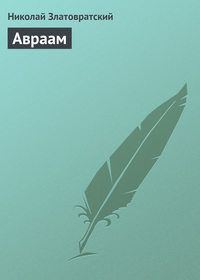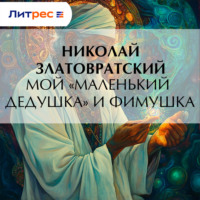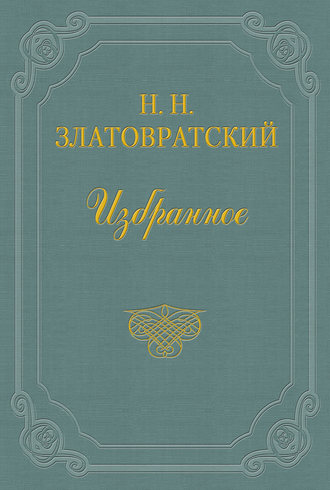 полная версия
полная версияПервые вестники освобождения
Подоспела тут и свежая легенда о Салтыкове, который незадолго был прислан в наш город от министра для ревизии дел по организации местного ополчения и который так встревожил весь наш чиновный мир. «Это, брат, серьезный был человек вполне… О, какой серьезный!… Таких мы не видывали у нас… Да, гляди того, сам министром будет!» – говорили про него напуганные чинуши. И вдруг этот самый будущий министр, к великому изумлению всех, обернулся «надворным советником Щедриным» и все, что видел по ревизиям, то начистоту перед всеми и выкладывает!.. «Ну, кто ж догадается, что это он самый– то наш и есть!.. Вот как чисто ведет дело – никому и виду не подаст. Ну, и башка!..» – восклицали «низы» и бросались отыскивать «Губернские очерки», пускались на всякие средства, чтобы проскользнуть в зал дворянского собрания на литературно-музыкальный вечер, на котором должны были читаться сатиры «нашего Щедрина».
Местная легенда, таким образом, придавала свой специфический смысл и окраску «нашим» писателям, ставила нас к ним в особое, интимное, отношение сравнительно со всеми другими, «не нашими», писателями.
Добролюбовская легенда создалась уже значительно позже.
Так все яснее и яснее стал доходить до нашей провинции гул освободительного движения.
С окончанием экзаменов в семинарии (а они тогда кончались довольно поздно, около половины июля) вся молодежь, которая ютилась около нас (и студенты и семинаристы – их родственники), стала собираться в родные захолустные Палестины, по уездным городкам и селам. Лето в тот год стояло на редкость прекрасное, и деревенское приволье как-то невольно тянуло к себе. И вот я услыхал радостную для себя весть, что матушка со всеми нами, детьми, в сопровождении обоих дядей решила на лето ехать к своим родным в-ский уезд, так как предстояла свадьба ее младшей сестры. Как я уже упоминал раньше, поездки наши в глушь провинции, к деду (по матушке) и к деревенским родственникам, верст за сто, на ямских лошадях, всегда приносили мне огромное удовольствие, доставляя массу совершенно новых впечатлений и оставляя на моей душе глубокий след. Нынешнее наше путешествие в сообществе обоих дядей, так весело и оживленно настроенных, представлялось мне особенно привлекательным. Когда мы одним чудным ранним утром, омытым благоухающей росой, выехали на двух тройках, запряженных в громаднейшие тарантасы, за город, когда были развязаны колокольчики под дугами и раздался их веселый переливчатый звон, когда раскинулась перед глазами широкая перспектива шоссейной дороги, обсаженной кое-где рядами деревьев, – моему восторгу не было конца. Дядя Александр, всегда необыкновенно отзывчивый, мягкий и радушный, теперь, кажется, превзошел самого себя, ухаживая за моими младшими братьями и сестрами, насаженными в оба тарантаса, как цыплята в корзине. Он шутил с нами, напевал песни, весело беседовал с ямщиками и крестьянами на почтовых станциях, которые, кажется, особенно внимательно, хотя и боязливо, прислушивались к вестям «о воле» этого заезжего барина, которыми он мимоходом и наскоро делился с ними. Благодаря такому настроению дяди Александра мы и не заметили, как весело проехали сто верст. Матушка не знала, чем и выразить свои симпатии к своему любимому деверю. Даже обыкновенно хмурый, необщительный и малоподвижной дядя Сергей, напоминавший тип сумрачного бурсака, и тот был необычно весел и оживлен, быть может отчасти благодаря своему новому студенческому вицмундиру. Это же оживленно-веселое настроение дядя Александр продолжал поддерживать и в семье моего деда, несмотря на его благочинкическую сановитость и сугубо домостроевский уклад в его доме. Этому, впрочем, много помогло вообще необычно большое скопление в нынешние каникулы студенческой – университетской и академической – молодежи, которая в духовных семьях с каждым годом увеличивалась все больше и которая значительно изменяла общий характер сложившейся в них жизни. Однако, когда, отпраздновав свадьбу тетки по всем традиционным ритуалам, молодежь, захватив меня с собою, двинулась на Оку, в приокские села, к родственникам молодых, это повышенное настроение скоро значительно потускнело. Чувствовалось, что оно далеко не соответствовало общей окружающей атмосфере. Крестьянская страда, да притом еще крепостная, была в полном разгаре. Робкие и забитые сельские батюшки встречали столичную молодежь сдержанно и боязливо, а о разных столичных вестях шушукались втихомолку. С еще более недоверчиво-боязливым отношением прислушивались к разговорам молодежи крестьяне. Чувствовалась непосредственная близость помещичьих усадеб, в которых еще царило полное крепостное самовластие. Эту перемену повышенного настроения заметил даже я, для которого всякий приезд в деревню раньше представлял только ряд всевозможных ребячьих удовольствий. Мы и теперь, конечно, спешили ими воспользоваться вволю: катались на лодках, ловили рыбу, варили на берегу стерляжью уху, охотились по озерам, даже пели, но все это было уже не то. И для меня впервые, хотя смутно, начало открываться нечто новое и важное, что скрывалось под прелестями деревенской природы. И это «нечто» незаметно как-то вскрыл для меня тот же дядя Александр, который благодаря своей крайне отзывчивой и впечатлительной натуре часто менял свое настроение; после бодрого и веселого подъема духа он иногда быстро впадал в меланхолию, начинал грустить и даже плакать. Теперь, когда мы на большой лодке плыли тихо по Оке целой компанией, дядя Александр все чаще запевал грустные песни, вроде «Лучинушки» 17, или читал нам некрасовские стихи, но на самые мрачные темы. В тон этим песням велись здесь и разговоры; местная молодежь рассказывала, как за вести «о воле» кого-то выдрали на конюшне, кого-то сослали в дальнюю деревню, кого-то даже арестовали, а одного дьякона услали на послушание в монастырь… Я плохо еще разбирался во всем этом, но общее настроение невольно захватывало и меня; передо мною понемногу начинала подниматься завеса над настоящей жизнью; в ответ на новые впечатления вспыхивали старые, полузабытые; вспоминался наш маленький домик в городе и кухня, в которой мы с матушкой так любили слушать рассказы «странних людей», припоминались их вздохи и слезы над чем-то для меня не понятным… Все это складывалось в моей душе в новые комбинации, освещалось, хотя и смутно сознаваемым, но новым настроением.
В этом уже несколько подавленном настроении мы с дядей Александром, заехав за матушкой с детьми к деду, двинулись в конце июля обратно в наш город. По приезде домой нас ожидал целый ряд чрезвычайно важных для всех нас известий.
III
Отец и Николай Яковлевич Д. на первых порах эмансипаторекой миссии. – Последние вспышки крепостнического самовластия. – Дядя Александр похищает меня.
Этому году суждено было вообще сделаться для меня источником разнообразных и неожиданных откровений. Первое, что сообщил отец по нашем приезде, было полученное известие из округа о назначении дяди Александра учителем словесности в гимназию одного из соседних губернских городов. Дядя, повидимому, был очень обрадован, сказав, что лучшего пока он не желает, что о гимназии этой он много слышал хорошего, что там уже служат несколько прекрасных молодых учителей, которых он хорошо знал еще в Петербурге студентами.
Затем батюшка сообщил «чрезвычайно важную новость», что его самого губернский предводитель предполагает назначить при себе секретарем с специальной задачей – следить за ходом как правительственных работ по освобождению крестьян, так и депутатов дворянского собрания в губернском комитете и затем на основании их составить докладную записку по освобождению, что, таким образом, ему предстоит новое, чрезвычайно большое и ответственное дело, а между тем ему приходится уже теперь «кипеть, как в котле», не зная отдыха, и что он с большим страхом смотрит на это предстоящее дело. Говоря об этом, батюшка, видимо, волновался. Волновалась, глядя на него, и матушка, присутствовавшая тут же, и больше, кажется, чутьем угадывая, что волновало и страшило отца.
– Так вот какие дела! Ну что ж, друзья мои, решаться, что ли? – спросил отец матушку и дядю.
– Конечно, крестный (так звал дядя моего отца). Такое хорошее, большое дело! – с обычным воодушевлением сказал он.
Матушка, не отвечая, сначала взглянула благоговейно на образ, опустилась на колени и сделала несколько земных поклонов, как она обыкновенно делала при всех важных решениях.
– Решайся, милый друг, решайся! – сказала она, поднявшись и кладя руку на плечо отца. – Дело душевное, говорят, хорошее дело, Божье… Вот и братец тоже советует…
– Да, конечно! Ведь вы не одни, крестный, будете… Вы сами знаете, что из здешних дворян есть немало хороших людей, сочувствующих.
– Да, верно, есть, – сказал раздумчиво отец.
Во всем этом разговоре я, понятно, понимал далеко не все, но и меня волновало смутное предчувствие каких-то новых, откровений, которые начинала раскрывать передо мною жизнь вообще и в частности нашей семьи.
Служба моего отца, насколько я запомню, вообще представляла довольно живую и разностороннюю деятельность в единственно возможных для него в то время общественных формах. Я его всегда вспоминаю в то время или погруженным в хлопоты и заботы по исполнению разных поручений предводителя и депутатов, соединенных с нередкими поездками (еще на лошадях) в Москву и уезды, куда он иногда брал и меня, или же сочиняющим бесконечные доклады по разнообразным вопросам. По поводу последних он обыкновенно всегда совещался с братьями и приятелями, вроде Николая Яковлевича, нередко также с молодыми образованными дворянами, жившими в городе. Благодаря этому в нашем маленьком зальце часто собирались небольшие компании, на которых велись оживленные беседы. Такие же компании местной «интеллигенции» (слово тогда еще, впрочем, непопулярное) собирались и у Николая Яковлевича (где впоследствии удостаивался бывать и я), слава которого как «эмансипатора» гремела тогда по всему городу, тем более что он был уже известен как «литератор». Особенно заговорили о нем, с тех пор как новый «либеральный» губернатор, из статских («не солдафон», как говорили про него), пригласил его к себе и уговорил занять место секретаря при губернском комитете по крестьянскому делу, как видного в губернии специалиста по экономическим вопросам. Это еще более подняло значение наших компаний, оживление которых росло все больше, вместе с усилением в обществе освободительного движения.
Для меня остался памятным один характерный факт, подавший повод к особенно оживленным разговорам в наших компаниях. Произошло это, кажется, вскоре по приезде нашем из деревни. Было воскресенье. Я с матушкой был в кухне, когда вдруг вбежала, возвращаясь с базара, запыхавшаяся и взволнованная наша кухарка.
– Матушка барыня! – вскрикивала она сквозь слезы. – Гонют их, гонют, голубчиков моих… Тыщи гонют.
– Да кого гонят-то? – спрашивает матушка.
– Да мужиков-то, что я вам вчера докладывала… Матушка моя! тыщи гонют… кандальными… Дела-то какие, дела-то! Что уж это? Последние времена пришли! – причитала Дарья.
– Вот, гляди, скорехонько погонют мимо нас, по большаку, прямехонько…
– Ну, так скорее надо торопиться! – заволновалась и матушка. – Чего плакать-то? Собирай скорее что есть в корзины. Кликни няньку, да с нею на дорогу корзины-то и вынесите… Эх, бедные, бедные! – всхлипнула и матушка. Дарья сорвалась с места и начала метаться из стороны в сторону, собирая из съедобного и из одежды что попало. Сорвался и я, бросившись на улицу собирать соседей-товарищей смотреть «кандальников». Долго еще нам пришлось ждать, пока показалась печальная процессия. Толпа запрудила все улицы и надвигалась на нас, как громадная волна. Не знаю почему, все время, пока проходил мимо меня громадный этап, я дрожал, как в лихорадке, у меня тряслись ноги и дрожали губы, а глаза были полны слез, хотя я вряд ли в ту минуту понимал ясно весь потрясающий смысл того, что совершалось. А совершалось глубоко возмутительное, даже по тому времени, дело: громадная деревня, в несколько сот душ, ссылалась этапом в Сибирь на поселение, без следствия и суда, неизвестно за какие провинности, по единоличному распоряжению богатого помещика. И это происходило в последние, можно сказать, дни перед освобождением крестьян!
Этот факт, очевидно, возмутил даже наш, косневший в чиновничье-дворянской рутине, город, так как после прохода этапа долго еще раздавались негодующие разговоры среди не расходившихся кучек обывателей. Событие это обсуждалось и в наших компаниях очень горячо и долго. Особенно волновался Николай Яковлевич, который кричал почти, что это дело вопиющее, что оставить его так невозможно, что он завтра же будет говорить с губернатором, что надо немедленно об этом донести министру и в сенат и потребовать предания суду помещика. Молодые дворяне говорили отцу, что надо потребовать от предводителя, чтобы он собрал экстренное собрание дворянских депутатов и предложил на обсуждение вопрос о лишении этого помещика дворянских прав, как совершившего деяние, противное намерениям правительства и дворянской чести.
Волновались и вели серьезные разговоры и довольно открыто, как никогда раньше, не только у нас. Судя по рассказам отца и дядей, этот случай долго еще обсуждался всеми видными представителями как администрации, так и общества, как-то сразу поставив вопрос об освобождении крестьян и вместе с тем о «водворении законности», как тогда говорили, на открытое обсуждение, о чем раньше могли говорить только в близких компаниях, да и то осторожно, полунамеками и втихомолку. Практические мероприятия, однако, по этому делу хотя и осуществились, но очень не скоро и в очень скромной форме: помещик действительно был к чему-то присужден, но был ли лишен дворянского звания – не знаю, вернее, что не был. Помнится, что и мужиков вернули на родину, но не раньше, как они прогулялись пешком в Сибирь, и неизвестно, все ли они вернулись домой целы и невредимы.
События в нашей семейной жизни между тем продолжали поражать меня неожиданностями. Дядя Александр спешно готовился к отъезду на место, чтобы успеть заранее познакомиться с условиями своей новой деятельности. Как-то он, особенно чем-то озабоченный, зашел вечером к нам.
– Вот и ты дома! – сказал он, встретив меня в кабинетике и ласково потрепав по плечу. – Погоди, не уходи… Мне нужно поговорить. Крестный, сестрица! – крикнул он. – Зайдите-ка в кабинет. Мне нужно кое о чем поговорить.
– Знаю, знаю, братец! – заволновалась матушка. – Насчет того, чтобы Николеньку с вами отпустить в новую гимназию. Да ведь он еще совсем ребенок! Да что это вы, братец, придумали? Да с чего это? Ах, братец, как это вы материнского сердца понять не хотите…
Матушка все больше волновалась и протестовала.
– Сестрица, вы не волнуйтесь, – ласково и мягко заговорил дядя. – Подумайте, взвесьте все хладнокровно. – Надо взвесить будущее. Признаюсь вам, я боюсь за его судьбу в здешней гимназии. Хороший, умный, способный мальчик сидит три года в одном классе, теряя лучшие годы. Что же с ним будет, если и дальше так продолжится? Страшно сказать…
Дядя говорил долго, горячо и убедительно: указывал и на то, что я остаюсь совсем без помощи, что у отца дела по горло, что у нее самой масса хлопот с маленькими детьми, а между тем он, дядя, как один, мог бы всего себя отдать моему воспитанию.
Отец молчал, повидимому во всем соглашаясь с дядей; матушка тихо плакала, но в то же время не без основания возражала, что какое же может быть воспитание ребенка у одинокого молодого человека, который еще и сам не знает, как устроится в жизни.
– Ну-с, хорошо… Оставим об этом говорить теперь, – сказал дядя. – Я вот поеду сначала один, осмотрюсь там, все узнаю, устроюсь и тогда уже напишу вам подробно свое мнение, взвесив все условия. Ну, а ты как насчет этого? – неожиданно спросил меня Дядя.
Увы, застигнутый врасплох, я только пыхтел, краснел и бледнел и не мог выговорить в смущении ни слова; в глубине моей души шла борьба: мне так хотелось броситься к этому чему-то новому, свежему, неизведанному, где все будет так не похоже на заплесневевшую и опостылевшую нашу гимназию, и в то же время мне было страшно вдруг оторваться от отца, матери, братьев и сестер, от своей ребячьей улицы.
– Ну, так как же? – переспросил дядя.
– Не знаю, – едва прошептал я, красный, как кумач.
– И, конечно, так: как можешь ты решить то, в чем и старшие не могут разобраться?..
– Да, это верно, – подтвердил и отец. – А все же это вопрос важный, и его нужно как-нибудь решить… А у меня дела по горло… Вот! – сказал он, подвигая к дяде бумагу.
– Разрешение на библиотеку? – крикнул радостно дядя. – Получили?
– Как видишь… Но что же я буду делать… один? Все вы разъезжаетесь…
– Это ничего… Мы все вам будем полезны и оттуда… Мы уже наметили вам все нужные книги по современной литературе… Затем о ценах, о литературных новостях, обо всем подробно справится Сергей Яковлевич в Москве… Через него будете и выписывать… Ну, а как дворяне насчет помещения в дворянском доме?
– Есть надежды.
– Великолепно, крестный! Начинайте!
– Да ведь не разорваться же мне, – возражал батюшка. – Надо пока отложить, хотя ненадолго.
– Эх, досадно!.. Надо бы мне годок прожить здесь, так, приватно… Да ничего не поделаешь!.. Приходится отслуживать там, куда пошлют…
Дядя загрустил.
Переживая эту массу новых, неожиданно хлынувших на меня откровений и впечатлений, я действительно стал как будто понимать, что жизнь моих близких начинала круто изменяться, что жизнь и моего отца и многих других начинала «кипеть, как в котле», а я ничего не знал и не понимал во всем этом. Последний разговор отца и матери с дядей дал мне почувствовать это как-то особенно больно… Даже название меня «ребенком», когда мне шел уже четырнадцатый год, болезненно кольнуло меня. Мне стало стыдно и обидно за себя… А ведь в сущности это было справедливо: ведь я действительно не больше как уличный мальчик, ведь для меня еще городки дороже всякой «новой» гимназии, дороже всяких других интересов. Я даже из-за этих городков пропустил мимо ушей, как уже неоднократно отец с дядями обсуждали и решали важный вопрос об открытии в городе «нашей» библиотеки! Чем больше я об этом думал, тем больше начинал чувствовать себя каким-то отброшенным и от всего оторванным… И чем дальше, тем будет хуже: через неделю опять гимназия, с которой у меня нет никакой духовной связи попрежнему; лишив меня разумной умственной дисциплины, она отняла у меня всякую возможность воспринять от нее в должной мере хотя бы то нужное и хорошее, что она могла дать… Отец будет «кипеть, как в котле» от разнообразных дел. Мать может только беззаветно любить, изливая эту любовь в бесконечных мелочных о нас заботах… Дяди разъедутся по разным местам, и у меня сразу обрывается всякая связь со всем тем «духовным», которое нынешним летом так оживляюще пахнуло на меня веянием какой-то новой жизни… И опять я заброшен один между гимназией и улицей… Нет, надо ехать с дядей… в «новую» гимназию!
Я долго еще колебался, но, наконец, решился побежать к деду, чтобы поговорить с дядей. Я долго вертелся около него, пока решился, покраснев, сказать ему то, что меня волновало.
– Дядя, возьмите меня с собой! – пролепетал я.
– А! ты уже обдумал? Не скоро ли? – спросил он, улыбаясь. – Смотри, не пришлось бы раскаиваться… Нет, теперь уж надо погодить… Ты знаешь, что сказала мамаша: надо прежде мне самому устроиться… И это верно. Надо подождать месяц-другой… Я огляжусь там… Тогда напишу… Бабушка хотела ко мне приехать… Вот если все будет у меня хорошо и мамаша тебя пустит, тогда ты ко мне с бабушкой и махнешь!..
Передо мною вдруг теперь раскрылись радужные перспективы и надежды, и я окрылел: я мог уже жить не одной нашей гимназией и улицей с городками, но и мечтой о «новой» жизни в «новой» гимназии.
IV
Новая гимназия и «совсем новые» педагоги. – Их «нечто», подрывавшее корни старой системы. – Самокритика. – Литературные вечера и новые таинственные писательские легенды. – Одиночество номерной жизни и жгучие томления духа и плоти. Обратно на родину.
Дядя Александр скоро уехал. В гимназии формально начались f роки, но шли вяло. Ученики съезжались плохо. Я ходил и не ходил в гимназию, поглощенный своей мечтой. Духовная связь с гимназией, слабая и раньше, порвалась теперь даже формально. Месяц прошел быстро. Стали съезжаться семинаристы и студенты, направляясь в столицы. Пользуясь временным пребыванием у нас дяди Сергея и его товарищей, отец усиленно занялся с ними библиотечным вопросом: чуть не ночами сидели они за составлением каталогов для будущей библиотеки и обсуждением других частностей. До меня опять никому не было дела, и я ходил, как потерянный, с каким-то лихорадочным нетерпением ожидая письма дяди Александра. Наконец, уехали и студенты и пришло давножданное письмо. Подробно содержания его я не знаю, так как отец читал его матушке наедине в кабинете, а я с замиранием сердца слушал за дверью, как матушка часто всхлипывала, что-то возражала и как долго убеждал ее в чем-то отец. Наконец, матушка вышла, утирая слезы и по обыкновению крестясь.
– Ну что ж, – сказала она, проходя мимо меня и погладив ласково по голове, – поезжай… Может, и лучше для тебя будет… Только единственно для братца Александра решаюсь… Для кого другого ни в жизнь не отпустила бы…
Через неделю я уже сидел опять в огромном тарантасе, между моей дородной бабушкой и каким-то толстым купцом-попутчиком, укачиваемый под «малиновый» звон колокольчика и наслаждаясь любимой картиной полей и лесов с попутными селами и деревнями. Через два дня мы уже были в городе Р. и в один праздничный день, утром, въезжали во двор гимназии, где в одном из флигелей, занимал квартиру дядя.
Вероятно, увидав нас из окна, дядя стремительно бросился навстречу нам на крыльцо.
– И ты приехал? – вскричал он. – Вот молодец!.. И как это вы хорошо, маменька, сделали… Пойдемте, пойдемте! Сразу всех нас увидите.
Дядя, видимо, был очень доволен.
Прошло тому много лет, а я помню этот день с замечательной ясностью. В небольшом зальце дядиной квартиры вокруг большого стола сидела оживленно беседовавшая за завтраком компания: четыре его молодых товарища-учителя и дородная фигура священника-законоучителя, с большой седоватой окладистой бородой и наперсным крестом. Представив всех их бабушке, дядя взял меня, растерявшегося и смущенного, за руку и комически-торжественно сказал:
– А это, господа, юный птенец, злосчастная жертва дикого коршуна, нашей педагогии… С этого момента он – наш общий питомец… Наша задача – отогреть его и воскресить в нем душу живую… Ну, не дичись!… Ступай здоровайся… подавай руку всем… Не бойся!
И все, улыбаясь, добродушно жали мне руку, и даже почтенный иерей захватил ее в обе пухлые свои ладони.
– А теперь садись… завтракай… Мы уже кончаем, – говорил дядя, кладя мне на тарелку кусок ростбифа.
Я сел, и вдруг все мое смущение прошло: на меня повеяло чем-то знакомым, близким… Все эти молодке, веселые, ласковые лица я где-то уже видал как будто… И все мне показалось так похожим на те оживленные компании молодежи, которые собирались в последнее время так часто в нашем доме… Неужели же все это «педагоги»?.. Меня не смущал даже сановитый законоучитель – столько в нем было знакомого мне неизреченного благодушия! Но не успел я еще оглядеть всех исподлобья беглым взглядом и приняться за завтрак, как вдруг раздался грубоватый голос бабушки.
– Александр!.. Да это что ж у вас такое?
– А что, маменька? – спросил изумленный дядя.
– Да ведь нынче, кажись, воздвиженье… Что ж это иерей-то смотрит на вас?..
– А! это вы, маменька, насчет ростбифа? – добродушно расхохотался дядя. – Вы, маменька, не беспокойтесь… Я вас смущать не буду!.. Для вас, знаю, нужно другое… вот вместе с батюшкой…
– Да мне что… Я и до куска ни до какого не дотронусь… Поди еще и обедня не отошла… А вы вот зачем сами басурманите да еще ребенка смущаете?..
– Дорогая маменька, – серьезным тоном сказал дядя, – у нас на это есть свой, не легкомысленный, а глубоко выстраданный взгляд, что христианская религия не в этих мелочах заключается, а в стремлении к чистоте душевной… А у нас везде все наоборот… Мы это уж по бурсе хорошо знаем… Не правда ли, батюшка? – спросил он.
– Вполне справедливо! – серьезно заметил тот.
– Ну, и попы… у вас! – сказала бабушка, подозрительно взглянув на почтенного иерея.
Тут уже не выдержал и сам батюшка и разразился добродушнейшим смехом.
– Ну, Бог с вами! Сами за себя на том свете и ответите, – проговорила бабушка.
– Вот это верно, дорогая маменька. Без насилия лучше… Где насилие, там нет истинной религии, – мягко заметил дядя.
– Мудрено говоришь… Заучились! – махнув рукой, уже добродушнее проговорила бабушка. – Налей-ка вот лучше чайку. Чего я в самом деле в чужой монастырь да со своим уставом затесалась. Простите, Бога для!..