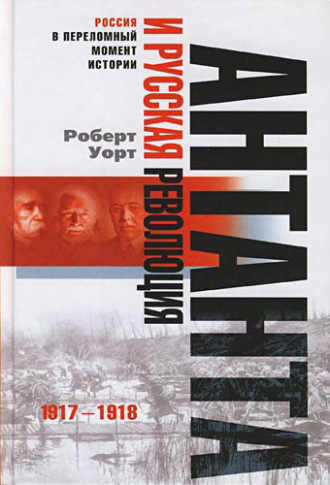
Полная версия
Антанта и русская революция. 1917-1918
Революционный переворот вызвал огромный интерес во всем мире. Из-за строгой царской цензуры мир узнал об эпохальном событии только через несколько дней. Эта новость стала еще более неожиданной и поразительной для заграничных обозревателей, чем для российских, потому что, несмотря на множество самых диких слухов и нескольких правдивых сообщений, проникнувших в иностранную прессу, ни мировая общественность, ни ее лидеры не были готовы к столь внезапному повороту событий. С самым горячим сочувствием приветствовали революцию, конечно, союзные державы. Однако Центральные государства также выражали оптимизм, предвидя ослабление участия России в войне, хотя и признавали огромный ущерб, нанесенный престижу идеи монархии. Союзники видели в демократической России, освободившейся от царской тирании, возрождавшуюся нацию, готовую к новым жертвоприношениям на войне, при этом совершенно забывая о причинах великого переворота.
Ясно, что революция не могла быть одинаково выгодной для обеих сторон. Прошло несколько недель, и неуверенные ожидания Центральных государств полностью осуществились, тогда как союзникам предстояло испытывать все больше разочарований до тех пор, пока заключенный годом позже в Брест-Литовске мирный договор не положил конец всем их надеждам на способность России оказать серьезную помощь в войне. Британия и Франция стали в значительной степени жертвами собственной пропаганды, которая представляла войну как борьбу за свободу против власти автократии. Присутствие царской России в демократическом лагере союзников было серьезной помехой в этой идеологической войне, и было только естественно, что революция была встречена как удар, нанесенный по абсолютистской власти Гогенцоллернов и Габсбургов. Здесь они более всего подошли к правде, поскольку наступившее позднее крушение этих династий, вероятно, произошло не без помощи морального воздействия примера России.
Однако следует подчеркнуть, что военные представители союзников оценивали революцию более пессимистично. И хотя возможно, что такое отношение складывалось как в результате обычной настороженности военных по поводу любых изменений в статусе, так и исключительно стратегическими соображениями, по меньшей мере в данном случае они были гораздо меньше задеты политическими настроениями, чем гражданские.
Своевременность революции была особенно отмечена Соединенными Штатами, в то время как раз готовившимися к крестовому походу с целью «обезопасить мир для демократии». Хотя вряд ли Америка вступила в войну в результате свержения царизма, невозможно учесть влияние этого фактора в создании единодушного общественного мнения и в более эффективно проводимой пропаганде, обращенной к германскому населению. Почти все без исключения американские газеты и журналы приветствовали новую Россию и продолжали это делать еще долго после того, как в британскую и французскую прессу стали проникать критические замечания. Для бостонской «Транскрипт» революция была «кошмаром, вскормленным грудью либерального мира», тогда как далласская «Ньюс» выражала чувства нации, заметив, что революция «дает политическое и духовное единение союзу противников Германии, которого до сих пор недоставало по той причине, что демократия находилась в одной лиге с автократией».
В западноевропейской прессе проявилась отчетливая тенденция представлять революцию как антигерманский переворот, произведенный из патриотических целей под руководством Думы. Заголовок в лондонской «Таймс», зачастую воспринимаемой как полуофициальный орган министерства иностранных дел, приветствовал ее как «победу в военном движении», и редакторский комментарий пояснял, что «армия и народ объединились, чтобы свергнуть силы реакции, которые удушали народные стремления и связывали национальные силы». Однако уже 20 марта «Таймс» узнала о существовании Советов, членов которых она описала как «анархистов» и «демагогов», которые «проводят дикие митинги… терроризируют рабочих… и распространяют фальшивые и зловещие слухи с целью ослабить Временное правительство и отвлечь народ от войны». Британское либеральное еженедельное издание «Нейшн» большую часть своего номера от 24 марта посвятило революции и высмеивало прессу за ее «представление славного воскрешения России из мук и смерти актом обыкновенного шовинизма». Но затем великодушно признавало, что, «за исключением «Таймс», такое отношение к революции скорее было следствием неосведомленности, чем злобы. Тенденция, за которую «Нейшн» отчитало британскую прессу, столь же явственно выражалась и во Франции, где, в частности, «Птит репюблик» провозглашала «триумф либерализма» как начало решительной фазы в борьбе против «германского варварства». Один автор в «Ревю блю» утверждал, что революция произошла как «взрыв возмущения славянской души против ее внешних врагов и тех, кто пытался ее задушить внутри страны». В то же время от более либеральных газет поступало много теплых поздравлений. Разумеется, не обошлось без аналогий с Великой французской революцией 1789 года, а так же с революциями 1830 и 1848 годов. Но по мере того как все более очевидным становилось военное банкротство восточного союзника, из этих аналогий обычно делался вывод, что в противовес жалкому положению России Франция одна выстояла против всей Европы, защищая свою революцию, – весьма поверхностное сравнение двух ситуаций, которое не выдерживает тщательного изучения из-за совершенно разных условий.
Если принимать во внимание нетерпимость по отношению к режиму царской России, в прессе союзников проявлялось поразительно благосклонное отношение к Николаю II, которое не разделялось в Соединенных Штатах. Это было своего рода результатом представления о царе как о «маленьком отце», который столько времени удерживал в руках русское крестьянство. «Темп», французская коллега английской «Таймс», выражала свое огромное сочувствие императору. Его отречение от престола подавалось как великодушная жертва патриота, всеми силами желавшего избежать гражданской войны, а его свержение приписывалось дурным советам и махинациям злобной бюрократии, которая стремилась посеять рознь между царем и его народом. Пышный и довольно банальный манифест об отречении вызвал особенное восхищение в консервативных парижских газетах. «Можно ли представить себе язык более благородный и выразительный при всей его простоте, более искренний и патриотический?» – спрашивала «Галуаз», католическая газета с роялистским уклоном.
Послания от стран-союзниц дали новому режиму необходимую моральную поддержку, за которой быстро последовало официальное признание. Уже 17 марта лидеры Британской лейбористской партии направили поздравления Керенскому и Чхеидзе, выражая надежду, что они внушат Совету, «что любое ослабление военных усилий означает несчастье для товарищей в окопах и для нашей общей надежды на общественное возрождение». Такие же поздравления несколько позже принесли палата общин и премьер-министр. Весьма примечательно, что послание парламента было адресовано Думе, а не Временному правительству – ошибка, выразительно иллюстрирующая господствующее за границей представление, что Дума не только совершила революцию, но и взяла на себя функции правительства. Социалисты из французской палаты депутатов направили искреннюю, хотя и банальную телеграмму Совету, а три министра-социалиста из кабинета министров Франции поздравили Керенского. Министры предпочли поздравить именно его, а не правительство или Совет, по предложению Палеолога, который утверждал, что «только он способен заставить Советы понять необходимость продолжения войны и поддержания союза». Александр Рибо, 21 марта ставший новым премьер-министром Франции, засвидетельствовал свое уважение к революции в послании к Милюкову. Эти официальные поздравления не могли устранить неприятное впечатление, создавшееся в России от сделанных в своих парламентах Рибо и министром финансов Британии Бонаром Лоу заявлений, в которых они превозносили царя за его преданность делу союзников. Менее значительные страны-союзницы, как и множество неофициальных организаций всего мира, также откликнулись поздравительными посланиями. Среди них была Американская федерация труда, чьего президента Самуэля Гомперса убедили послать телеграмму на имя Чхеидзе. Она была отправлена по каналам Государственного департамента и, вероятно, затерялась, так что только в начале апреля была отправлена новая, более длинная телеграмма.
Соединенные Штаты, все еще сохраняющие нейтралитет, не принесли официальных поздравлений, но оказались первой страной, которая признала новое правительство, чем всегда очень гордился американский посол Фрэнсис. Он запросил необходимые полномочия 18 марта, и через два дня после консультации с президентом государственный секретарь Роберт Лэнсинг предоставил их послу.
Фрэнсис получил эту телеграмму 22 марта и незамедлительно известил Милюкова о благоприятном ответе. В тот же день посол, сопровождаемый полным штатом секретарей и атташе посольства и при всех регалиях, был принят Советом министров, где он в соответствии с протоколом известил Временное правительство о его официальном признании Соединенными Штатами.
В сравнении с послами стран-союзниц Фрэнсис вынужденно играл менее заметную роль в общественных и политических интригах Петрограда. Здание американского посольства было весьма скромным, и русское избранное общество считало его часто сменяющихся резидентов лишенными необходимого общественного лоска. Фрэнсис был типичным представителем американской средней буржуазии и вряд ли был способен изменить сложившееся о нем мнение. Ходило множество анекдотов о его мещанстве, о смелой игре в покер, а самой его выдающейся чертой считалась непринужденность и точность, с какой он попадал плевком в плевательницу. Его биография была типичной историей «энергичного парня» из мира дельцов, который добился успеха на политической арене. Богатый банкир и зерноторговец из Сент-Луиса, Фрэнсис был мэром этого города в 1885 году, губернатором Миссури в 1889 году и членом кабинета министров при президенте Гровере Кливленде в 1896 году. Его назначение в марте 1916 года в русское посольство было результатом постоянной личной преданности демократической партии, а вовсе не наградой за исключительное знание российской ситуации или за выдающиеся дипломатические способности. Он был выше посредственности только в своем сверхразвитом «деловом чутье», что могло оказаться весьма полезным при выполнении данных ему инструкций по обсуждению нового торгового соглашения с Россией, если бы этому не помешала разразившаяся в начале 1917 года революция. Крушение автократии и вступление Америки в войну полностью соответствовали политическим симпатиям посла. В основном он разделял консервативные взгляды своих коллег, но ему недоставало опыта и знаний, на которых основывался их консерватизм. Один из его тогдашних знакомых заметил: «Старина Фрэнсис не в состоянии отличить левого социал-революционера от картошки». Один критик, менее знакомый с добродушием его характера, которое до какой-то степени компенсировало отсутствие у посла выдающихся умственных способностей, высказался еще более ядовито: «Посол Фрэнсис, один из несчастных политиков Миссури, главным образом примечательный своей непроницаемой скорлупой самодовольства, прошел через значительнейший за все столетие переворот без единой отметины на блестящей поверхности его ума». Не говоря уже о его ограниченных интеллектуальных способностях – а возможно, именно благодаря им, – Фрэнсис упорно отказывался увольнять «экономку» посольства, некую мадам Матильду де Крам, вызывавшую у офицеров британской и французской разведок сильнейшие подозрения в том, что она является германским агентом. В Вашингтон одно за другим шли многочисленные донесения о его неблагоразумии, в которых предлагалось отозвать его с поста, но Госдепартамент ограничился только личным предупреждением посла, очевидно не принимая все это всерьез.
Послам стран Антанты были даны полномочия признать новый режим еще до того, как Фрэнсис поднял этот вопрос перед Лэнсингом. 18 марта Милюков обратился по этому вопросу к Бьюкенену, и ему было сказано, что необходимо представить заявление, что Россия стремится восстановить дисциплину в армии и участвовать в войне до ее окончания. Милюков без колебаний подтвердил оба требования, но указал, что «экстремисты» его подозревают и что ему придется или согласиться на некоторые уступки, или уйти в отставку. Не желая терять лучшего друга Британии в кабинете министров России, Бьюкенен без колебаний посоветовал ему пойти на уступки. Но поскольку последующая отставка Милюкова сопровождалась самыми противоречивыми слухами, установить, в чем именно состояли эти уступки, оказалось невозможно.
Бьюкенен несколько дней был не здоров, поэтому только 24 марта он смог вместе с послами Франции и Италии появиться в Совете министров. Состоящая из советников посольств, а также военных и морских атташе в парадных мундирах, делегация производила весьма внушительное впечатление, по словам одного из ее членов, который присутствовал на официальной церемонии заявления о признании новой власти России. В отличие от официального приема Фрэнсиса во время церемонии произносились достаточно прочувствованные речи. Как дуайен (глава) дипломатического корпуса Бьюкенен начал свое выступление с подтверждения желания, которое уже выразил Милюкову, относительно продолжения участия России в войне. Поддержав Бьюкенена, итальянский посол приступил к утомительному чтению длиннейшего отчета о дебатах относительно России в итальянской палате депутатов. Отвечая со стороны русских, Милюков выразил ожидаемые от него чувства патриотизма, выступая в поддержку незамедлительного продолжения войны. Он поклялся, что Россия будет сражаться до последней капли крови, по поводу чего военный атташе Британии задался в своем дневнике следующим вопросом: «Относительно Милюкова у меня нет ни малейших сомнений, но может ли он отвечать за всю Россию?»
Огромная признательность, которой пользовались в кругах Временного правительства Англия и Франция, способствовала увековечению в кругах роялистов и в германской пропаганде легенды о том, что ответственность за революцию падает на союзников. Даже Ленин, стоящий в крайнем левом ряду политического спектра, казалось, действовал под влиянием этого недоразумения. Поскольку все знали о монархических взглядах Палеолога, а влияние итальянского посла в любом случае было незначительно, эти открыто не выражавшиеся обвинения ограничивали круг подозреваемых и указывали прямо на Бьюкенена. Еще до революции он был известен дружескими отношениями со многими лидерами Думы, а для неосведомленных о реальной ситуации в России людей, особенно для консерваторов, было самим собой разумеющимся, что Дума и революция – одно и то же. Ему предъявлялось обвинение, что он поклялся отомстить царю, который во время их последней встречи не предложил ему сесть. Но самым фантастическим из слухов была история о том, что он якобы «посещал собрания революционеров, приклеив себе фальшивый нос и бороду». На самом деле английский посол – убежденный тори по взглядам – «приходил в ужас при одной мысли о возможной встрече с людьми, которых он считал революционерами», и с величашей неохотой согласился наконец на контакты с либералами только благодаря своему другу Гарольду Уильямсу, влиятельному британскому корреспонденту и большому авторитету по России, который подталкивал его к этому. Будучи неистовым патриотом, Бьюкенен с трудом уступил убеждениям, что лидеры Думы, особенно кадеты, предлагают единственную защиту против реакции и сепаратного мира. Крайне далекий от революционных идей, он делал все, что мог, для предотвращения революции; а когда это оказалось невозможным, поддерживал бесполезные попытки Думы как-то ее ограничить. Получив известие, что великий князь отклонил предложение стать новым правителем России, посол воскликнул: «Это уже конец! Российская армия не станет сражаться без императора, который ее вдохновляет». Под давлением левой прессы Милюкову пришлось неоднократно просить посла прекратить посещения родственников бывшего царя, и только под угрозой отзыва со своего поста Бьюкенен уступил этим просьбам.
Утверждение, что человек, занимающий положение Бьюкенена, мог иметь отношение к свержению династии, даже если бы он этого хотел, является полным абсурдом, но слухи обычно не подвергаются тщательному изучению. Их логическое продолжение можно найти в толках о том, что по его вине были сорваны переговоры о предоставлении царской семье убежища в Англии. Николай подписал в Пскове акт о своем отречении от престола и вернулся в Генеральный штаб армии. По требованию Совета он был доставлен в Царское Село и помещен там под арест вместе с остальными членами своей семьи. Главы военных миссий союзников обратились с просьбой, чтобы им разрешили сопровождать Николая, на что из ставки ответили, что это «нецелесообразно» и может задержать отправление царя, потому что сначала пришлось бы получить согласие правительства. Вполне возможно, что генералы Антанты имели в виду устроить его побег в Англию. Правительство, в противоположность гневным настроениям народа, сочувствовало семье Романовых и даже отказывалось признавать, что она находится под арестом. Николая просто «лишили свободы», было объяснено британскому послу, который по понятным причинам не мог оценить разницу в этих выражениях. Керенский во всеуслышание выразил свое нежелание стать «Маратом русской революции» и выразил намерение эскортировать семейство Романовых в Мурманск. Петроградский Совет ответил приказом железнодорожным рабочим, если потребуется, остановить царский поезд.
Тем временем Милюков запросил Бьюкенена, готово ли его правительство предоставить императорской семье убежище, и его просьба была немедленно передана в министерство иностранных дел в Лондоне. На следующий день военный кабинет обсудил этот вопрос, и было решено продлить срок действия приглашения, понимая, что семья не может покинуть страну во время войны. 23 марта Милюкова информировали о решении и дали обещание, что императорское семейство будет вполне обеспечено. Договорились о том, что в Мурманске его заберет британский крейсер. Через нейтрального посредника Германия представила обещание беспрепятственно пропустить корабль. Но Милюков умолял о сохранении тайны: стоило просочиться в прессу хоть одному намеку, что Временное правительство принимает участие в организации этого путешествия, как оно может быть свергнуто исключительно по политическим причинам. Немедленной отправке семьи помешала корь, разразившаяся в царской семье: один за другим заболели все пятеро детей, а правительство откладывало отъезд со дня на день в тщетной надежде на смягчение позиции Петроградского Совета.
Английский король Георг V, ближайший кузен отрекшегося правителя, направил ему дружеское послание, старательно избегая любых упоминаний о политике и о его возможном прибытии в Англию. Оно было передано через военного британского атташе при верховной ставке, поскольку полагали, что Николай все еще находится там, и наконец оказалось у Бьюкенена. Посол, не имевший доступ в Царское Село, попросил Милюкова передать послание Николаю. Тот согласился, но на следующий день (25 марта) передумал, опасаясь политической реакции, которая могла воспоследовать из-за неверного толкования содержания телеграммы. Ее доставка была «отложена», и, предположительно, телеграмма так и не была доставлена адресату. Вскоре посол получил из Лондона инструкции не принимать никаких дальнейших мер по этому делу. Именно из-за этого безобидного указания позднее роялистски настроенные комментаторы упрекали Бьюкенена в самоустранении – и таким образом «виновным по неисполнению обязательств» за последовавшее позднее убийство императорской семьи.
Решение проблемы, что делать с «гражданином Романовым» и его семьей, уже не зависело от посла, какими бы ни были его личные желания, и даже от позиции русского или британского правительств. Совет принял решение, что императорская семья должна остаться в России, был назначен специальный комитет, чьей задачей было следить за их содержанием, а в Царском Селе размещена охрана. Репутация павшего монарха в определенных кругах Англии была такой же низкой, как и в России. Возможно, еще ниже она была во Франции, где, по словам британского посла в России, бывшую императрицу считали «преступницей или преступной сумасшедшей, а бывшего императора – преступником из-за его слабости и повиновения ее воле». Посол Франции не скрывал своего удовлетворения, что план доставки императорской четы в Англию не осуществился.
Растущее волнение среди рабочих и в руководстве лейбористской партии заставило британское правительство пересмотреть свое приглашение. Предвидя в случае продолжения попыток спасти императорскую чету возможность политического взрыва как в России, так и в Англии, правительство Британии решило не форсировать этот вопрос. Вместо того чтобы прямо заявить об отказе, правительство искало предлоги, которые могли бы задержать отъезд царя до окончания войны. В апреле Бьюкенен получил телеграмму, в которой говорилось, что из-за неспокойной обстановки в Англии, которая может перерасти в забастовки на верфях и на военных заводах, в настоящее время было бы благоразумнее отменить все приготовления. Формулировки были дипломатичными – на приглашении уже «не настаивали», – но посол сразу понял, что, по существу, приглашение аннулировано. Вторая телеграмма, которая поступила к нему в июне, изложила этот вопрос еще более определенно, и Бьюкенен, который принял это почти как личный удар, сообщил печальную новость военному министру «со слезами на глазах».
При написании своих мемуаров Бьюкенен столкнулся с трудной задачей снять с себя обвинения в том, что он препятствовал побегу царя, и в то же время оправдать поведение своего правительства. С первой задачей он справился довольно легко, но вторая была решена лишь благодаря весьма сомнительному приему – заявлению, что «предложение оставалось открытым и не отзывалось», что было формальной отговоркой, уязвимость которой он слишком болезненно осознавал. Король Георг также был задет отказом царю со стороны правительства. «Эти проклятые политиканы! – говорил он позднее. – Если бы он был один из них, они действовали бы куда быстрее. Но только потому, что этот бедняга был царем…»
Король Георг ограничился этим кратким замечанием, хотя отлично понимал, что неприятная правда состоит в том, что дальнейшее существование свергнутого правителя всегда представляет неизбежную угрозу успеху революции. Его пребывание за границей может только увеличить опасность контрреволюции и вовлечь страну, предоставившую ему убежище, в непредвиденные дипломатические осложнения. Тот факт, что царской семье удалось прожить определенное время, во многом объясняется как пассивной позицией царя, так и сдерживающей тактикой Временного правительства. Он почти без возражений смирился со своей участью, и у него не было ни намерений, ни возможностей для интриг. В августе 1917 года царскую семью в глубокой тайне перевезли в отдаленный Тобольск, а в апреле 1918 года – на Урал, в Екатеринбург. Ее судьбу окончательно определила разразившаяся гражданская война. Когда к городу приблизились антибольшевистские войска, Уральский совет решил казнить пленников, чтобы их не смогли отбить белогвардейцы. Ночью 16 июля вся семья, включая семейного врача и трех слуг, была переведена в подвал здания, где они содержались. Им был торопливо зачитан приговор, после чего всех без дальнейших церемоний расстреляли. Тела были тщательно уничтожены. Пленение Романовых и их дальнейшая судьба вызывали мало интереса и сочувствия среди русского населения. Мученики царского абсолютизма по количеству намного превышали относительно небольшое количество приверженцев старого режима, которые были арестованы Временным правительством. Из Сибири были возвращены тысячи политических узников, и в Москве и в Петрограде их встречали с огромным энтузиазмом. Из-за границы также прибыли еще тысячи высланных и беженцев, особенно из стран Антанты. Новое правительство великодушно предоставило им возможность вернуться на родину. Российский поверенный в делах в Лондоне Константин Набоков оценивает субсидии, выделенные на эти цели, более чем в миллион долларов. Сумма в двести пятьдесят тысяч долларов, которую Набоков получил на нужды изгнанников как раз перед большевистской революцией, вскоре была конфискована британским правительством и не возвращена.
Большинство ссыльных были умеренными революционерами и поддерживали дело Антанты. После лет, проведенных за пределами России, многие европеизировались и растеряли свой революционный пыл, оставшись революционерами только теоретически. Типичными представителями этой группы, хотя и гораздо более известными, чем обычный эмигрант, были лидер правого крыла меньшевиков Плеханов и знаменитый анархист князь Петр Кропоткин. Оба прожили в Западной Европе много лет и без особых затруднений вернулись в Россию – красноречивое доказательство умеренности их взглядов. Условия военного времени делали путешествие на родину сложной проблемой, и для тех эмигрантов, которые были известны отсутствием патриотизма, препятствия становились почти непреодолимыми. В Западной Европе местом сосредоточения эмигрантов был Лондон, а поскольку британский военный флот контролировал морские пути, действовал выборочный запрет, чтобы помешать наиболее радикально настроенным эмигрантам возвратиться на родину этим путем. Однако наименее известные люди ухитрились проскользнуть, пока сеть не стала слишком частой, а некоторым беспрепятственно удалось получить разрешение вернуться – Временное правительство хлопотало за них, а Англия не могла отказать союзнику. Набоков телеграфировал в Россию о необходимости принять меры для воспрепятствования притоку большевиков. «Вы рубите сук, на котором сидите!» – предостерегал он. Этот совет оказался излишним. Милюков позаботился о том, чтобы информировать все российские посольства и представительства о том, что «в случае каких-либо сомнений относительно личности политического эмигранта… просим сформировать совместно с соответствующим отделом Министерства иностранных дел комитет, состоящий из представителей политических эмигрантов, чтобы прояснить все сомнения по этому поводу». Более поздняя телеграмма предупреждала, что «при выдаче паспортов эмигрантам вы должны руководствоваться доказательствами их благонадежности в отношении войны, предоставленными другими эмигрантами, которым можно доверять, или комитетами, созданными в соответствии с нашей телеграммой».

