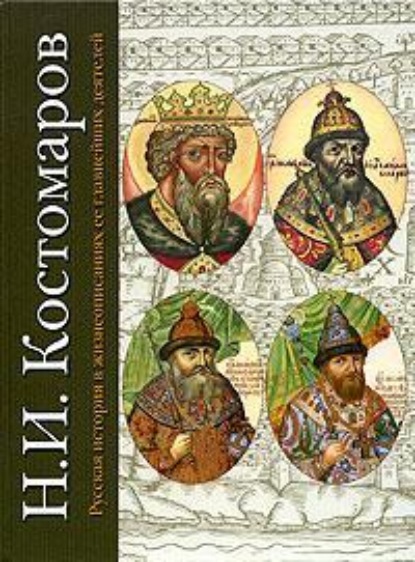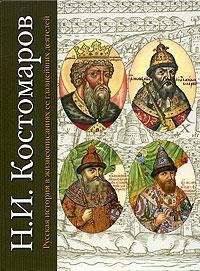полная версия
полная версияРусская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Второй отдел
Паны, заправлявшие делами во время безкоролевья, составили ополчение из шляхты; начальства над этим ополчением добивался себе Вишневецкий, но вместо него назначены были три полководца: князь Доминик Засловский, Александр Конецпольский (сын недавно умершего гетмана Станислава) и Остророг. Хмельницкий, пропустивши лето, в сентябре отправился против них.
Всего войска, выставленного против Хмельницкого, было тридцать шесть тысяч. Польское шляхетство в это время не отличалось воинственностью, проводило в своих имениях спокойную и веселую жизнь, пользуясь изобилием, которое доставляли ему труды порабощенного народа: в войске, выставленном против Хмельницкого, большая часть была таких, которые только в первый раз выходили на войну. Привычка считать хлопов полускотами побуждала поляков смотреть легкомысленно на войну. «Против такой сволочи, – говорили паны, – не стоит тратить пуль: мы их плетьми разгоним по полю!» Другие были до того самонадеянны, что произносили такую молитву: «Господи, не помогай ни нам, ни им, а только смотри, как мы разделаемся с этим негодным мужичьем!» Польский военный лагерь сделался сборным местом, куда поляки ехали не драться с неприятелем, а повеселиться и пощеголять. Друг перед другом они старались выказать ценность своих коней, богатство упряжи, красоту собственных нарядов, позолоченные луки на седлах, сабли с серебряной насечкой, чепраки, вышитые золотом, бархатные кунтуши, подбитые дорогими мехами, на шапках кисти, усеянные драгоценными камнями, сапоги с серебряными и золотыми шпорами, – но более всего паны силились отличиться, один перед другим, роскошью стола и кухни. За ними в лагерь везли огромные склады посуды; ехали толпы слуг; в богато украшенных панских шатрах блистали чеканные кубки, чарки, тарелки, даже умывальники и тазы были серебряные; и было в этом лагере, по замечанию современников, больше серебра, чем свинца. Привезли паны с собой бочки с венгерским вином, старым медом, пивом, запасы варенья, конфет, разных лакомств, везли за ними богатые постели и ванны; одним словом, это был увеселительный съезд панов. С утра до вечера отправлялись пиры с музыкой и танцы. Между тем многочисленная прислуга, прибывшая с панами для служения их затеям, и наемные солдаты, которые, получив жалованье вперед, истратили его, бесчинствовали над окрестными жителями, грабили их, и жители говорили, что защитники, какими выставляли себя эти военные люди, хуже их разоряют, чем казаки, которых поляки старались выставить неприятелями и разорителями народа.
20 сентября приблизился Хмельницкий к этому роскошному польскому стану; маленькая речка Пилявка отделяла казаков от поляков. После незначительной схватки русские пленники напугали поляков, что у Хмельницкого шло огромное войско и он с часу на час дожидается хана с ордой. Это произвело такой всеобщий и внезапный страх, что ночью все побежали из лагеря, покинув свое имущество на волю неприятеля. Утром рано Хмельницкий ударил на бегущих: тогда смятение усилилось, поляки кидали оружие, каждый кричал: стойте! а сам бежал; покидали раненых и пленных; иные погибли в толпе от давки. Победителям почти без выстрела досталось сто двадцать тысяч возов с лошадьми; знамена, щиты, шлемы, серебряная посуда, собольи шубы, персидские ткани, рукомойники, постели, кушанья, сласти – все лежало в беспорядке; вина и водки было так много, что, при обыкновенном употреблении, стало бы их для всего войска на месяц… Хлопы набросились на драгоценности, лакомства, вина – и это дало возможность убежать полякам. Хмельницкий двинулся ко Львову, не стал добывать этого города приступом, а только истребовал с жителей окуп в двести тысяч злотых, для заплаты татарам, помогавшим казакам 1. 24 октября из-под Львова двинулся Хмельницкий к Замостью в глубину уже настоящей Польши. Под Замостьем стоял он до половины ноября.
В Варшаве между тем происходило избрание нового короля. На этот раз близость казаков не дозволила панам тянуть избрания целые месяцы, как прежде случалось: потребность главы государства слишком была очевидна. Хмельницкий со своей стороны отправил на сейм депутатов от казаков.
Было тогда три кандидата на польский престол: седмиградский князь Ракочи и двое сыновей покойного короля Сигизмунда III, Карл и Ян-Казимир. Седмиградский был устранен прежде всех; из двух братьев взяла верх партия Яна-Казимира; казацкие депутаты стояли также за него; Оссолинский склонил многих на сторону Яна-Казимира, уверяя, что иначе Хмельницкий будет воевать за этого королевича. Дело между двумя братьями уладилось тем, что Карл добровольно отказался от соискательства в пользу брата. Ян-Казимир был избран, несмотря на то, что был прежде иезуитом и получил от папы кардинальскую шапку. Что располагало Хмельницкого быть на стороне этого государя – неизвестно, как равным образом трудно теперь определить, в какой степени участвовало желание Хмельницкого в этом избрании. Тем не менее Хмельницкий показывал большое довольство, когда услышал о выборе Яна-Казимира. 19 ноября ему привезли от короля письмо с приказанием прекратить войну и ожидать королевских комиссаров. Хмельницкий тотчас потянулся от Замостья со всем войском назад в Украину.
Город, который был только что перед тем порядочно обобран панами, бежавшими из-под Константинова, не мог дать чистою монетою более, как на шестнадцать тысяч злотых, а все остальное доплатил товарами и вещами по раскладке между жителями, причем приходилось бедняку расставаться с последнею дорогою вещицею, которую он берег про черный день.
Хмельницкий в последнее время действовал противно всеобщему народному желанию. Восставший народ требовал, чтобы он вел его на Польшу. Хмельницкий уже из-под Львова думал было воротиться и только, уступая народному крику, ходил к Замостью. Хмельницкий мог идти прямо на Варшаву, навести страх на всю Речь Посполитую, заставить панов согласиться на самые крайние уступки; он мог бы совершить коренной переворот в Польше, разрушить в ней аристократический порядок, положить начало новому порядку, как государственному, так и общественному. Но Хмельницкий на это не отважился. Он не был ни рожден, ни подготовлен к такому великому подвигу. Начавши восстание в крайности, спасая собственную жизнь и отомщая за свое достояние, он, как сам потом сознавался, очутился на такой высоте, о которой не мечтал, и потому не в состоянии был вести дело так, как указывала ему судьба. Эпоха Хмельницкого в этом отношении представляет один из тех случаев в истории, когда народная масса по инстинкту видит, что следует в данное время делать, но ее вожаки не в состоянии облечь в дело того, что народ чувствует, чего народ требует. Хмельницкий был сын своего века, усвоил польские понятия, польские общественные привычки, и они-то в нем сказались в решительную минуту. Хмельницкий начал дело превосходно, но не повел его в пору далее, как нужно было. На первых порах совершил он историческую ошибку, за которой последовал ряд других, и, таким образом, восстание южной Руси пошло по другому пути, а не по тому, куда вели его вначале обстоятельства. Увидим, как Хмельницкий стал вразрез с народом и в отношении общественного идеала, созданного народной жизнью в его время.
Хмельницкий, возвратившись из-под Замостья, прибыл прежде всего в Киев. При звоне колоколов и громе пушек он въехал в полуразрушенные Ярославовы Золотые ворота и у стен Св. Софии был приветствуем митрополитом Сильвестром Коссовым, духовенством и киевскими гражданами. Бурсаки пели ему русские и латинские песни, величали его спасителем народа, русским Моисеем. Здесь дожидал его дорогой гость, Паисий, иерусалимский патриарх, ехавший в Москву. Он от лица православного мира на Востоке приносил Хмельницкому поздравление с победами, дал ему отпущение грехов, возбуждал на новую войну против латинства. Гетман был в это время почему-то грустен. В его характере начало проявляться что-то странное: он то постился и молился, то предавался пьяному разгулу и пел думы своего сочинения; то был ласков и равен в обращении со всеми, то вдруг делался суров и надменен; то молился Богу, то советовался с чаровницами.
Из Киева он уехал в Переяславль и там женился. Женой его, как говорят, сделалась Чаплинская, о прежнем муже ее разноречат источники: по одним, он был еще жив, по другим, убит. Прибавляют к этому, что Чаплинская была Хмельницкому кума и что патриарх Паисий разрешил ему такой недозволенный брак. Но есть также известие одного из современников, что подлинно неизвестно: действительно ли эта Чаплинская была жена того, который отнял у Хмельницкого Субботово, или другая, сходная с ней по фамилии?
В Переяславле съехались к Хмельницкому послы соседних государств, искавших своих выгод в связи с начинавшимся могуществом казаков. Из Турции прибыл посол от визиря, управлявшего государством за малолетством султана, и предлагал Хмельницкому союз против Польши. Тогда заключен был договор, по которому казакам предоставлялось свободное плаванье по Черному морю и Архипелагу с правом беспошлинной торговли на сто лет. Казаки обязывались не нападать на турецкие города и защищать их. Седмиградский князь Юрий Ракочи предлагал Хмельницкому вступить в союз и двинуться вместе на Польшу, чтобы доставить корону Юрию; за это Юрий обещал во всех польских областях свободу православной веры, а самому Хмельницкому удельное государство в Украине с Киевом. Прислали к Хмельницкому послов господари: молдавский и валашский, также с предложением дружбы. Хмельницкий, узнавши, что у молдавского господаря есть дочь, просил руки ее для своего сына. Прибыл посланник царя Алексея Михайловича, Унковский, привез по обычаю в подарок меха и ласковое слово от царя; но царь уклонялся от разрыва с Польшей и желал успеха казакам только в том случае, когда поводом к восстанию у них действительно была одна только вера. Наконец, в феврале прибыли в Переяславль обещанные от нового короля комиссары: сенатор Адам Кисель, его племянник, новгород-северский хорунжий Кисель, Захарий, князь Четвертинский, и Андрей Мястковский с их свитой. Последний оставил очень любопытное описание свидания с Хмельницким.
Комиссары привезли Хмельницкому от короля грамоту на гетманство, булаву, осыпанную сапфирами, и красное знамя с изображением белого орла. Хмельницкий назначил им аудиенцию на площади, собрал казацкую раду; здесь-то высказался народный взгляд, не хотевший никаких сделок, стремившийся к решительному разрешению вопроса между Русью и Польшей.
«Зачем вы, ляхи, принесли нам эти детские игрушки, – закричала толпа, – вы хотите нас подманить, чтобы мы, скинувши панское ярмо, опять его надели! Пусть пропадут ваши льстивые дары! Не словами, а саблями расправимся. Владейте себе своей Польшей, а Украина пускай нам, казакам, остается».
Хмельницкий с сердцем останавливал народный говор; но потом, за обедом, в разговорах с Адамом Киселем и его товарищами, подпивши, выразил такие же задушевные чувства:
«Что толковать, – говорил он, – ничего не будет из вашей комиссии. Война должна начаться недели через две или четыре. Переверну я вас, ляхов, вверх ногами, а потом отдам вас в неволю турецкому царю. Пусть бы король был королем: чтоб король казнил шляхту, и дуков, и князей ваших. Учинит преступление князь, отруби ему голову; а учинит преступление казак – и ему то же сделай. Вот будет правда! Я хоть себе небольшой человечек, да вот Бог мне так дал, что я теперь единовластный самодержец русский! Если король не хочет быть вольным королем, ну как ему угодно».
Адам Кисель источал пред казацким вождем все свое красноречие, обещал увеличение казацкого войска до пятнадцати и даже до двадцати тысяч, наделение его новыми землями, давал позволение казакам идти на неверных; но Хмельницкий на все это сказал ему:
«Напрасные речи! Было бы прежде со мной об этом говорить: теперь я уже сделал то, о чем не думал. Сделаю то, что замыслил. Выбью из ляцкой неволи весь русский народ! Прежде я воевал за свою собственную обиду; теперь буду воевать за православную веру. Весь черный народ поможет мне по Люблин и по Краков, а я от него не отступлю. У меня будет двести тысяч, триста тысяч войска. Орда уже стоит наготове. Не пойду войной за границу; не подыму сабли на турок и татар; будет с меня Украины, Подоли, Волыни; довольно достаточно нашего русского княжества по Холм, Львов, Галич. Стану над Вислой и скажу тамошним ляхам: „Сидите, ляхи! молчите, ляхи! Всех тузов ваших, князей туда загоню, а станут за Вислой кричать – я их и там найду! Не останется ни одного князя, ни шляхтишки на Украине; а кто из вас с нами хочет хлеб есть, тот пусть войску запорожскому будет послушен и не брыкает на короля“.
Слушая эту речь, паны, как сами потом говорили, подеревенели от страха.
Окружавшие Хмельницкого полковники при этом говорили: «Уже прошли те времена, когда ляхи были нам страшны; мы под Пилявцами испытали, что это уже не те ляхи, что прежде бывали. Это уже не Жолкевские, не Ходкевичи, это какие-то Тхоржевские, да Заенчковские (Хорьковские от хорька – tchуrz и Зайцовские от зайца – zajаc), дети, нарядившиеся в железо! Померли от страху, как только нас увидели».
Однако, по усиленной просьбе польских комиссаров, Хмельницкий подал Адаму Киселю условия мира в таком смысле: во всей Руси уничтожить память и след унии; униатским церквам не быть вовсе, а римским костелам оставаться только до времени; киевскому митрополиту дать первое место в сенате после примаса польского; все чины и должности в Руси должны быть замещены православными; казацкий гетман должен зависеть только от одного короля; жидам не дозволять жительствовать в Украине. Наконец, в условия было включено, чтобы Иеремия Вишневецкий не получал начальства над польским войском.
Комиссары отказались подписать эти условия, в сущности довольно умеренные, и уехали. Предложения Хмельницкого возбудили негодование в польском сенате. В те времена поляки, по фанатизму, ни за что не решались на уничтожение унии. Кроме того, требования Хмельницкого угрожали панам в будущем лишением их имений и владельческих прав на Руси.
Поляки выставили войско под начальством трех предводителей: Лянскоронского, Фирлея и Иеремии Вишневецкого. Сверх того, королю дали право на собрание посполитого рушения, т. е. Всеобщего ополчения шляхты: мера эта предпринималась только тогда, когда отечеству угрожала крайняя опасность.
В Украине происходил сбор целого народа на войну. Пустели хутора, села, города. Поселянин бросал свой плуг, надеясь пожить на счет панов, на которых прежде работал; ремесленники покидали свои мастерские, купцы свои лавки; сапожники, портные, плотники, винокуры, пивовары, могильники (копатели сторожевых курганов), банники бежали в казаки. В тех городах, где было магдебургское право, почтенные бургомистры, райцы, войты и канцеляристы побросали свои уряды и пошли в казаки, обривши себе бороды (по обычаю того времени военные брили себе бороды). «Так-то, – замечает современник, – дьявол учинил себе смех из почтенных людей». Презрение и насмешки ожидали людей, не участвовавших в восстании; только калеки, старики, женщины и дети оставались дома, да и то по большей части больной человек или бездетный старик, стыдясь оставаться безучастным в деле освобождения отечества, ставил за себя наемщика. Хмельницкий разделял их на полки, которых тогда составилось двенадцать на правой стороне Днепра[90] и двенадцать на левой.[91] Но не все войско было с Хмельницким; он отправил часть его в Литву возмущать белорусских хлопов.
Хмельницкий выступил из Чигирина в мае и шел медленно, ожидая крымского хана. Ислам-Гирей соединился с ним в июне на Черном шляху. В его ополчении были крымские горцы, отличные стрельцы из лука, степные нагаи в вывороченных шерстью вверх тулупах, питавшиеся кониной, согретой под седлом; буджацкие татары, сносившие с удивительным терпением жар и холод, изумлявшие своим знанием бесприметной степи, способные, как говорили о них, подолгу оставаться в воде; были с ханом черкесы с бритыми головами и длинными чубами. Явились по зову Хмельницкого удальцы с Дона. Никто не просил жалованья вперед; каждый без торга шел на войну, надеясь разгромить богатую Речь Посполитую.
Хмельницкий со своим полчищем осадил польское войско под Збаражем 30 июня (10 июля нового стиля) и держал его в осаде, надеясь принудить к сдаче голодом и беспрестанной пальбой. Поляки заготовили себе так мало запасов, что через несколько недель у них сделался голод. Роскошные паны принуждены были питаться конским мясом; простые жолнеры пожирали кошек, мышей, собак, а когда этих животных не хватало, то срывали кожу с возов и обуви и ели, разваривая в воде. Много умирало их; казаки нарочно бросали в воду трупы, чтобы испортить ее. Поляки доходили до такого положения, в каком были их отцы в Москве. Русские хлопы насмехались над ними и кричали:
«Скоро ли вы, господа, будете оброк собирать с нас? Вот уже целый год, как мы вам ничего не платим; а может быть, вздумаете заказать нам какую-нибудь барщину?.. Сдавайтесь-ка лучше! а то напрасно кунтуши свои испачкали, лазаячи по шанцам! Ведь это все наше, да и сами вы попадете в добычу голодным татарам! Вот что наделали вам: очковые, да панщины, да пересуды, да сухомельщины! Хороша вам была тогда музыка, а теперь так славно вам в дудку заиграли казаки!»
Несколько раз уже распространялось между жолнерами намерение разбежаться, хотя это значило идти всем на явную смерть, потому что хлопы не оставили бы в живых никого; но весь обоз удерживал тогда воинственный князь Иеремия Вишневецкий. По его совету, один шляхтич, по имени Стомпковский, причесавшись по-мужицки, взял с собой письмо к королю; ночью он перелез окопы, бросился в пруд, примыкавший с одной стороны к польскому обозу, переплыл пруд, прополз среди спящих неприятелей, к свету пробрался до болотистого места, где просидел целый день; следующую ночь опять полз среди спящих неприятелей, при малейшем шуме припадая к земле и затаивая дыхание, как делают охотники за медведем. Минувши неприятельский стан, он пустился бежать, выдавая себя за русского хлопа, потом взял почтовых лошадей и прискакал в местечко Топоров, где застал Яна-Казимира.
Король, получивши от папы благословение, освещенное знамя и меч, выехал из столицы и следовал медленно, ожидая прибытия из разных воеводств ополчений посполитого рушения. У него было регулярного войска тысяч двадцать (а может быть, несколько более). Посполитое рушенье беспрестанно прибывало по частям. Получивши письмо от осажденных и расспросивши Стомпковского о положении войска, король двинулся на выручку осажденным; но путь его был труден по причине дождей, испортивших дороги. Поляки потом жаловались, что никак не могли добыть точных сведений о неприятеле: «Эта Русь – все наголо мятежники, – говорили они, – хоть жги их, а они правды не скажут!» Хмельницкий, напротив, знал о всех движениях своего неприятеля. Русские хлопы, привозившие припасы в королевское войско, отправлялись после того к своим братьям казакам рассказывать о положении неприятельского войска. Много слуг перебежало от своих панов к казакам.
Король прибыл наконец к местечку Зборову, уже недалеко от Збаража. Зборовские мещане тотчас же дали знать Хмельницкому о королевском приходе и обещали помогать ему. Оставивши пешее войско под Збаражем, Хмельницкий взял с собой конницу и, в сопровождении крымского хана и татар, отправился к Зборову.
В воскресенье, 5 августа (15 нов. ст.), поляки стали переправляться через реку Стрипу. День был пасмурный и дождливый. Казаки из леса видели, что делается у неприятеля. Когда половина посполитого рушения успела переправиться, а другая оставалась на противоположном берегу и шляхтичи, не ожидая нападения, расположились обедать, – казаки и татары ударили на них и истребили всех до последнего из бывших на одной стороне реки. Вслед за тем началось сражение на противоположном берегу. Король выказал большую деятельность и подвергал себя опасности; но в сумерки поляки сбились в свой обоз и неприятель окружил их со всех сторон.
Ночью паны хотели было каким-нибудь способом вывести короля тайно из обоза, но Ян-Казимир отвергнул это постыдное предложение. По совету канцлера Оссолинского, король написал крымскому хану письмо, предлагая ему дружбу, с тем, чтобы отвлечь его от Хмельницкого.
С солнечным восходом битва возобновилась. Казаки ударили на польский лагерь с двух сторон. Сражение было кровопролитное. Казаки ворвались в польский стан и достигали было уже до короля. Вдруг все изменилось. Из казацкого стана раздался крик: «Згода!» Победители отступили. Нужно было, однако, еще много времени, чтобы унять рассвирепевших воинов.
Вслед за тем явился в польский обоз татарин с письмом от крымского государя. Ислам-Гирей желал польскому королю счастья и здоровья, изъявлял огорчение за то, что король не известил его о своем вступлении на престол, и выразился так: «Ты мое царство ни во что поставил и меня человеком не счел; поэтому мы пришли зимовать в твои улусы и по воле Господа Бога останемся у тебя в гостях. Если угодно тебе потолковать с нами, то вышли своего канцлера, а я вышлю своего». Прислал королю письмо и Хмельницкий, уверял, что он вовсе не мятежник и только прибегнул к великому хану крымскому, чтобы возвратить себе милость короля. «Вашему величеству, – писал Хмельницкий, – угодно было назначить вместо меня гетманом казацким пана Забусского; извольте прислать его в войско; я тотчас отдам ему булаву и знамя. Я с войском запорожским, при избрании вашем, желал и теперь желаю, чтобы вы были более могущественным королем, чем был блаженной памяти брат ваш».
Трудно решить, что было причиной этого внезапного прекращения сражения. Украинский летописец того времени говорит, что Хмельницкий не хотел отдавать христианского государя в басурманскую неволю; поляки приписывают это дело главным образом хану. Прежде заключен был договор с ханом. По этому договору польский король обязался платить крымскому хану 90 000 злотых ежегодно и сверх того дать 200 000 злотых единовременно. Татары называли это данью; поляки оскорблялись и говорили, что это «не дань, а подарок». Татары отвечали: «Все равно, как ни называйте, данью или даром, лишь бы деньги были».
Затем был заключен договор с казаками. Войска казацкого положено быть 40000, с правом записывать их из королевских и шляхетских имений на пространстве, занимаемом Киевским, Брацлавским и Черниговским воеводствами (нынешними губерниями: Киевской, Полтавской, Черниговской и частью Подольской). В черте, где будут жить казаки, не позволяется квартировать коронному войску и проживать иудеям: все должности и чины в означенных воеводствах будут даваться только православным; иезуитам не дозволяется жить в Киеве и других местах, где будут русские школы; киевский митрополит будет заседать в сенате; а относительно уничтожения унии как в королевстве Польском, так и в Великом княжестве Литовском будет сделано сеймовое постановление. Обещана всем полная амнистия за все прошлое.
После заключения договора, Хмельницкий 10 августа (20 н.с.) был допущен к королю (взявши, однако, заложников на то время, когда отправится в польский лагерь). Он держал себя с достоинством, говорил хотя почтительно, но смело, изложил в кратком виде насилия и оскорбления, которые были делаемы польскими панами и довели народ до восстания. «Терпение наше потерялось, – выразился Хмельницкий, – мы принуждены были призвать чужеземцев против шляхетства. Нельзя осуждать нас за то, что мы защищали нашу жизнь и наше достояние! И скот бодается, если его мучат!»
Литовский подканцлер Сапега, от имени короля, тут же присутствовавшего, объявил ему забвение всего прошлого.
Мирный договор избавил остаток войска, погибавшего от голода под Збаражем. Вслед за тем дано было приказание прекратить войну и в Белоруссии. Восстание приняло было в этой стране уже значительный размер, когда туда явились с казаками два предводителя, Подобойло и Кречовский. Они успели поднять несколько десятков тысяч хлопов, но польский литовский гетман Радзивилл, после упорного с их стороны сопротивления, уничтожил их скопище близ Речицы. Раненый Кречовский попался в плен и, чтобы не доставаться на поругание победителю, разбил себе голову о воз, на котором его везли взявшие в плен неприятели.
Первое время после заключения мира было временем всеобщего восторга, эпохой небывалой народной славы. Скоро осмотрелись русские, опомнились от упоения победы; настали для них опять скорби, заботы и беды. Весь прошлый год поселяне не пахали полей, находясь в рядах казацкого войска; много набрали они добычи, но все это продавалось дешево московским и турецким купцам; хлеб поднялся в цене; тяжело стало бедным. Но то было начало скорбей; – только цветики, как говорится. Оказалось, что Хмельницкий не так-то благодетельно для народа устроил его дело и что Зборовский договор, по своему содержанию, представлял решительную невозможность как для русских, так и для поляков соблюдать его; обе стороны должны были его нарушить.
По силе Зборовского договора, митрополит Сильвестр Коссов явился в Варшаву занять свое почетное место в сенате. Но римско-католические духовные подняли ропот и объявили, что они сами оставят сенат, если рядом с ними будет допущен схизматик, враг апостольской столицы. Митрополит должен был удалиться. Еще менее возможно было уничтожение унии. Король 12 января дал грамоту, утверждающую права православной церкви и неприкосновенность церковных и монастырских имений; ведомству киевского митрополита возвращались епархии: луцкая, холмская и витебская, соединенная с мстиславской. Дозволялось возобновлять православные церкви: предоставлялись надзору русского духовенства школы, типографии и цензура духовных книг. Эта грамота короля Яна-Казимира мало могла иметь силы, как и те, которыми наделял православную церковь король Владислав. Пока существовала уния, православная церковь не могла быть свободной.