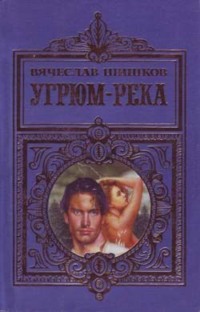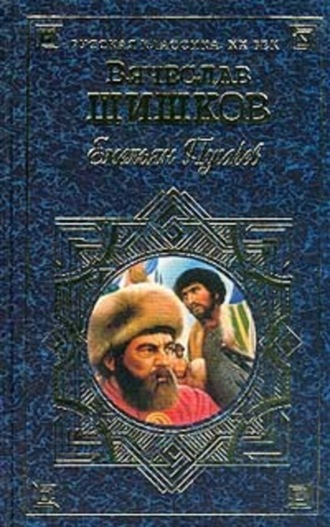 полная версия
полная версияЕмельян Пугачев, т.1
Получив такой афронт, и Деколонг, и Фейервар только головами покачали.
Казанский губернатор, старик фон Брант, точно так же проявил воинственную деловитость. Регулярного войска в его губернии было крайне мало, всю надежду он возлагал на отставных солдат-поселенцев, правда, не имевших оружия и забывших воинскую муштру. Тем не менее он велел генерал-майору Миллеру собрать эти силы и расположить их по южной границе Казанской губернии. Всего было собрано до 1500 поселенных солдат.
Брант выехал на ближайшую к мятежу границу губернии, чтоб зорко следить за поведением бунтовщиков. Он приказал ставропольскому коменданту, бригадиру фон Фегезаку, собрать сколько возможно войск и двинуться на выручку Оренбурга. Помимо того, Брант отдал приказ сибирскому коменданту, полковнику Чернышеву, идти со своим отрядом к самарской линии укреплений[96], забирая по пути калмыцкую конницу и регулярные части. Одновременно с этим было распоряжение премьер-майору фон Варнстедту отправиться с отрядом из Кичуя к Бузулуку.
Таким образом, против безвестного дотоле Емельяна Пугачева ополчились, как мы видим, Рейнсдорп и фон Брант, Валленштерн и Деколонг, Фейервар и фон Фегезак, Миллер и Варнстедт, Кар и Фрейман, а впоследствии – Михельсон, Меллин, Муфель и другие.
Встревоженная Екатерина пользовалась теперь всяким случаем, чтоб выведать настроение народа, особенно крестьянства. Интересовали ее и настроения землевладельцев.
Узнав, что бывший гетман Малороссии Разумовский перебирается на зиму в свой Глухов, поближе к Киеву, царица имела с ним беседу.
– Послушай, Кирилл Григорьич, – сказала она. – Как будешь переезжать к себе, узнавай состояние умов крестьян, а заодно и помещиков, и какова там эха пугачевской смуты. Ведь я, сам ведаешь, толь из своего окна вижу Россию, а что творится в глуши, где мне знать?
– Да, матушка, – прикинувшись простачком, ответил ей бывший гетман, точивший на Екатерину зуб – ведь она, по-царски наградив Разумовского, вырвала из его рук власть. – Ты не Петр Великий, это он, бывало, всюду поспевал и в бричке, и верхом, а инде и пешим по болотам. Для него Россия, как облупленное яичко, на ладошке была. А ты, матушка, женщина, тебе и Бог простит. Тебя хоть и прокатят по Волге до Казани, так нешто покажут явь-то нереченную!
Гетман знал, что эти слова сильно заденут императрицу. И Екатерина действительно смутилась. Однако, чтоб замаскировать это, она рассыпалась перед графом в благодарности за его искренность и прямоту, а в подтверждение слов своих достала из кармана робы драгоценную табакерку и наградила ею бывшего гетмана, сказав:
– Я очень уважаю и люблю тебя, Кирилл Григорьич, маленечко люби и ты меня... Чуть-чуть, чуть-чуть, – с неуловимой прелестью врожденного кокетства закончила Екатерина.
Разумовский ехал пышно, по-царски, и в каждом уезде, через который лежал его путь, был с триумфом встречаем местными дворянами. В очень удобной, на качающихся рессорах, карете, запряженной восьмеркой лошадей, и в сопровождении собственного полуэскадрона молодцов, одетых в гусарскую форму, граф въехал однажды под вечер во двор богатого помещика.
На подъезде гость был встречен хозяином и тридцатью, со всего уезда, помещиками в пышных париках, праздничных кафтанах, шелковых чулках. Женщины отсутствовали – хозяйка дома была в отъезде.
В десятом часу начался торжественный ужин с французско-украинским обильным столом. Сначала было скучно, чинно, как в мужском монастыре, произносились обычные тосты – за царствующий дом, за высокого гостя, за хозяев. Затем, в меру опорожненных бутылок, застолица оживилась. Один перед другим помещики старались рассказать графу что-нибудь занятное, изощрялись в остроумии, с собачьей преданностью заглядывали великому вельможе в глаза.
Лишь один скромно одетый старичок со впалыми, будто стесанными щеками (сидел по край стола, на торчку), насытившись яствами, сосредоточенно и мрачно глядел в тарелку с остатками недоеденного рябчика и не принимал участия в шумной беседе. Он, казалось, был болен либо чем-то сильно удручен. Впрочем, на него никто не обращал внимания.
– ...Да он сам, сам расскажет! – восклицал, продолжая разговор, граф Разумовский. Он отрезал серебряным ножичком и клал в рот сочные куски арбуза. – Иван Абрамович, будь друг, расскажи!
– Да вы, ваше сиятельство, лучше меня расскажете, – отозвался черноволосый, с приятным лицом, адъютант графа, молодой подполковник Бородин.
– Ну, ладно! Тилько где трохи-трохи брехать начну, одерни меня за фалду... – Граф подбоченился и начал: – Сей чоловик був по то время парубком... Скильки тебе годков-то було?
– Восемнадцать, ваше сиятельство. Но я был хлопец крупный, и мне давали все двадцать пять.
– Ось! – поднял палец бывший гетман. – И вот слухайте, панове, який этот хлопчик был засоня. Едет он с эстафетой к фельдмаршалу Салтыкову от самой матушки Елизаветы – превечный покой душе ее. – Граф перекрестился, а глядя на него, и все гости, не угашая улыбок, тоже перекрестились. Лишь мрачный старичок сидел, как изваяние, смотрел в тарелку. – А дело було в Прусскую войну. Грязюка на дорогах – лошадям по колено, а дорога тряская, таратайка дыр-дыр-дыр по каменьям... тут уже не до сна, а того гляди, от трясовицы очи выпрыгнут. Ровно семь суток проскакал хлопец по такой грязюке, и день и ночь, и день и ночь. Да так за это время умаялся, так уездился, что... В какой городок ты приехал?
– В первый от границы прусский городишко.
– Видит он: двухэтажный домочек с вывеской: «Кофейня». И сейчас же – туда. Подымается наверх, ему навстречу две немки-хозяйки: «Ах, русский офицер, ах, пожалуйте!» – и тотчас побежали готовить кофе. А сей хлопчик, как у него очи уже не взирали на Божий свет, повалился на кушетку и, пока кофе готовили, заснул... Ха-ха!..
– Ха-ха-ха! – отозвалась предупредительно застолица.
– Ось добре. Немочки принялись гостя будить. Не тут-то было! Уж что они над ним ни вытворяли: и уши терли, и дубом ставили, и в ноздре щетинкой щекотали, а вьюнош, как зарезанный гусак, тильки головой мотае да мычит... Ось добре... А немочки-то в помещении одни проживали, ни прислуги, никого. Матильде годиков под сорок, Кларе годиков под тридцать, родные сестры. И обе, заметьте себе, девушки, а младшая – Клара – еще прехорошенькая, пышка! А как были они зело набожны и девическую честь свою блюли пуще глаза, то, дабы избежать всяких среди соседей кривотолков, рассудили вытащить вьюношу на холодок. Вот они, с великим кряхтеньем, за руки да за ноги выволокли его со второго этажа на улицу и положили на лавку у ворот. А вьюнош спит. Як освежеванная свинячая туша. Ха-ха-ха!..
– Ха-ха-ха!.. – всхохотнула застолица.
– Ну, продолжай, дружок, теперь ты сам, – обратился граф к адъютанту и вынул из кармана табакерку.
Осыпанная бриллиантами золотая табакерка, отражая в себе огни двух люстр, засверкала волшебным сиянием. Все взоры влипли в чудодейственную штучку, глаза загорались то вожделением и завистью, то очарованием и любопытством. Граф, наблюдая вприщур восхищенные лица публики, не спеша пощелкал по крышке табакерки двумя перстами, тщеславия ради повертел ее перед огнями люстр, открыл, понюхал табаку и только лишь хотел опустить в карман, как услышал почтительный, задыхающийся от восторга голос соседа, осанистого, с благородным лицом, помещика.
– Осмелюсь, ваше сиятельство... Дозвольте полюбопытствовать.
– Зараз, зараз... Прошу, – и граф передал табакерку соседу.
Табакерка пошла по рукам от гостя к гостю.
– Ну, дружок, мы ждем, – вновь обратился граф Разумовский к адъютанту.
Тот, сочтя, что второй раз отказываться неприлично, вытянул руки, посмотрел на красиво отточенные ногти и начал:
– Дальше было так, господа. Обе девушки, поскольку стояло ночное время, легли в постельку спать. И вдруг слышат – по крыше дождь барабанит. «Матильдочка, – сказала Клара, – как же быть? Ведь офицера промочит холодный дождик, он может заболеть...» – «Придется внести его, Клара. Не дай Бог, захворает да еще умрет.. Все-таки жаль!» – «Но как же нам с мужчиной ночевать? Что скажут соседи? Это очень неприлично, это грешно». – «Бог простит, давай внесем...»
– От-то чертяка! – захохотал граф, прихлебывая ароматный глинтвейн. – Откуда же знаешь их разговор? Под кроватью у них, что ли, сидел?
– Нет, граф... Я спал в это время не под кроватью, а под дождем, но они впоследствии сами рассказали мне. Итак, оные девушки снова вволокли меня во второй этаж и положили на ту же самую кушетку. Проснулся я на другой день, к обеду. Вскочил, как сумасшедший. Боже мой! Эстафета ее величества, фельдмаршал Салтыков!.. Хозяйки заторопились готовить завтрак, а я побежал за лошадьми. Страшно болел затылок. Я пощупал его, он весь вспух, весь в шишках. Ну, значит, девушки, на руках, волокли меня почем зря, и дважды, дважды пересчитал я затылком ступени их проклятой лестницы!
Гости засмеялись. Лакеи налили вина.
– Ха! Вот как спят русские люди! – воскликнул слегка захмелевший граф и с укором посмотрел на присутствующих. – А особливо крепко спит, в смысле иносказательном, наш дворянский корпус. И до таких пор дворяне будут спать, покуда гром не грянет. О, Господи, прости меня грешного, и я таков, и я таков. «И в лености все житие мое иждих», как в церкви поется, – он едва лишь покосился на бутылку бургундского, как все подмечающий красавец лакей с ловкостью и манерной грацией наполнил хрустальный бокал вином и подвинул графу.
– Да, ваше сиятельство, – вздохнул хозяин, узкоплечий, высокий и большеголовый человек в голубом атласном кафтане со звездой и в огромном старинном парике. – К стыду нашего дворянского сословия, мы, во вред себе и государству, малодеятельны, празднолюбивы и не любопытны.
– Не то я видел, господа, обучаясь за границей, – сказал граф. – О, поверьте... Там дворянин-помещик изощрен в науке. Культура злаков там разработана в доскональности. Помещик там от земли берет все, что она может дать. А мы что? Мы только от мужика берем все, под метелку! От земли же ничего не умеем брать. – Граф, оставив украинские словечки и шутливый тон, говорил теперь с серьезностью. – И вот – результаты... Поди, вам ведомо, что где-то там, в оренбургских степях, появился самозванец во образе покойного императора Петра Федоровича, воюет крепости, мутит народ, обещает мужикам землю, ведет их против помещиков... Словом, под Оренбургом грянул гром. Ну а у вас, в вашей Смоленщине, как мужики себя ведут?
– Да будто бы спокойно, ваше сиятельство, – пожимая плечами, ответили дружно помещики. – Однако среди народа заметно некое шатание умов, небрежение господской работой и прочие признаки свойства зело тревожного. Мужики как бы чего-то ждут...
– Вот, панове дворяне, откуда беда-то на вас идет. Мужик восскорбел о рабском своем состоянии и оное восхотел превозмочь...
– Сие неистовое его хотенье, ваше сиятельство, противно Богу, закону и традициям дворянским, из предвека существующим, – проговорил хозяин.
– Ну, Бог-то тут ни при чем, а дворянам, верю, противно! – жмуря в лукавой улыбке утомленные глаза, сказал бывший гетман. – Ну, и как же вы думаете, господа помещики?.. Представьте себе, что мужицкое смятение будет все расти да расти. Как надлежит в сие время помещику относиться к мужику? Нут-ка, нут-ка...
Гости переглядывались друг с другом, молчали. Сосед графа, солидный, осанистый человек, сказал басом:
– В ежовых рукавицах в сие время мужика надлежит держать, чтоб пресечь в нем вздорное мечтанье в самом корне...
– Вот именно! – раздались голоса. – Ныне о послаблении речи быть не должно.
– Нут-ка, нут-ка, – с поощрительной настойчивостью понукал дворян вельможа. Ему необходимо было наиточнейше знать, чем дышит помещичья Россия, – таков ведь строжайший наказ матушки. – Нут-ка, нут-ка, – еще раз повторил он и, вспомнив о табакерке, засунул пальцы в верхний карман камзола. Но табакерки там не оказалось. Меж тем помещики, перебивая друг друга, продолжали разговор. Забыв о понюшке, граф стал внимательно вслушиваться в их речи.
– Вот вы толкуете – ежовы рукавицы, – с жаром говорил краснолицый помещик, потряхивая полными, пожеванными щеками. – А где эти ежовы рукавицы? Дайте их нам! Вот недавно у меня мужики перепились да побушевать вздумали, мне из города прислали для усмирения четырех инвалидов, при них офицера с деревянной ногой. Так не им меня, а мне их защищать пришлось от подлого народа.
– Да, ваше сиятельство! – загалдели со всех сторон. – С этой турецкой войной государство внутри бессильно стало. А тут слухи о самозванце. Мужик голову поднял, того гляди за топоры возьмется да красного петуха учнет пускать...
– К тому есть примеры! – поднявшись, звонко выкрикивал подвыпивший сутулый помещик в рыжем парике. Он говорил быстро, был суетлив, успевал хватать со стола темно-синие сливы, бросать их в рот и торопливо прожевывать. – ...Взять князя Треухова, у него только что закончился бунт мужиков. Или взять помещика, секунд-майора Красина, у того мужики убили приказчика, удавили бурмистра, сам Красин бежал в Смоленск, а мужики весь барский хлеб по домам разворовали. Или, скажем...
– А как же вы, любезные дворяне, толковали, что у вас в губернии тишь да гладь? – перебил его Разумовский, насмешливо прищурив глаза и потряхивая головой.
– Обеспокоить вашу особу, граф, не хотелось...
– Я правду от вас хочу слышать, а вы меня баснями...
– Просим прощения, граф, – как шмели, загудели помещики, уставясь преданными глазами в помрачневшее лицо Разумовского. А подвыпивший помещик в рыжем парике, поддев на вилку соленый груздок и отправив его в рот, закричал:
– Увы, увы, ваше сиятельство! Мужики у нас непокорство проявлять привычку взяли, по овинам собираются, разговоры ведут, а о чем говорят – неведомо! И ни плетей, ни тюрьмы не страшатся. У меня на той недели убежали двое и двух коней свели. А среди моей дворни толки: дескать, ускакали на барских конях к объявленному царю под Оренбург.
– Вот вам... Не угодно ли, – раздраженно молвил Разумовский и глубоко вздохнул. – Да, панове, не умеем мы заботливыми хозяевами быть, не хотим о мужике пекчись. Чрез это самое добрую уготавливаем почву для всяких Пугачевых. Сами себе яму роем, панове!
– Дозвольте, ваше сиятельство, доложить, – прокричал с дальнего конца брюхатенький человек с живыми глазами; он сорвал с лысой головы парик, помахал им себе в лицо и, чуть приподнявшись, сунул его под сиденье. – Быть хорошим хозяином и своим мужикам благодетелем в нашем отечестве возбраняется, ваше сиятельство.
– Как так? – поднял брови граф.
– А так! В шестьдесят втором году, когда государь наш Петр Федорович тихую кончину воспринял («Дал бы Бог тебе такой тихой кончиной помереть», – ухмыльнулся про себя Разумовский), нашу Смоленскую губернию голод посетил. А как у меня при небольшом, но исправном хозяйстве были порядочные-таки запасы хлеба, то я, щадя жизнь своих голодающих крепостных, принял их на свой кошт. И мои крестьяне в благодарность за то, что я их кормлю, стали работать даже усерднее, чем раньше. И что же случилось, ваше сиятельство? Нет, вы послушайте, вы только послушайте!
– Бросьте-ка вы, Афанасий Федорыч, докучать его сиятельству. Знаем, знаем... Чепуховый ваш рассказ, тоску наведете только, – раздались два или три протестующих голоса.
– Нет, не брошу!.. Нет, соседушки дорогие, не брошу! – напористо выкрикнул толстобрюхенький Афанасий Федорыч и посверкал на крикунов обозленными глазами. – Вдруг, ваше сиятельство, наезжают ко мне скопом со всего уезда помещики – кой-кто из них сидит за сим столом – и начинают мне уграживать: «Ах ты такой-сякой, да мы на тебя жаловаться будем, ты черный народ возбуждаешь к бунту». Я, не ведая никакой вины за собой перед правительством, прошу их объясниться. А они мне: «У наших мужиков нет ни куска хлеба, и мы ни зерна не даем им, а ты своих кормишь. Да как ты смеешь? Да знаешь ли, что через это воспоследует?» – «Знаю, – говорю. – Мои крестьяне живы будут, а ваши с голода помрут». – «Врешь! А выйдет вот что: наши мужики, проведав, что ты своих кормишь, а мы не кормим, перебьют нас всех. Ты бунтовщик, ты дворянское сословие позоришь... Мы сейчас подаем бумагу губернатору, чтоб он приказал арестовать тебя».
– Ха-ха-ха! – раскатисто и громко захохотал Разумовский. – Значит, ату, ату его! Не будь я своеволен...
На этот раз графского хохота никто не поддержал, а его сиятельству приспело наконец желание нюхнуть табачку, он похлопал себя вновь по карманам, нахмурился и выкрикнул:
– Господа! Потрудитесь возвратить мою табакерку. У кого моя табакерка?
Все зашевелились, заерзали, зазвучали отрывистые фразы, пререкания. «Иван Иваныч, я ж вам передал, помните?» – «А я передал Федору Петровичу». – «А я, а я... Я уж не помню кому... Тут через стол все тянулись».
– Ну что ж, табакерки не находится? – выждав время, спросил граф голосом потвердевшим и поднялся.
Наступило молчание. Все сидели, пожимая плечами, подозрительно косясь друг на друга. Всяк почувствовал себя необычайно гадко. Гости, а в особенности хозяин, понимали, что произошел величайший скандал: среди дворян был вор.
– В таком разе уж не погневайтесь на меня, панове, уж я сам буду разыскивать табакерку... Я бы плюнул на это дело и ногой растер, ежели бы сам ее купил, а то табакерка-то суть презент самой матушки. Потрудитесь уж, господа, вывернуть карманы... – проговорил граф Разумовский не то в шутку, не то всерьез.
Все, хмуря брови и сопя, принялись с поспешностью выворачивать карманы.
Первым был обыскан хозяин, вторым – адъютант графа подполковник Бородин. Граф осмотрел карманы, прощупал горячими ладонями его спину, бока и грудь, даже пошарил за широкими голенищами ботфорт. Все поняли, что граф не шутит. Граф внимательно осмотрел третьего, четвертого, пятого, осмотрел, наконец, двенадцатого и приблизился к тихому старичку, все в той же мрачной позе сидевшему последним, с правой стороны стола.
Старичок весь дрожал, его бросало то в жар, то в холод, горящее ярким румянцем сухощекое лицо его покрылось испариной, седой паричок жалко съехал на ухо.
– Встань, любезный! – приказал подошедший к нему граф. – Ты что ж карманы не вывернул, любезный, а?
Вскочив на ноги, старичок взглянул в глаза графа тихим, умоляющим взором, прижал к груди стиснутые в замок кисти рук и чуть слышно прошептал:
– Ваше сиятельство, будьте великодушны, не губите!.. – он едва передохнул и полузакрыл глаза. – Пощадите меня, пойдемте в соседнюю комнату, я вам все открою, – нашептывал он и, не в силах от волнения стоять, схватился руками за спинку кресла.
– Пойдем, душенька, пойдем, – громко произнес граф. – Иди вперед, указывай дорогу!
И граф двинулся вслед за сухоньким старичком, расхлябанно шаркающим больными ногами по натертым паркетам. На старичке помятый, серого цвета кафтан с протертыми возле локтей рукавами и стоптанные, порыжелые сапожонки.
Осанистый, пухлый граф напоминал собой откормленного сибирского кота, а серенький старичок был похож на приговоренного к лютой смерти неопытного мышонка.
Великолепный вельможа, сияя драгоценными каменьями, нанизанными на его богатый, рытого бархата кафтан и щегольские туфли, на ходу повернул голову к гостям и многозначительно потряс вытянутым указательным пальцем, как бы говоря: «Ну и распатроню я этого мазурика».
Когда они оба – граф и старик – скрылись, за столом начались бранчливые пересуды:
– Вот мошенник... Ну можно ли было...
– Нет, это сверх всяких вероятий...
– Ну, укради он у меня или у кого другого, а то у вельможи, всему свету известно...
– Да кто его, господа, притащил сюда, того прощелыгу?
– Сам притащился...
– Царь Небесный, со мной чуть не приключился удар... Уж я лакеев своих заподозрил... Господи, Боже мой!
А там за дверью маленький старичок, то и дело прикладывая к глазам засморканный платочек, срывающимся задышливым голосом пытался разъяснить графу плачевное свое положение:
– Видит Бог, видит Бог, ваше сиятельство, я табакерки вашей не брал и к ней не прикасался... – через всхлипы и вздохи говорил он, выстукивая зубами дробь. – А как я беден и малую имею толику землицы, а детей содержу шестеро, да жену, да женину мать, в параличе лежащую, то почасту мы и голодаем. Вот жена иным часом и наущает меня: поезжай, Васенька, туда-то, я-де слышала, званый обед там, хоть и соприглашен ты, а как-нито проскочи, упроси лакеев, укланяй, они-де авось смилосердствуются – пустят. А за столом-то наедайся с усердием, да и нам-де кой-чего прихватишь... Так, ваше сиятельство, я на своей кобылке да в бричке рогожной и разъезжаю по богатым людям, снискивая себе пропитание. Вот, ваше сиятельство, и сюда я таким же манером попал, крадучись.
– Но почему ж ты не показал карманы, раз заявляешь, что у тебя табакерки моей нет? – видя явное запирательство старика, раздраженно спросил граф.
– Ваше сиятельство, грех вам столь обидно думать на меня, на старого. Ежели повелите, я здесь не токмо что карманы, сам до наготы разденусь... А при всех гостях не вывернул я карманы потому, что вот, извольте посмотреть: в этом кармане две доли пирога у меня с мясом, в этом – кусок пирога с вареньем, а в этом – парочка рябчиков, а в этом – белый хлеб с ветчиной да с белорыбицей. Это суть и есть пропитание для нищего семейства моего! – Изможденное лицо старика взрябилось в горестной гримасе, он упал графу в ноги и залепетал: – Не губите, ваше высокое сиятельство... и умоляю вас, никому не сказывать о моем... невольном... прегрешении!
– Это не грех, не грех, голубчик, – с чувством соболезнования молвил граф и, поспешно, насколько ему позволяла дородность, подхватил расслабленного старика под мышки, поставил его на ноги. – Верю тебе, старче! На-ка, брат, возьми на бедность, – граф запустил руку в глубокий карман штанов, чтоб достать несколько золотых монет, и вдруг ущупал там драгоценную пропажу... На мгновение он пришел в столбняк, красногубый рот его передернулся. Затем, сунув старику горсть червонцев, он, потеряв всю свою респектабельность, с облегчающим хохотом вошел в столовую:
– Эврика! Эврика!.. Господа! Пропажа нашлась, – он поднял руку и посверкал табакеркой перед огнями. – И знаете, кто вор?
– Знаем!.. – хором, с ожесточением ответили гости.
– Я – вор! – ткнул граф Разумовский табакеркой себя в грудь. – Прошу прощенья за треволнения!
Все уставились на графа выпученными глазами. И не успели еще вокруг опомниться, как вбежал лакей и, подскочив к хозяину, что-то сказал ему на ухо.
Хозяин с шумом поднялся, задышливо проговорил:
– Господа! Несчастье. Кажется, старичок-то у нас... того!
Все быстро, толкаясь в дверях, вошли в соседнюю комнату. Щупленький, сухощекий старичок, в парике с косичкой, разметался на полу в жалкой позе, вверх лицом. Левая рука его откинута, в скрюченных пальцах – червонцы, дар Разумовского. Из кармана торчит кусок пирога. На лице тихая, виноватая улыбка, будто старичок хотел сказать: «Уж вы не прогневайтесь, господа... Ненароком я... Уж так приключилось со мною».
Граф Разумовский сказал:
– Ну, этакому дворянину отныне никакая мужичья смута не страшна.
– Ему, ваше сиятельство, и при жизни мужичья-то смута не была страшна! – подхватил кто-то из гостей резким до неприятности голосом. – Покойник – сосед мой по имению... У него и крепостных-то душ всего-навсего семеро, да и те, извините меня, древнего возраста, а то калеки-с...
Все угрюмо поглядывали то на покойника, то на знатного гостя, а тот, опустив голову, растерянно вертел в пальцах драгоценную табакерку.
В ту самую пору, когда граф Разумовский «усиливался изучать» настроения смоленского дворянства, в городе Казани, в грозовой атмосфере надвигавшихся событий, разыграна была некая церковная интермедия.
5 октября поутру архиепископ Вениамин выехал из монастыря в кафедральный кремлевский собор в парадном, отделанном яркой позолотой «берлине», на шестерке лошадей; кучер – в голубом кафтане с плюмажем. Впереди рысцою подвигались двое верховых архиерейских служек в зеленых епанчах; передний держал на руке святительскую мантию, задний – серебряный посох. Встречные, не исключая татар, срывали шапки, отвешивали низкие поклоны проезжавшему владыке.
После торжественного облачения в мантию, при пении хора, престарелый седобородый Вениамин с паперти проследовал в собор, где и совершил краткое молебствие. Затем, в окружении духовенства и клира, под сенью хоругвей, весь в сиянии золотой парчи, он появился на высоком воскрылии собора. Все здесь преисполнено было пышности.
У подножия кремля лежал в блеске осеннего солнца большой полурусский, полутатарский город со многими мечетями и церквами. Вдали, сквозь темное кружево голых деревьев, отсвечивала, туманилась Волга. Кремль был набит народом. Возле собора люди стояли густо, плечо в плечо. Впереди, в длиннополых синих кафтанах, – именитые казанские купцы-бородачи: Крупенниковы, Носов, Мухин, Корнилов, Кобелевы, Пчелины, Иноземцев и многие другие. Некоторые с медалями, а иные, занимавшие в городском магистрате выборные должности, в мундирах и при шпагах. Отдельной, довольно многочисленной группой стояли пленные польские конфедераты с Пулавским во главе.