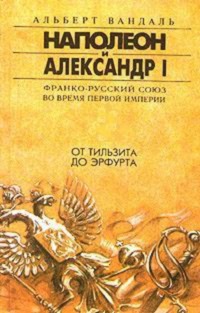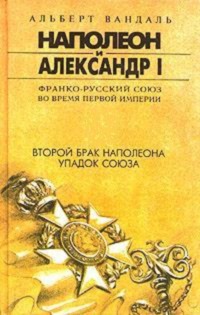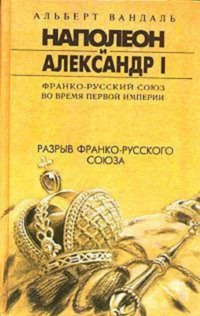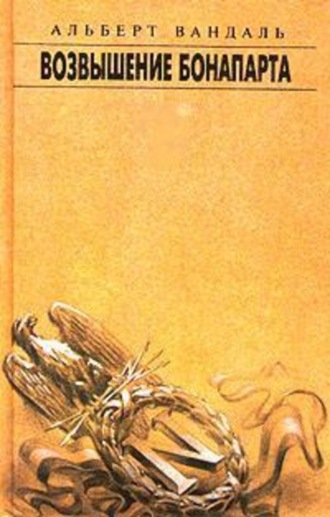
Полная версия
Возвышение Бонапарта
В этой фантастической обстановке мечется толпа в каком-то радостном неистовстве, не помышляя о завтрашнем дне, не предполагая, чтоб это завтра могло наступить. Не надо, конечно, слишком обобщать и судить о Париже в целом по тому, что выделяется и бьет в глаза с первого взгляда. Как и всегда, парижане группировались в различные общества, в кружки, развившиеся между собою и по внешности, и по манере держать себя, но самые блестящие и шумные, ослеплявшие и увлекавшие за собой толпу своим примером, толкали ее к лихорадочному наслаждению данным моментом.
Этот переливающийся всеми цветами радуги поток, берущий свое начало в революции, уносит и обломки старого режима. В общем падении сословных перегородок никто уже не знает, кто он таков и куда идет. Сыновья знатных семейств, не видя перед собой никакого будущего, чужые в родной стране, тоже приняли участие в общем революционном разгуле. Они живут в Париже, как в кабаке, или еще худшем притоне. Все, что они успели спасти от кораблекрушения, уходит на мелкие расходы. То же самое и со многими возвратившимися эмигрантами, живущими день за день под чужим именем, каждый вечер спрашивая себя, не расстреляют ли их завтра на Гренелльской площади. Новое общество, со своей стороны, отрекаясь от своего происхождения, забавляется контрреволюционной болтовней, обезьянничает, копируя тон, манеры, смешные стороны и разврат бывших вельмож, что не мешает ему сохранять все уличные замашки, оно соединяет в себе “пороки двора и придворной челяди – чудовищное смешение”.[109]
Все в этом обществе поддельно, все отдает контрабандой. В довершение лживости этой эпохи, когда столько людей говорят, мыслят и живут подложно, установившиеся моды придают толпе совершенно маскарадный вид. Молодежь lesjeunes gens ходит в цветных фраках, квадратных, умышленно плохо скроенных и лезущих кверху на спине, со слишком коротким жилетом, шалью зеленого цвета и высоких штанах; лицо зажато между шляпой с опущенными книзу углами и необычайно пышным галстуком; плечи стянуты, бюст укорочен; поглядеть на эти шутовские фигуры на тощих ножках – сущие полишинели, изломавшиеся на подмостках. Женщины, под предлогом перехода к греческому костюму, показываются раздетыми и становятся общественным достоянием.
Престарелый ci-devant,[110] прибывший в Париж из провинции, дивится этой метаморфозе и, по-видимому, не недоволен ею. – Июньский вечер; все женщины в белом, одетые так легко, что кажутся совсем раздетыми. “Шел дождь, и они одной рукой подбирали свои платья, так натягивая их, что легко было рассмотреть все их формы. Современная грация и мода не позволяют иметь в кармане ничего, кроме тоненького платочка; таким образом, ничто не скрывало приятных очертаний”.[111] На женщинах, о которых все говорят и восхищаются ими, можно проследить все превращения и крайности пластической моды;[112] талия под грудью, платье, превращенное в воздушный футляр из газа или крепа, без рукавов, спадающее с плеч, раскрывающейся сбоку на трико телесного цвета; под ним сорочка, легкая, как пар, а то и вовсе никакой; на ногах котурны с алыми шнурками, на большом пальце золотой обруч.
У этих женщин времен директории, вышедших из различных сословий, во всем противоречия; в одежде и в позах аффектированное пристрастие к античным линиям, и вместе с тем стремление к чисто парижскому беспокойному щегольству. Цветущее плебейское здоровье, аппетит маркитантки, любовь к утомительным физическим упражнениям, страсть, катаясь, непременно править самой, мальчишеские ухватки и наряду с этим жеманство, подражание тону старого режима. Говорят, пришептывая, каким-то расслабленным языком, точно не имея силы расчленять слова, и вдруг среди этого воркованья прорвется какой-нибудь тривиальный и вульгарнейший оборот, акцент предместья, крепкое словцо.[113] Тем не менее обязательно в свои приемные часы напускать на себя сентиментальный, томный, меланхолический вид, и женщины млеют, когда Эллевиу воркует ариетту под аккомпанемент нежных надтреснутых звуков клавесина. Наравне с гривуазными куплетами и грубыми двусмысленностями в большой моде романсы и пасторали – нелепые цветы, выросшие на почве, от которой еще идет кровавый пар. Обожают поля, зелень, лесную прохладу, журчанье ручья; любовь к природе доходит до возвращения к первобытной животности, под покровом жеманства, и все это блестящее общество недалеко от позолоченного варварства.
Распущенность нравов дошла до крайних пределов; все дозволено. Законы и обстоятельства соединились для того, чтоб упразднить нравы. Несчастье разрознило семьи, бросило в одну сторону мужа, в другую жену, в третью детей. Революционное законодательство ослабило отцовский авторитет, и семья также стала республикой. Правда, в собраниях как бы намечается поворот назад, но они не смеют высказаться открыто.[114] Нововведение – развод по причине простого несходства характеров – делает семейный очаг непрочным и превращает семью в какое-то перекати-поле. Брак – договор, который всегда может быть расторгнут по желанию одной из сторон, договор на срок. Женятся на год, на месяц; женятся ради удовлетворения прихоти, разводятся и снова сходятся из деловых соображений. Некто женился сначала на племяннице тетки с большими капиталами, затем развелся и женился на тетке, восьмидесятидвухлетней старухе, а после смерти второй жены, отказавшей ему по дарственной записи свое состояние, снова берет первую, молодую.[115] Другой, женатый подряд на двух сестрах и схоронивший обеих, просит разрешения вступить в брак с их мамашей.
Наряду с законным сожительством и гласными связями процветает случайная любовь. Сословные перегородки и приличия упразднены; оба пола пользуются полной свободой сближения. Но эти порывы веселья, страсти или безумия лишь на время заглушают растущую скуку и общую тошноту. “Можно сумасбродствовать, не веселясь”,—говорит один из тогдашних авторов, и Париж болен сплином.[116] Когда все изведано, и переутомленные чувства отказываются давать ощущения, впадают в постыдное распутство. – “Испорченность нравов дошла до предела, – пишет парижская полиция, – и беспорядочная жизнь нового поколения грозит неисчиcлимыми гибельными последствиями будущему поколению. Содомский грех и софическая любовь стали так же наглы, как и проституция, и делают прискорбные успехи”.[117]
Во все ли классы населения проникла эта зараза, отравила ли она народную душу? Под влиянием общества, придавшего эпохе ее внешний вид и создавшего ей репутацию, действительно ли заметно понизился общий уровень нравственности? – В деревнях упразднение религиозной узды причинило немало зла. Друг конституции, епископ Ле-Коз, христианин и вместе убежденный революционер, пишет из Ренна: “Увы! как развратилось наше общество! Блуд, прелюбодеяние, кровосмесительство, яд, убийство – вот ужасные плоды философских учений, даже в наших селениях. Мировые судьи уверяют, что если не положат преграды этому потоку безнравственности, во многих коммунах скоро нельзя будет жить”. Не видно, однако ж, чтобы принципы и факты, действовавшие растлевающим образом, везде оказали свое влияние; к тому же воздействие их было слишком грубо для того, чтобы против него не возмутилось народное сознание, воспитанное в известных традициях. Была внезапная ампутация всякого нравственного чувства у великого множества лиц, не было медленного и постепенного отравления масс. Мы уже видели, что миллионы поселян и горожан сами желали возвращения дисциплины, налагаемой католицизмом. Во всех классах населения есть еще семьи, которые живут по-хорошему, оставаясь верными старинному семейному началу, храня залог прирожденной честности расы. Один швейцарец, посетивший Париж, нашел парижских буржуа малоразвитыми, но “добрыми, сострадательными, услужливыми”,[118] они кажутся только менее сообщительными, более сдержанными, чем прежде, как оно и естественно после сильных потрясений и страхов. Иностранный дипломат пишет: “Мы были бы несправедливы к французской нации, если бы сочли ее безнадежно развращенной революцией. То лишь подонки народа, подброшенные кверху сильным брожением и всплывающие повсюду накипью безнравственности, вводят в обман неопытный взор. Я отнюдь не думаю, чтобы различные классы населения были более развращены во Франции, чем в других странах, но смею надеяться, что никогда ни один народ не будет управляем волею более глупых и жестоких злодеев, чем те, которые правят Францией с самого начала ее новообретенной свободы”.[119]
Этот убийственный приговор правящему классу, очевидно, нуждается в оговорках и уж, конечно, не может быть распространен на всех участников революции. И у них, как у тех, кто борется против движения, исступление кризиса все довело до крайности; слабых развратило, дурных людей сделало преступниками, хороших подняло до подвигов; если революция разверзла бездны безнравственности, зато она открыла и высокие вершины добродетели и бескорыстия. И в эпоху, директории, когда число искренних республиканцев сильно сократилось, революция сохраняет верующих и благоговейно преданных ей приверженцев; администраторы одного округа говорят о ней: “наша святая Революция”.[120] Даже вне армий, этой школы суровой и прекрасной энергии, мы видим много примеров гражданского героизма, принесения себя в жертву высшему принципу; а в некоторых группах удивительную стойкость философского идеала, усилие выработать себе нравственный закон вне всяких религиозных концепций, сердца, истинно любящая добродетель римского образца, и души стоиков.
IV
В этой Франции, столь разнообразной, еще кипящей на поверхности, недвижной и приниженной в глубине, существует ли какое-нибудь общее стремление? Есть ли такой вопрос, относительно которого все бы сошлись? Да, ибо среди управляемых, за исключением агитаторов крайней левой и крайней правой, все желают внешнего мира, мира вообще, прекращения войн, с 1792 года порождающих одна другую. Это кажется первым средством от всяких зол, продолжающих угнетать народ. Во имя внешней опасности, революция потребовала и продолжает требовать от страны неслыханных жертв деньгами и людьми; война больше, чем все другое, сделала ее свирепой и кровожадной; благодаря войне и посредством ее партии усиливаются поддерживать волнение внутри страны.[121] Надеются, что с заключением мира все может понемногу смягчиться, вновь наладиться, принять устойчивую форму. От мира, впрочем, ждут и непосредственных ощутительных выгод: с миром исчезнет потребность в исключительных законах или предлог вводить их, облегчатся общественные повинности, тысячи рук снова возьмутся за плуг, границы откроются для обмена товаров, порты будут свободны, промышленность вновь начнет работать на заграницу – и Франция жаждет всех этих воскресений, жалобно призывает их. Мир – надежда хижин, надежда мастерских, надежда салонов, надежда рабочего люда и тех, кто, задыхаясь от усталости, все еще волнуется и мечется в погоне за наслаждением, надежда чувствительных сердец и друзей человечества, надежда благоразумных политиков, чувствующих, что государственная пружина готова сломаться от чрезмерного напряжения. Мир – это слово принимает в воображении народа необычайно широкий смысл, бесконечно много охватывающий, и в то же время соответствующий своему естественному значению; для всех вообще оно означает возможность жить спокойно: отдых нервам и сон.
Этот мир, о котором так молит страна, может ли он быть посредственным или невыгодным, перед лицом коалиции врагов, всегда побеждаемой и, все-таки, живучей? Примет ли она его таким? Согласится ли на мир без сохранения и обеспечения добытого победами? Вынесет ли такое разочарование патриотизм, как понимала его революция?
Революция не создала патриотизма; она только выделила его из монархической идеи и вместе с тем популяризировала, распространила в массах. Более общечеловеческая, чем французская, по своему первоначальному замыслу она очень скоро под давлением обстоятельств, перешла в острый подъем национального чувства. Французская национальность и до того существовала века; в 1789 г., в момент сильнейшего брожения, она почувствовала себя, сознала свою силу; смутное согласие отдельных частей сменилось страстной потребностью сплотиться в одно целое, федерацией воль. В 1792 и 1793 гг. революция отождествилась с делом национальной независимости, затем отождествилась с вторжением французов в другие страны, расширением границ, завоеванием естественных пределов. Провозгласив нацию, она своими победами сделала ее великой нацией, и Франция вначале упивалась этим словом; она гордилась своими армиями и рядилась в свои триумфы, словно хотела прикрыть; этим плащом славы свои зияющие раны, лохмотья и нищету.
В данный момент в тех, кто телом и душой предался революции, кто мнит руководить ею или служить ей, упорно живет мысль о естественном призвании нашей расы к первенству, к наследованию величия римлян, к повелеванию народами; французский империализм, которого император является лишь высшим выражением. В остальной же нации, по мере того, как гаснет революционная пыль, колеблется и патриотизм. В Париже, в театрах, в кафе, на светских сборищах, на прогулках, патриотизм уже не в моде, как и революционная добродетель: “Наши злоключения не вызывают ни радости, ни тревоги; читая отчеты о наших сражениях, словно читаешь историю другого народа”.[122]
Попробуем спуститься ниже и заглянуть в самую глубь народной души; неужели от былого патриотического жара не осталось и следа? Внезапные вспышки этого великого огня покажут нам, что он лишь притаился под пеплом апатии. Народ смутно чувствует, что Франция после стольких мук и трудов должна выйти из своих испытаний с честью и мощью, выйти более сильной и радостной, материально и нравственно выросшей. Ряд внешних неудач, приблизивших неприятеля к нашим границам и вновь поставивших все на карту, окончательно поверг бы в уныние общество; чтоб ободрить его, нужна, наоборот, решительная победа, носящая в себе залог мира и упрочения уже достигнутых результатов; в особенности обрадовались бы такой победе, которая была бы ударом для ненавистной Англии, ибо тогда сразу иссяк бы самый источник войн.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
День казни Робеспьера.
2
Письма М-mе де Сталь к Редереру, 1-е октября 1796 г. Roedèvèr, “Oeuvres”, VIII, 650.
3
Souvenirs du baron de Barant, I, 39, 47, 50; Fiévée “Correspondance ot relations avec Bonaparte”, 70; Memoires et correspondance de La Fayette, V, 111. См. также тогдашние газеты и в особенности “Journal des hommes libres” и “Gazette de France”, годы VII и VIII passim.
4
Memoires et correspondance de La Fayette, V, 105.
5
Сатурналия – Бесшабашный кутеж, вакханалия (устар.).
6
Слова, приводимые М. Aulard'oм в “Etudeset lecons sur la Revolution franşaise, II, 143.
7
Le Publiciste, 20 термидора VIII г. Выдержки из газет, которые мы цитируем, были, по большей части, уже приведены нами в Revue des Deux Mondes (апрель – май 1900, март – май 1901) и в Correspondant (ноябрь – декабрь 1900). После того много выдержек из газет VII и VIII г.г. до 19 брюмера были приведены Aulard'oм в его сборнике “Paris pendant la rèaction thermidorienne et sous le Directoire”, t. V.
8
Речь Куртуа в совете старейшин, Moniteur, 25 вандемьера, VIII г.
9
Correspondance diplomatique du baron de Staél – Holstein et du baron Brinkman, письмо Бринкмана к Спарре, 369.
10
Заседание Пятисот 30 прериаля VII г.
11
“Lettre de Charles de Constant”, 63.
12
Письмо к Ле Козу, цитируемое Roussel'eм, в “Un Evégue assermente”, 259.
13
Когда он вышел из состава Директории, и с печати вновь снята была узда, в газетах писали: “Ех” директор Рейбель, выходя из директории, все увез с собой: мебель, вещи, дорогой фарфор, составлявший национальную собственность, между прочим, один сервиз, оцененный в 12000 фр.”. Затем была напечатана поправка: “Гражданин Рейбель возвратил вещи, действительно, при отъезде его, вывезенные, из Люксембурга, не принадлежавшие ему и лишь предоставленные в его пользование. Уверяют, впрочем, что это похищение было учинено не им самим и не по его приказу, а сыновьями, по приказу его жены и свояченицы”. См. Gazette de France, 5 и 6 мессидора, г. VII.
14
Journal du general Gougaud, I, 468.
15
Mèmoires de madame Chastenay, 359.
16
Journal de Gourgaud, I, 468.
17
M-me de Chastenay, 860.
18
Edmond et Jules de Goncourt “Histoire de la société française pendant le Directoire”, 300.
19
Memoires de Larévellier-Lepeaux, I, 337.
20
Eclaircissements Inédits de Cambacéres, драгоценный документ, с которым мы познакомились, благодаря любезности графа Камбасереса.
21
Journal d'un déporté, p. 2.
22
От имени Ж. Шуана, предводителя контрреволюционных мятежников во время Великой французской революции.
23
Mémoires de Dufort de Cheverny, II, 390.
24
Dufort de Cheverny, III, 376.
25
Dufort de Cheverny, II 365. Дюфор де Шеверни жил в Блезуа его мемуары ценны тем, что они написаны человеком, чуждым сильных страстей, и рассказывают почти день за днем историю революции в департаменте умеренного образа мыслей.
26
Chateaubriand, “Mémoires d'outre-tombe”, edit. Birè, II, 236.
27
Augustin Thierr, “Conquéte de l'Angleterre”, I, 314–315.
28
Предисловие Викторьена Сарду к последнему тому M. G. Zenôtre'a, “Fournebut”, XVIII.
29
Протестанты Севеннских гор, восставшие после отмены папского эдикта (1685); они носили поверх платья сорочку, chemise, на местном наречии camiso; отсюда и прозвище: камизары.
30
Бумаги генерала Mortier'a, командира 17-й военной дивизии, в тревизском архиве, открытом для нас любезностью герцога де Тревиз.
31
Лес (в департаменте Сены), где были убиты король Хильдерик II (673) и Обри де Мондидье, вельможа при дворе Карла V. Последний был отомщен своей собакой, которая всюду по пятам преследовала убийцу. Эта странная ненависть возбудила подозрение, по повелению короля, было устроено нечто вроде поединка между заподозренным убийцей и собакой (1371 г.). Макэру (убийце) дали огромную палку; тем не менее он был побежден, сознался в своем преступлении и умер на эшафоте, – Лео Бонди долгое время был притоном воров и разбойников и тем вошел в пословицу.
32
Chauffeurs, разбойники, поджаривавшие над огнем пятки своим жертвам, с целью выпытать у них, где спрятаны деньги.
33
См. документы, цитируемые Lebon'oм в “L'Angleterre et l'èmigration, 265–269.
34
Доклад Herbouoille, 19 брюмера, г. IX; Lanzac de Laborie Sadomination française, I, 300.
35
“Le maréchal Moncey”, par de duc de Conegliano, r. IX, письмо от 9-го нивоза, г. VIII. Cf. La Sicotière, “Frotté et les insurrections normandes, II, 342.
36
Alexis Chevalier, “Les Frères des écoles chrétiennes et l’instructions primaire apres la Révolution”, 5–6.
37
См. документы, цитируемые Лаллеманом в “La Révolution et les pauvres”, 205–208, 310–376.
38
Gazette de France, 4 жерминаля года VII.
39
Lallemand, 237–250.
40
Rocquain “d'Etat de la France au 18 brumaire”, 135.
41
Дебидур очень справедливо замечает о революционерах III года: “В общем, в недавно состоявшемся отделении церкви от государства они видели только способ уничтожить церковь”. Debidour, “Histoire des rapports de l'Eglise et de d'Etat en France de puis, 1789, jusqu'á, 1870”, 158.
42
Относительно этого движения см. исследования аббата Сикара в Correspondant 10 и 25 апреля 1800.
43
Victor Pierre, “la Ferreur cous le Directoire”, 253.
44
Barbé-Marbois, “journal d'un déporte”, 24 Cf. Vic. Pierr, 235.
45
Sciout, IV, 400.
46
См. наставление консулов 7-го нивоза года VIII, об отмене этих мер, Correspondance de Napoléon, VI, 4471.
47
Мемуары, III, 386–387.
48
Sciout, IV, 374.
49
Chassin “Les pacifications de l'Ouest”, III, 85.
50
Военный архив, общая переписка, августовская папка 1779 г.
51
Sciout, III, 176–177.
52
См. Lallemand, 137–146.
53
Sciout, III, 176.
54
См. выдержки, приводимые Sciout, III, 390.
55
См. “Manuel des missionnaires”, составленный в 1796 г., разобранный Aulard'oм в “Etudes sur la révolution française”, 11, 174–175. Léon Sêché, “les Origines du Concordat”, I passim.
56
Выдержки из Manuel des missionnaires Aulard'a, 176–178.
57
Донесение от 1-го прериаля, года VI; Sciout, IV, 385.
58
Выдержки, приводимые Sciout, IV, 386–387.
59
Дошли до того, что запретили мастеровым работать даже у себя на дому, при закрытых окнах и дверях и без шума. Sciout, выдержка из донесения” IV, 390.
60
“Memoire des S'evêque constitutionnel Le Coz, dans Roussel”, 339.
61
Выдержки из донесений у Sciout, IV, 386.
62
См. Albert Duruy, “l'Instruction publigue et la Révolution:”, 336–351 и Victor Pierre “l'Ecole la Révolution française”, 159–219.
63
Отчет, цитируемый Alexis Chevalier, в его книге “Монахи христианских школах и начальное обучение после революции”.
64
Schmidt, “Fablea ux de la Révolution”, III, 374.
65
Ibid, III, 377.
66
Chevalier, 7–8.
67
Вместо св. Антуана, св. Мартина.
68
Отчет в Moniteur'e о заседании 18-го прериаля.