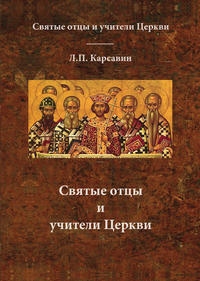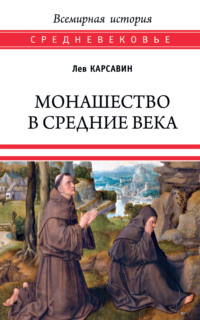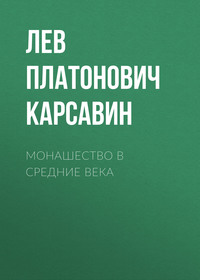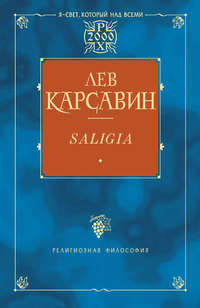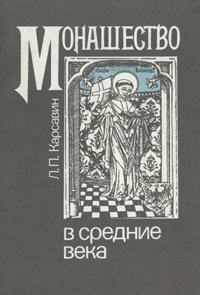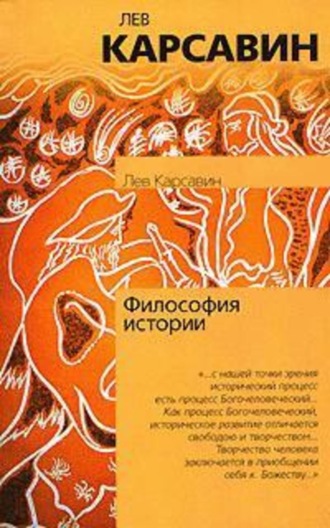 полная версия
полная версияФилософия истории
Обе рассматриваемые нами социальные группы, оба класса, – индивидуализации высшей личности, народа. Народ может существовать лишь как их двуединство, т. е. весь он должен быть и не быть и первою и второю. Эмпирически это, конечно, не достигается. Но эмпирически народ, который должен быть и всеединством всех включаемых в него индивидуумов, индивидуализуется в них чрез стяженную индивидуальность социальной группы. И если, как в третьем из приведенных выше случаев, в данном индивидууме все социальные группы одинаково стяженны и потенциальны, одинаково непознаваемы, этот индивидуум будет выражать народ, не выражая ни одного из его классов. Разумеется, взятый нами случай абстрактен – эмпирически можно говорить лишь о приближении к нему. Но даже в абстрактной чистоте своей он не вынуждает к гипотезе непосредственной, внеклассовой индивидуализации народа: в индивидууме посредствующие индивидуальности существуют, только существуют стяженно, почему и сам индивидуум в известном смысле стяженнее, беднее выражает народ, чем личности с ясною классового принадлежностью. Я понимаю, что высказанное сейчас утверждение вызывает чувство некоторого протеста, обоснованного ограниченностью всякого яркого представителя какой угодно социальной группы. Но дело тут в недоразумении. Идеально выражающий свой народ индивидуум должен актуализировать в себе все его социальные группы, т. е. быть и землевладельцем, и буржуа, и рабочим, и крестьянином, не обладая в то же время ограниченностью каждого из них. Такой индивидуум, «примиривший» в себе социальные противоречия, возвысившийся над ограниченностью каждой социальной группы, но не оставивший в себе нераскрытою ни одной из них, разумеется, выше любого представителя только одного класса. Но такого индивидуума эмпирически мы не знаем, и эмпирически он невозможен. Напротив, индивидуум, стоящий вне классовых противоречий, равнодушный к ним, обладает лишь стяженным единством социально-дифференцирующейся личности. У него нет социальной вражды и социальной исключительности, но у него нет абсолютно важного качествования: социального дифференцирования. В нем есть единство, но единство потенциальности. Он аскет, отвлеченное от жизни существо. Усматривать в нем идеальное социальное бытие столь же ошибочно, как усматривать идеал разумно-деятельной жизни в потенциальности ребенка или превозносить немого за отсутствие злоязычия. – Охарактеризованный выше идеальный индивидуум не существует эмпирически. Но он существует, как идеал эмпирии, и существуют приближения к нему. Возьмем какого-нибудь гениального самородка, вышедшего из крестьян и не переставшего чувствовать себя крестьянином, сознавать абсолютную для его народа ценность мужицкого труда, а в то же время разбогатевшего, ставшего барином и дельцом. Он воплощает в себе несколько социальных групп, качествует их идеалами и конкретно «примиряет» в себе социальные противоречия, а примирение социальных противоречий только и возможно, как конкретное – наша рационалистическая культура, подставляя на место реально-всеединых коллективных личностей абстрактные («классы»), превращает и классовую борьбу в некоторое абстрактное, и потому именно губительное для эмпирии явление. Конкретно «примиряющий» в себе социальные противоречия, вернее – воплощающий в себе менее стяженно, чем другие, высшую личность (личность народа), взятый нами в качестве примера «самородок», очевидно, и являет собою некоторое приближение к «идеальному индивидууму».
Призывающие подняться над классовою борьбой и преодолеть классовые противоречия, конечно, правы. Они правы, указывая на начала национальные и общечеловеческие. Но если они конкретизируют свой идеал во что то, отрицающее дифференциацию общества, во что-то подобное «среднему классу» у Прудона, они уходят в мир абстракций, ничем не лучший, чем абстракции идеологов классовой борьбы. Последние односторонне подчеркивают момент множества, первые – момент единства. И тем и другим одинаково недоступна идея конкретного множества. И поскольку речь идет о становящемся и несовершенном эмпирическом всеединстве, поскольку мы стоим перед проблемою конкретно возможного в несовершенной эмпирии общества, наилучшим эмпирическим отражением идеала будет понимание народа как гармонической системы социальных групп. Оно отчасти нашло себе выражение в средневековом идеале иерархического общества, отчасти и с другой стороны легло в основу теории физиократов.
Необходимо взглянуть на проблему из конкретной личности. – Ее смысл и значение в ее единственном, неповторимом качествовании: в том, что она по-своему актуализирует всеединство. Она как этот индивидуум, не оторвана от высших личностей; и нельзя сказать: здесь кончается мое индивидуальное и начинается надиндивидуально-личное. Малейший акт индивидуума есть воплощение и спецификация им высшего: сразу – и его акт и акт всех высших личностей. Но это не препятствует противопоставлению конкретной личности пребывающим в ней высшим и различению их. Сознавая себя как особую личность, или познавая другого индивидуума, как таковую, я просто не сознаю и не познаю того, что личность есть стяженное всеединство. При более глубоком анализе я вскрываю в индивидууме качествующую в нем высшую личность, например – социальную группу, класс. Но в одном индивидууме я вскрываю ее с большею, в другом – с меньшею степенью актуализованности. Иногда для меня ярок и ясен качествующий в индивидууме и как индивидуум, но выходящий за его грани субъект («класс», «сословие» и т. д.). Иногда для меня в данном индивидууме он неуловим, непознаваем, ибо и объективно он в индивидууме не преодолел своей стяженности. Если я познаю эту высшую личность, я познаю ее как сращенную с данным индивидуумом, выражающуюся в нем, но вместе, в стяженности ее, и как устремленную к выражению в других индивидуумах и в них становящуюся по-иному. Я познаю далее, что символически познаваемая мною стяженная личность сама есть момент высшей, в данном индивидууме сращена с нею, ее выражает, в нем противостоит другим индивидуализациям высшей. Так я узнаю в себе качествующий мною мой класс, противостоя другим таким же, как я, буржуа или пролетариям. Так же я узнаю в себе русского человека, противостоя немцам, французам. И в познании себя русским я познаю себя не только русским буржуа или пролетарием, но и русским мужиком, русским дворянином. Подымаясь выше (или, что все равно, опускаясь глубже) я так же могу сознать себя человеком христианской культуры, индивидуализацией ее в ее стяженности. Разумеется, все эти «самосознания» весьма различны: в первом случае следует говорить о «я» или «самосознании» ограниченной личности, в последнем – о «я» или «самосознании» христианской культуры, хотя и «внутри» ограниченной личности.
Но познавая и различая в конкретном индивидууме высшие личности, мы всегда встречаемся с фактом неравномерной их выраженности, с разной степенью их стяженности, вплоть до полной неуловимости. Из познаваемого «выпадают» некоторые звенья. Так чрезвычайно трудно, а в иных случаях и невозможно усмотреть качествование того либо иного «класса» в русском интеллигенте дореволюционной эпохи. И, конечно, не удастся определить социальную личность иного порядка – семью – в Гришке Отрепьеве, как, с другой стороны, не уловить собственно индивидуальных черт в средневековом феодальном бароне.
Конкретная личность всегда – стяженное всеединство в индивидуализации, всегда – индивидуализованная стяженность всеединой личности. Она индивидуальна не только в том, что можно назвать собственно– или ограниченно-индивидуальным. В ней индивидуализованы и высшие личности. Она индивидуальна «насквозь», всецело; вовсе не совокупность личностей, но их, хотя и несовершенное, не вполне выраженное, всеединство. Поэтому познавая ее как целое, мы стяженно, смутно познаем в ней всеединство высших индивидуальностей, не все из которых уловимы для нас и отличимы друг от друга. Различать и познавать их мы можем только с помощью противопоставления индивидуализирующей их конкретной личности другим таким же личностям. И только в связи с этим противопоставлением различение и познание их является для нас необходимостью.
Обратимся к уже использованному нами примеру революционного Петербурга (§ 21). Здесь внимание сосредоточено не на конкретном индивидууме, а на коллективной личности. Мы обозначаем ее то как петербургское население, то как революционное петербургское население. Но, как бы мы ее ни обозначали, она – индивидуализирует русский народ. И несомненно, мы рассматриваем в ней и ее самое и высшую личность, их не различая и не чувствуя никакой нужды в этом различении. Оно может понадобиться нам только тогда, когда мы перейдем к общему революционному движению. С другой стороны, она сама индивидуализируется в социальные группы петербургских рабочих, петербургского гарнизона и т. д. Мы пренебрегаем этою индивидуализацией ее, довольствуясь стяженным знанием и рассматривая действия разных социальных групп только символически. Наконец, мы не испытываем особенной потребности в точном наименовании и говорим о петербургском населении иногда с эпитетом «революционное», иногда без него. Очевидно, нам важна совершившая революцию индивидуальность. Это и есть «петербургское население». Но оно совершило революцию, перейдя в определенное качествование, причем качествование это индивидуализировалось не во всех жителях Петербурга, а только в некоторой группе, весьма неопределенной по очертаниям. Индивидуализируясь, как революционное, население Петербурга одних сплотило в активные коллективные единицы, других в содействующих, третьих в сочувствующих, четвертых в пассивно ожидающих, пятых – в оробевших. Все это не разные группы, но одна возникающая и развивающаяся индивидуальность – «революционное население». Она растет, вовлекает в себя все новые и новые элементы, пока не растворяет в себе большинство. Таким образом, здесь не историк, а историческая действительность совершает логическую ошибку, называемую «quaternio terminorum».[37]
Мы подошли к очень существенной стороне проблемы. – Всякая историческая индивидуальность ограничена в пространстве и времени; о всевременности и всепространственности ее надо говорить в пределах ее времени и ее пространства. Всякая, подобно конкретному индивидууму, во времени возникает, развивается и погибает, чем уже принципиально устранено абсолютирование исторических коллективных личностей, например – класса. Иная коллективная индивидуальность, как толпа, существует очень недолгое время; другие охватывают десятилетия и века. И становление всякой сопровождается тем, что не все моменты ее развития одинаково являют ее природу. Идеология социальной группы формулируется не сразу, меняется и, внутренне окостенев, долго еще ведет призрачную жизнь. В разные моменты коллективная индивидуальность обладает разною степенью выраженности в пространстве, в многообразии объемлемых ею качествований индивидуума. С этой точки зрения поучительно сопоставить парижскую буржуазию перед революцией, армию Кромвеля и «рабочее» социалистическое движение. Надо считаться далее и с тем, что многие коллективные индивидуальности полноты развития не достигают, насильственно пресекаемые в раннем возрасте или естественно умирая в младенческом либо даже в эмбриональном состоянии.
Теория истории должна выяснить природу исторической индивидуальности, основные типы ее, типические взаимоотношения между индивидуальностями разных родов и порядков. Она не может задаваться неосуществимою целью описать и классифицировать все возможные и даже только все эмпирически осуществившиеся исторические индивидуальности. Тогда бы она стала конкретною идеальною историей. С другой стороны, конкретная эмпирическая история обречена на стяженное опознание развивающегося всеединства. Поэтому она должна различать и определять исторические индивидуальности в меру, требуемую задачами данного исследования. В истории есть своя «точность», обусловленная конкретным заданием. Но это не значит, что бульшая полнота знания для истории закрыта. Полнота знания предлежит историку как идеал, большее приближение к которому всегда возможно и необходимо. Историк должен сознавать все несовершенство своего знания, бесконечную удаленность свою от необозримого океана действительности, но и быть уверенным как в возможности бесконечного приближения к идеалу, так и в том, что это стяженное его знание подлинно (хотя и ограниченно) и абсолютно ценно. И как же оно не абсолютно ценно, если выражает момент становления всеединства и само является этим моментом? – Без знания всех моментов развития развитие предметом знания быть не может. Всякое историческое познание есть необходимый момент идеального исторического знания, а оно возможно, как усовершение и абсолютирование эмпирии и в ней исторической науки. Истинное и полное историческое знание – познание исторической действительности Божественным Умом. Но Божественный Ум познает историю не только в усовершенности исторического процесса, а и в его усовершении, завершении и становлении только потому, что Он соединен с человеческим бытием и с каждым моментом этого бытия, абсолютировал самое ограниченность его. А раз Он соединен с умом человеческим, не может и человеческий ум не обладать полнотою знания в усовершенности своей.
23
Историческая наука, с нашей точки зрения, есть одно из качествований исторического процесса, своего рода самосознание человечества. Поэтому историография отражает и выражает собою историческую действительность такою, какова она есть: с ее смутным сознанием абсолютного идеала и сознанием своего несовершенства, ее стяженностью и становлением. Историческая действительность – становление всеединого человечества в его несовершенстве. В ней человечество не актуализуется вполне, не индивидуализуется во всех своих личностях и не индивидуализует ни одну из них целиком. Всякая историческая личность не достигает своей полноты: ни само человечество в целом, ни культура, ни народ, ни социальная группа. Ни одна из низших личностей не становится всею высшею личностью и всем человечеством. Поэтому всякая может быть познана лишь стяженно. Если историография ограничивает себя изучением одной из низших личностей, она познает ее как конкретное, но не вполне выраженное, т. е. стяженное, всеединство, чрез ее индивидуализации; определяет ее чрез противостояние их индивидуализациям других личностей, но, поскольку остается адекватною исторической действительности, может выразить ее в отвлеченных формулах лишь приблизительно и неточно, и, естественно, к такому выражению и не стремится. К тому же изучаемая историей в данном случае личность сама есть индивидуализация высших личностей, различаемых в ней (и то не вполне) лишь в меру расширения сферы исследования.
Попытка отвлеченно формулировать изучаемую личность грозит опасностями еще в одном отношении. – Всякое отвлеченное определение есть вместе с тем и ограничение, замыкание определяемого. Оно может быть адекватным лишь одному моменту развития, для остальных оказываясь или слишком широким или слишком узким. Для понимания же собственно развития оно бесполезно (ср. § 20). Это станет нам еще более ясным в беглой характеристике некоторых типичных исторических индивидуальностей.
Одною из самых близких к конкретному индивидууму коллективных индивидуальностей является семья. Но семья вовсе не общее, однозначное понятие. В нашей христианской культуре мы можем определить идеальную семью следующим образом. – Семья представляет собою прежде всего физически связанных друг с другом мужа, жену и детей (по крайней мере – одного ребенка, но потенциально – неопределенное их число). Во-вторых, семья является и душевно-духовным единством слагающих ее физических индивидуумов, выражаемым в сфере чувствований, воззрений и действий. Одно физическое единство семьи еще не конституирует. Оно сводится, в конце концов, к временно разъединенным моментам физического слияния супругов, кормления матерью детей. Мимолетная связь мужчины с женщиною еще не создает семьи, даже если эта связь приводит к рождению ребенка. Но, с другой стороны, нет семьи и без физического единства. Единство душевно-духовное требует более подробного описания. Оно – в нашей христианской культуре и в идеале – предваряется обычно так называемым периодом влюбленности, во всяком случае периодом взаимообщения жениха и невесты, сговором и согласием, часто некоторым объемлющим обоих моментом духовного единения, который символически выражается и закрепляется обрядом обручения. Этот период может быть более или менее длительным, выражаться полнее или почти совсем не выражаться, остаться возможностью. Один он, во всяком случае, семьи не создает. Несравнимо существеннее то, что следует обозначить как социальное общение супругов. Это совместное хозяйствование – организация материальной стороны бытия, предполагающее взаимоотношение с другими социальными единицами и определяющее семью. Это, далее, та или иная степень духовного общения и взаимовлияния. Это, наконец, социальная деятельность семьи, выражающаяся не только в совместных выступлениях жены и мужа, но и в деятельности каждого из них, уже не индивидуума, а органа или момента семьи. Наряду с указанными моментами выступает третий – вовлечение в семью детей или выражение ее и в социальной деятельности детей как внутри самой семьи, так и во вне.
Исходя из идеала христианской культуры, необходимо признать идеальную семью совершенным всеединством супругов и детей, определяемым в общем указанными выше моментами.[38] В идеале все мысли, чувства и вся деятельность каждого члена семьи должны быть индивидуализацией качествований семьи. Отсюда, конечно, не вытекает, что муж должен являться на политические или ученые собрания в непременном сопровождении жены и малых детей или что мать должна вместе с сыном сидеть в школе и зубрить латинскую грамматику. Единство семьи, как единство духовное, не требует постоянной пространственной близости и, с другой стороны, пространственная близость семьи еще не создает. Однако и пространственная близость, как факт и духовного порядка, иногда оказывается, если не необходимым, то важным моментом обнаружения семьи. Так в минуты крайней опасности и общественных бедствий люди инстинктивно держатся семьями. Мы наблюдаем это, например, когда царица Феодора удерживает Юстиниана Великого от бегства; когда во время забастовок в толпе волнующих рабочих появляются их жены и дети, когда во время битвы жены древних германцев стыдят беглецов и возвращают их назад в бой. С большою художественною силою то же самое выражено в поведении Василисы Егоровны Мироновой («Капитанская дочка»; Ср. Goethe. Gцtz von Berlichingen. IV, 7; V, 20).
Будучи духовным единством, семья преодолевает время, что эмпирически находит себе выражение в памяти живых ее членов об умерших, в культе предков, выполнении воли усопших, в надеждах на «встречу за гробом» и т. д. В идеале она должна быть совершенным, всевременным и всепространственным единством. Но, будучи моментом высшей индивидуальности, семья должна и быть единственным выражением ее и совсем не быть, когда эта высшая индивидуальность выражается в других семьях. Подобно всякому моменту всеединства, подобно всякой исторической личности, семья подлежит закону рождения – жизни – смерти и в единстве этих трех моментов и заключено ее сверхэмпирическое бессмертие.
Эмпирически семья осуществляет себя очень неполно, и с весьма различною степенью неполноты. Она возникает, зарождается во влюбленности и обручении, но вовсе не всегда и не везде. Иногда она гибнет уже в этом эмбриональном состоянии; иногда эмпирически сразу начинается как брак. Брачная жизнь в иных случаях продолжает и распространяет на новые области зародившееся у порога ее двуединство, в других – охватывая новые сферы и физически соединяя супругов, сопровождается упадком и гибелью духовного их единства, делает их чужими друг другу. Равным образом не всегда растет семья и с появлением детей, не всегда они живут в духовном единстве с отцом и матерью. В дальнейшем развитии редко каждый из членов семьи одинаково раскрывает в своей личности ее высшую личность. И рано или поздно семья распадается, перестает быть: отец и мать умирают, сыновья и дочери расходятся по разным дорогам.
До известной степени можно наметить несколько типов современной эмпирической семьи. – Патриархальная семья, связанная с более или менее прочным бытовым и хозяйственным укладом, еще до последнего времени могла быть наблюдаема в русском крестьянстве, в русском старообрядчестве, старых купечестве и дворянстве. В ее развитии – я намеренно стремлюсь к некоторому педантизму, вполне сознавая всю его условность – можно различить: 1) период становления первичного единства, когда создается духовно-физическое единство супругов, слагается то, что позволительно назвать идеологией и характером семьи, определяется ее хозяйственное бытие и быт, 2) период становления первичного единства (двуединства) во множестве, когда появляются и вырастают дети, индивидуализируя, каждое по своему, первичное единство и тем раскрывая богатство и многообразие коллективной личности, 3) период перехода семьи в род или начала в ней эмпирической индивидуализации рода, когда в лоне ее чрез вовлечение других личностей возникают новые семьи, 4) период умирания, внешне определяемый смертью положивших начало семье отца и матери, но нередко продолжающийся долгое время чрез замещение умерших «старшим». Разумеется, наша периодизация очень условна, и в эмпирической патриархальной семье разные периоды выражаются с очень различною степенью полноты и отчетливости. Но в общем наиболее личность семьи обнаруживает себя во втором и, частью, третьем периоде. В первом она еще потенциальна, в четвертом – сводится к одному духовному единству, утрачивая реально-биологическую основу своего иерархического строения, выдвигая момент соотношения и соглашения.
Рядом с патриархальной семьею несравнимо распространеннее и характернее для современности семьи, определяемые лишь первыми двумя периодами. Такие семьи распадаются еще при жизни отца и матери, когда взрослые дети строят свои новые семьи и понемногу теряют связь с породившею их. Эти семьи характеризуются слабостью духовного единства и определения им материального бытия. Они типичны для классов, оторванных от органической жизни, для неимущих и не накопляющих (причем не «накопление» и «имущество» определяют семью, а семья их определяет). И опять-таки умирание подобной семьи чаще всего начинается в очень раннюю пору, сказываясь в незаметно растущем разъединении «отцов» и «детей».
Всякая эмпирическая семья недоразвита. Но все же мне представляется полезным выделить в особую категорию зачаточные и недоразвитые семьи, особенно характерные для нашей культуры, в частности, для русской культуры XIX и XX в. Эти семьи отличаются попыткою подменить само понятие семьи понятием любовного союза двоих. В них дети оказываются или докучною и ненужною случайностью или чем-то неизбежным, в лучшем случае только выражающим и закрепляющим любовь двоих. В связи с тенденцией к такой «семье» стоит, на мой взгляд, и характерная черта новой европейской и русской литературы, кончающей роман удавшимся или неудавшимся бракосочетанием.
В каждой эпохе и в каждой культуре (поскольку для них индивидуализация в семьях характерна) можно указать преобладающие типы семьи, часто существенно отличающиеся от намеченных нами. Совершенно своеобразна феодально-патриархальная или патрицийская или бюргерская семья средневековой Европы. Еще резче отличается от современной семьи античная. – В ней духовное единство не является, как в христианской семье, конституирующим моментом или понимается в резком противопоставлении физическому. С этим связана разъединенность в античности любви и дружбы: гетеры, с одной стороны, однополая любовь, с другой. С этим же связана и возможность для античной семьи, поскольку она понимается как только духовная связь с отцом, восполняться путем усыновления, совершенно чуждого европейскому современному сознанию. В иудаизме значение физического единства, наоборот, создает непонятный для нас институт левирата.[39] Но с иудаизмом и античностью наша культура все же связана органически. Когда же мы переходим к полигамической культуре ислама, мы испытываем затруднение: можно ли означать общим термином такие явления как наша и мусульманская семья? – Общего понятия семьи нет, поскольку мы рассматриваем «семьи» эмпирические. «Семья» характерна лишь для некоторых культур и для разных индивидуализаций их в разной степени.
Отсюда ясно, что нельзя рассматривать семью, как «ячейку общества». Она еще менее «определяет» общество, чем «определяет» его индивидуум. Напротив, семья характерна и показательна для данной высшей индивидуальности (народа, культуры), показательна и самим фактом качествования высшей личности ею и степенью ее развития. Не из семьи объясняется высшее (общество, народ), но из высшего объясняется семья, его индивидуализирующая. Не семьи слагают «общества», но некоторые общества индивидуализуются чрез становление свое в семьях. Конечно, поскольку самый факт физического соединения мужчины и женщины и рождения второго ребенка есть уже зачаток семьи, нет общества без этого зачатка. Но он и не является характерным, содержит в себе минимум социально-психического, т. е. исторического, бытия.