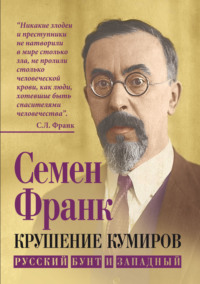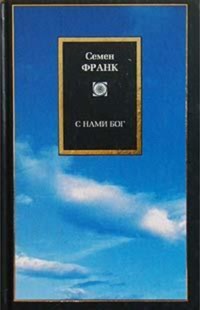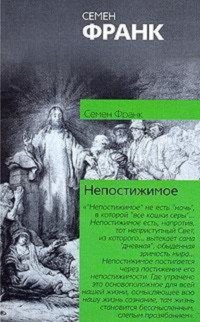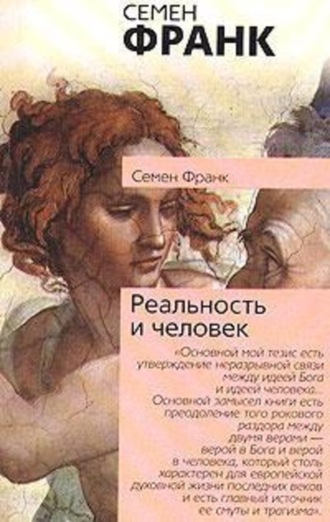 полная версия
полная версияРеальность и человек
Если бы реальность была чем-то логически противоположным этому характеру рациональной фиксированности, то углубление в нее уводило бы нас в сторону, прямо противоположную «объективной действительности». Но, как мы уже знаем, занимающее нас отличие само сверхлогично, несводимо к простому логическому отрицанию. Это значит, что реальность сверхрациональна, но не иррациональна; она уже потому не иррациональна, что, как мы видели, не исключает ничего, – значит, в том числе и рациональности. И в этом, как и в других отношениях, она не есть «это, а не иное», а всегда есть «это и иное» – единство всякого «этого» с «иным». Уходя в бесконечные глубины далеко за пределы всего, что является нам как «объективная действительность», будучи, в отличие от последней, реальностью в себе сущей и непосредственно себе раскрывающейся – реальностью, которую мы имеем не вне себя, а на тот лад, что мы сами есмы она или в ней, – она вместе с тем есть носитель и первооснова самой «объективной действительности». Объемля и пронизывая существо бытия субъекта, она объемлет и пронизывает и бытие «объекта» – бытие, выделяющееся как окружающая нас и противостоящая нам «действительность». Действительность при всей ее отчужденности и независимости от нас, конституирующей ее существо, есть некая кристаллизованная, застывшая в готовой фактичности поверхностная часть живой реальности. Она есть нечто, подобное коре дерева или скорлупе ореха, – затвердевший и относительно обособленный поверхностный слой, порожденный внутренними силами и соками живого организма. Поэтому, противостоя нам (и в лице нас – самой реальности как таковой), испытывая как стеснение, ограничение и препятствие для самодеятельности живых сил реальности в нас, она вместе с тем есть порождение реальности и подчинена ее беспрерывному творческому и формирующему воздействию.
Реальность есть, таким образом, единство ее самой и объективной действительности. В этом абстрактном и внешне неуклюжем положении мы достигаем опять вполне конкретного и практически существенного итога, который мы отчасти уже наметили в конце прошлой главы. Углубление в реальность – путь вглубь, непосредственно уводящий нас в совершенно инородное измерение бытия, как бы освобождающий нас от прикованности к эмпирической оболочке нашего существования в лице объективной действительности, – этот путь вглубь есть вместе с тем путь вширь. Уходя от внешнего соприкосновения с объективной действительностью как с чем-то нам извне противостоящим, мы в глубине приближаемся снова к ее корням, улавливаем ее внутреннее существо как нечто родственное нам и связанное с нами. Две возможные ограниченные установки – саморастворение в объективно сущем, потеря нашего собственного существа через включение себя самого в состав объективной действительности и подчинение ей, – и аскетическое мироотрицание, бегство от мира в замкнутые глубины внутреннего бытия – одинаково преодолеваются здесь приятием мира в его глубинном существе через утверждение себя в выходящих за пределы мира глубинах первичной реальности.
Все вышесказанное звучит еще слишком абстрактно. Но, как было указано выше, это косвенное познание реальности через уяснение ее контраста сфере, выразимой в системе логических определенностей, может быть восполнено и некоторым интуитивным ее описанием – попытками такого комбинирования понятий, в котором непосредственно просвечивает невыразимое отдельной мыслью опытно данное существо реальности.
Есть ряд областей жизни, в которых мы – если только мы достаточно внимательны – как бы прямо наталкиваемся на наличие в составе опыта самой реальности в ее конкретно-сверхлогическом существе.
3. КРАСОТА. РЕАЛЬНОСТЬ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ОПЫТЕ
Мы начинаем не с наиболее существенного, но с наиболее простого и наглядно очевидного примера. Это – восприятие красоты, то, что называется эстетическим восприятием.
Наше повседневное отношение к окружающей нас среде, к явлениям мира (к тому, что мы условились называть объективною действительностью) есть отношение либо рассудочно-утилитарное, либо субъективно-эмоциональное. В обоих случаях явления действительности воспринимаются как некие факты, которые сами по себе, по своему объективному содержанию, суть что-то инородное нам (мы оставляем пока в стороне наше отношение к людям, о чем придется говорить ниже особо). При рассудочно-утилитарном отношении мы рассматриваем явления действительности только как что-то либо полезное и нужное нам, либо вредное, либо, наконец, безразличное; мы не имеем к ним никакого интимного личного отношения. Но и при эмоциональном отношении к фактам действительности мы – по крайней мере при внимательном отношении к делу – отчетливо различаем между нашим собственным субъективным чувством и самим объективным содержанием фактов. Факты вызывают в нас чувства симпатии или антипатии, удовольствия или неудовольствия, но сами по себе, в своем объективном содержании, ни в какой мере не обладают свойствами того, что мы переживаем в отношении их. Мир, или объективная действительность, остается для нас простой совокупностью констатируемых и логически определимых фактов, которые как таковые совершенно инородны внутреннему существу нашего «я».
На фоне этой, по существу, безразличной нам, только холодно констатируемой объективной действительности выделяются явления особого порядка – все равно, суть ли это явления природы или произведения человеческого творчества, – которые приковывают к себе не наше рассудочное внимание, а само внутреннее существо нашей души. Дело в том, что в них самих, в их собственном содержании, мы испытываем что-то значительное, какой-то духовный смысл, что-то родственное интимной глубине нашего «я». Восприятие такого рода – и притом восприятие бескорыстное, т. е. вне всякого отношения и к нашим практическим нуждам, и к нашим чисто субъективным чувствам, – дает некое особое, далее неопределимое наслаждение, которое мы называем эстетическим. Сами явления такого рода приобретают для нас особую, специфическую ценность. Это есть именно то, что мы называем красотой.
Но что такое, собственно, есть красота? Можно ли это точнее определить и если да – то как?[26]
Наиболее меткое определение того, что называется красотой и что дано в эстетическом переживании, заключается в указании на присущий ей характер выразительности.[27] Когда мы воспринимаем что-либо «эстетически», то это значит, что вместе с данными чувственного опыта мы воспринимаем, как бы в глубине их, что-то иное, не чувственное. Прекрасное прекрасно потому, что «выражает» что-то, «говорит» нам о чем-то за пределами определимых чувственных данных; в силу этого оно означает что-то особо значительное, что отсутствует в содержании обычного опыта объективной действительности. Оно не есть просто грубый слепой факт, как бы насильно навязывающийся нам, вынуждая нас считаться с ним во всей его неосмысленности и внутренней чуждости нам. Оно, напротив, «чарует», внутренне пленяет нас тем, что имманентно свидетельствует о наличии некой последней, внутренне осмысленной, близкой нашему собственному существу глубины.
Но что именно «выражает» прекрасное? Сама постановка такого вопроса обнаруживает для эстетически чуткого и логически трезвого сознания свою беспредметность и бессмысленность. Если бы мы в обычных словах, т. е. в логических понятиях, могли фиксировать то, что выражается прекрасным, то мы этим именно выразили бы его на иной лад, чем эстетически, и тем превратили бы эстетический опыт во что-то ненужное, в простой дубликат обычного, логически выразимого опыта. Прекрасное выражает именно то, что невыразимо логически и именно поэтому выразимо только эстетически. Попытки – к сожалению, весьма распространенные – передать прозаически, т. е. словами как выражениями логических понятий, то, о чем говорит прекрасное (например, в критике художественных произведений), – по меньшей мере страшно обедняют и иссушают – и тем самым искажают – подлинный смысл содержания эстетического опыта. Об этом содержании можно прозаически говорить только в терминах и формах мысли «умудренного неведения», т. е. через противопоставление его логически оформленным и в этом смысле «объективным» содержаниям, через усмотрение его логической невыразимости и непостижимости.
Но это не значит, что мы должны здесь умолкнуть в немом наслаждении тем, что дает, о чем говорит, что выражает прекрасное. В достигнутой нами идее реальности мы обрели именно философскую форму выражения невыразимого, сверхлогического, – в этом отношении аналогичную тому, о чем говорит эстетический опыт.
Прекрасное есть то в объективной действительности, что через посредство чувственного опыта дарует нам непосредственное восприятие реальности. В составе объективной действительности мы наталкиваемся на такие – для большинства из нас исключительные и редкие – места, в которых грубая кора чистой фактичности, логической фиксированности настолько как бы утончена и прозрачна, что сквозь нее просвечивает и становится ощутимой сама реальность. Прекрасное с точки зрения нашей логической мысли принадлежа к объективной действительности – прекрасное лицо или тело есть принадлежность «организма», прекрасный ландшафт есть структура поверхности земли, прекрасная статуя, картина, здание, симфония составлены целиком из обычных чувственных элементов действительности, – в самом эстетическом опыте изъемлется из состава объективной действительности, обретая некое самодовлеющее значение. В земном становится видимым и ощутимым что-то неземное, «небесное», что-то родственное потаенным, скрытым от мира глубинам нашей души, нашей в себе сущей, себе самой раскрывающейся реальности. В силу этого прекрасное обладает какой-то совершенно особой очевидностью; явление, воспринимаемое как прекрасное, не требует и не допускает объяснения, не сводимо ни к чему иному, потому что не определено логической связью с чем-либо иным; оно довлеет себе, оно несет в себе самом свое внутреннее единство, обнаруживающееся в том, что мы называем гармонией его частей или элементов. Это значит, что оно как таковое обладает свойством реальности быть таким всеобъемлющим, самодовлеющим целым, которое целиком присутствует и в ограниченном, частном. На этом сочетании законченной, самодовлеющей целостности с ограниченностью основано значение того, что называется в эстетическом явлении формой. Форма есть такое очертание, такое сочетание элементов, которое в ограниченном объеме дает адекватное своеобразное выражение – одно из бесконечного множества возможных других выражений – законченной бесконечности, актуализованной, всеобъемлющей и потому самодовлеющей полноты реальности.
Эта реальность, как было указано, есть что-то сродное той, которую мы испытываем в потаенной глубине нашей собственной души. Более того, мы имеем право сказать, что она есть просто та же самая реальность – в той мере, в какой принцип тождества вообще применим к реальности (которая, как мы знаем, никогда не есть в строгом рационально логическом смысле простое «это, а не иное», а всегда есть «это и иное» в их нераздельном единстве). Реальность в качестве всеобъемлющего и всепронизывающего единства сама по существу единственна и в этом смысле есть во всех своих проявлениях та же самая; это не препятствует тому, что в каждом из конкретных своих проявлений она есть иная – как Протей, является в изменчивых обликах. Попытаемся несколько точнее описать и сродство и различие между реальностью, открываемой в глубинах внутреннего опыта, и реальностью, которую являет нам эстетический опыт.
Выразительность красоты означает, что в ней нечто «внутреннее» (выражаемое) выражается во «внешнем», чувственно-данном. Все «прекрасное», все открывающееся в эстетическом опыте испытывается как нечто сродное живому одушевленному существу, как нечто подобное нашему собственному бытию, в котором незримое внутреннее бытие как-то соединено с внешним, телесным, воплощено в последнем. Во всем, эстетически воспринимаемом, есть нечто «душеподобное» – нечто, что есть некая внутренняя жизнь, воплощенная и выраженная во внешнем облике, подобно тому как наша «душа» выражает себя в мимике, взгляде, улыбке, слове. В момент эстетического опыта мы перестаем чувствовать себя одинокими – мы вступаем во внешней реальности в общение с чем-то родным нам. Внешнее перестает быть частью холодного, равнодушного объективного мира, и мы ощущаем его сродство с нашим внутренним существом.
При этом, однако, сохраняется и существенное различие. Если прекрасное есть нечто «душеподобное», то мы все же сохраняем сознание, что оно не есть настоящая, живая «душа», и если даже мы на краткое мгновение впадаем в такую иллюзию, то мы одновременно сознаем, что это есть именно иллюзия. Мы знаем, что статуя «сама по себе» есть просто холодный мрамор или гипс, что картина есть пятна красок на полотне, что горный пейзаж есть реальность геологического порядка, которая сама не сознает своего величия, – словом, что душеподобное нечто, выражаемое прекрасным, не имеет специфического качества всего подлинно душевного и духовного – быть для самого себя, быть реальным субъектом. Только в случаях прекрасного человеческого облика мы часто (в эротическом переживании) впадаем в естественное заблуждение, смешивая безличное «душеподобное нечто», выражаемое чувственным образом, с подлинной живой душой его носителя, и лишь позднее обнаруживаем наше заблуждение – например, когда убеждаемся, что «небесное» прекрасное женское лицо принадлежит весьма грешной или ничтожной душе.
Эта иллюзорность – в указанном смысле – эстетического опыта в связи с господствующей тенденцией смешивать вообще понятия реальности и объективной действительности (см. выше, глава I) дает повод для смутного и ложного утверждения, что эстетический опыт как таковой есть вообще иллюзия. Весьма распространенная (по крайней мере еще недавно) теория видит в эстетическом переживании явление некоего иллюзорного вкладывания в объект или перенесения на него наших собственных субъективных чувств (теория «одушевления» или «вчувствования», Einfühlung). Эта теория, однако, лишена всякого объективного основания: она есть типический образец искусственного истолкования непосредственного содержания опыта и вдобавок еще основана на грубом смешении понятий. Непосредственный опыт не обнаруживает и следа такого загадочного процесса перенесения наших переживаний из глубины нас самих на внешний объект; он говорит, напротив, совершенно явственно о действии на нас самого объекта. Кроме того, чувства, которые мы сами испытываем от восприятия «прекрасного», существенно отличаются от самого объективного содержания эстетического опыта. Если отчасти это содержание «заражает» нас, переносится с самого объекта в нашу «душу», то, с другой стороны, мы имеем при этом и чувства, явно отличные от этого содержания: это видно хотя бы из того, что всякое эстетическое переживание – даже при восприятии грозного, трагического, мрачного, дисгармоничного – дает наслаждение, т. е. содержит элемент радости, удовольствия. И ясное, воспитанное эстетическое сознание всегда отчетливо различает между имманентным содержанием эстетического опыта и нашими собственными субъективными чувствами, им вызываемыми.
Вся эта искусственная и фальшивая конструкция основана на предвзятом мнении, что все, аналогичное тому, что воспринимается во внутреннем опыте самосознания, либо должно быть логически тождественно ему, либо же есть чистая иллюзия; и раз бесспорно, что неодушевленные объекты эстетического опыта сами не имеют «души», сами не сознают себя, то кажется очевидным вывод, что этот опыт есть только наше субъективное «впечатление», иллюзорно переносимое на объект.
Непредвзятое описание содержания эстетического опыта совершенно явственно говорит иное; и здесь, как и всюду, мы должны стараться не приспособлять опытное содержание к нашим предвзятым понятиям, а, напротив, пытаться найти слова и понятия, адекватные этому содержанию. Как уже указано, в эстетическом опыте нам явственно открывается некая подлинная реальность, лежащая как бы позади чувственного содержания объективной действительности, – то самое, о чем мы говорим, что оно «выражено» в чувственных данных. И мы сознаем, что эта реальность сродни той, которая открывается нам в глубинах нашего собственного внутреннего опыта, т. е. что она принадлежит к тому же слою бытия. И одновременно мы сознаем эту, воспринимаемую в эстетическом опыте, реальность как безличную, т. е. стоящую в ином отношении к выражающей ее чувственной поверхности бытия, чем наш собственный внутренний мир, – к тому, в чем мы его выражаем. Эстетическая реальность лишена личного центра самосознания, личной активности выражения; не она сама умышленно себя выражает, она только невольно выражается; словом, она есть нечто иное, чем «душа» или «внутренняя жизнь».
Но именно это отличие ее от внутренней жизни как жизни субъекта есть подтверждение обоснованного нами в предыдущей главе положения, что реальность, будучи сродни субъективной внутренней жизни, не исчерпывается последней, а имеет гораздо более широкий объем, совпадая со всеобъемлющей основой всякого бытия вообще. В эстетическом опыте реальность в намеченном смысле имеет одно из своих непререкаемо очевидных обнаружений. В нем мы не только внутри нас самих, в глубинах нашего уединенного «я», но и вне нас, в окружающем нас мире, как бы пробиваемся сквозь скорлупу объективной действительности и осязаем живое глубинное ядро бытия.
4. РЕАЛЬНОСТЬ В ОПЫТЕ ОБЩЕНИЯ
Мы обращаемся теперь к совсем иной области бытия, в которой также обретается конкретно-опытное усмотрение реальности в ее отличии и от «объективной действительности», и от сферы моего внутреннего бытия как субъекта. Мы разумеем явление общения.
В начале века в философской литературе усердно обсуждался вопрос о характере восприятия «чужой душевной жизни» или об основаниях нашей веры в нее. Теория знания в ее классической форме странным образом проходила мимо этого вопроса. Затрачивая огромные усилия мысли на разрешение вопроса об основании нашей веры в существование объективного мира вне нашего сознания, она совсем не задумывалась над вопросом, откуда берется и на чем основано наше убеждение в существовании других сознаний, кроме моего собственного. Универсальный скептицизм Юма минует этот вопрос; а «всеразрушающий» Кант, объявляя критерием истины «общеобязательность», т. е. обязательность для всех сознаний, тем самым делает молчаливое признание множественности сознаний последней основой всей своей теории знания. «Солипсизм» – убеждение, что достоверность принадлежит только «моему собственному существованию», – несмотря на всю очевидность этой мысли для скептицизма и субъективного идеализма, тщательно избегался.
Однако общераспространенная мысль, что обо всем вне меня самого я имею только какое-то косвенное, опосредствованное знание, привела все же к постановке вопроса об основаниях веры в «чужую одушевленность». При этом нетрудно было ближайшим образом выяснить несостоятельность первой предносящейся здесь гипотезы – гипотезы «умозаключения по аналогии». (Согласно этой гипотезе мы, воспринимая речь, мимику, поведение некоторых объектов внешнего опыта и зная по собственному внутреннему опыту, что эти внешние признаки связаны с душевной жизнью, «умозаключаем», что такая же душевная жизнь присуща и этим внешним объектам, и тем сознаем их «одушевленность».) Основное и решающее возражение против этой до забавности искусственной теории заключается в том, что умозаключение по аналогии дает нам право переносить какой-либо общий признак с одного предмета или класса предметов на другой, но бессильно там, где дело идет о явлении по самому своему определению единственному. Утверждение, что я переношу по аналогии признак сознания или одушевленности с меня самого на внешние объекты, предполагает, таким образом, именно то, что она хочет доказать: именно, что «сознание» или «одушевленность» есть общее понятие, приложимое ко множеству индивидуальных явлений; тогда как по исходной посылке оно должно было бы мыслиться как нечто по самому своему существу единственное – именно совпадающее с моим «я».
Немецкий психолог Липпс пытается заменить эту несостоятельную теорию теорией «одушевления» или «вчувствования», аналогичной отмеченной выше теории эстетического опыта. При встрече с чужой «душой» мы как бы заражаемся душевными содержаниями, которые мы сами переживаем, но со специфическим знаком их чуждости нам, их навязанности извне, и именно это испытываем как их принадлежность другому «я». Критика этой теории была бы в значительной мере повторением критики эстетической теории «вчувствования»; она с неопровержимой убедительностью была представлена Max Scheler’ом.[28]
За отвержением этих теорий косвенного или опосредствованного знания чужой душевной жизни не оставалось ничего иного, как признать, что мы имеем особое, специфическое непосредственное ее восприятие; и это учение было, в разных формах, развито и самим Шелером, и (еще до него) Н.О. Лосским. Учение это, по своему тезису бесспорное, требовало бы дальнейшего разъяснения и углубления, от которого, однако, мы должны здесь отказаться, ввиду того что вся эта тема затронута нами только, чтобы подвести читателя к иной занимающей нас проблеме – к проблеме общения (в связи с которой, по нашему убеждению, она только и может найти свое подлинное разъяснение).
Общение есть нечто иное и большее, чем простое усмотрение или восприятие чужой одушевленности. Дело в том, что внешний объект, сознаваемый нами как «одушевленное существо», не перестает в силу одного этого быть в иных отношениях сходным с другими объектами. Для рабовладельца раб, будучи одушевленным существом, есть просто одно из орудий, которым он пользуется, и точно так же люди, к которым мы равнодушны, – например, встречные прохожие на улице – суть для нас хотя и одушевленные существа, но интересующие нас просто как движущиеся объекты, в отношении которых мы озабочены только тем, чтобы не столкнуться с ними, как мы озабочены не столкнуться с автомобилями; и, наконец, враг в сражении есть просто живая сила, подлежащая истреблению или обезвреженью. Такое «одушевленное существо» обозначается грамматически в третьем лице; оно есть «он» (или «она») по аналогии с «оно», которым мы обозначаем неодушевленные предметы. В качестве такого «он» одушевленное существо входит в нашем опыте без остатка в состав «объективной действительности» и в этом смысле не представляет специального интереса.
Положение радикально меняется в любом факте общения – даже самого поверхностного. Когда мы разговариваем с кем-нибудь, пожимаем ему руку или даже когда наш взор молчаливо встречает чужой взор – наш контрагент перестает для нас быть «объектом», перестает быть «он»; он становится «ты». Это значит: он уже не вмещается в рамки «объективной действительности», перестает быть немым пассивным объектом, на который, не меняя его существа, направлен, в целях его восприятия, наш познавательный взор; такое одностороннее отношение заменяется отношением двусторонним, взаимным обменом духовных активностей. Мы обращены на него, но и он обращен на нас; и сама обращенность здесь качественно иная: она не есть та чисто идеальная направленность, которую мы называем объективным познанием (и которая может разве только сопутствовать ей); она есть реальное духовное взаимодействие. Общение, будучи некой нашей связью с тем, что есть вне нас, вместе с тем входит в состав нашей внутренней жизни, есть ее часть, и притом фактически весьма существенная часть. Мы имеем здесь парадоксальный с отвлеченно-логической точки зрения случай, когда нечто внешнее не только совмещается с «внутренним», но и сливается с ним. Общение есть явление, которое одновременно и сразу есть и нечто «внешнее» для нас, и нечто «внутреннее», – которое, иначе говоря, мы в строгом смысле слова не можем назвать ни внешним, ни внутренним.
Это еще яснее видно из того, что всякое общение между «я» и «ты» ведет к образованию какой-то новой реальности, которую мы обозначаем словом «мы», или, вернее, совпадает с ней. Но что такое есть «мы» – слово, которое грамматика обозначает как множественное число первого лица, – множественное число от «я»? «Я» в буквальном и строгом смысле возможно только в единственном числе; я есмь единственный – другое, второе «я» было бы только жуткой, до конца неосуществимой фантастической идеей «двойника». Ничто на свете, и даже сам Бог, не может сделать меня самого не единственным. (Если отвлеченная философия говорит о многих «я», то она этим уже изъемлет меня самого из подлинного элемента моего бытия – из реальности – и производным образом переносит меня в чуждую мне сферу объективной действительности; вместо меня самого в моем подлинном существе она имеет «я» в третьем лице, т. е. в качестве «он», которое, конечно, легко допускает множественное число «они».) «Мы» не есть многие «я»; «мы» есть «я» и «ты» (или «я» и «вы»). И все же, если язык образовал это слово «мы», не удовлетворяясь простым «я и ты», то на это есть глубокое основание; этим выражается, что «я и ты» не есть простая множественность или совокупность двух внеположных явлений, а есть вместе с тем некое единство, и притом единство, как-то родственное единству меня. «Мы» не есть множественное число от «я», но «мы» есть некое расширение «я», распространение его за его первичные и как бы естественные пределы. Сознание «мы» есть для меня сознание, что я каким-то образом существую и за пределами меня самого.