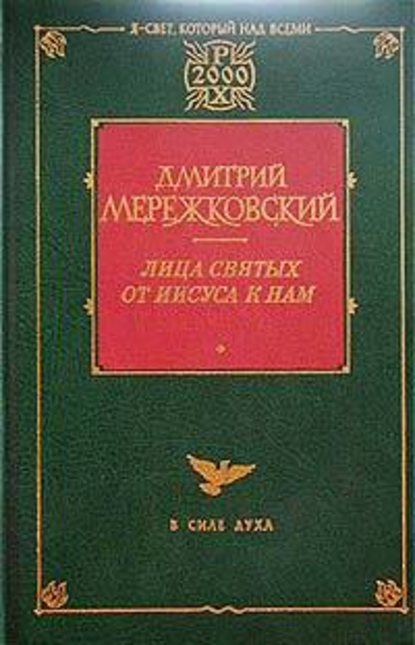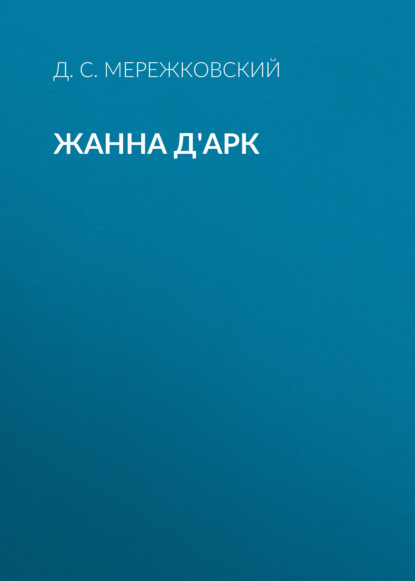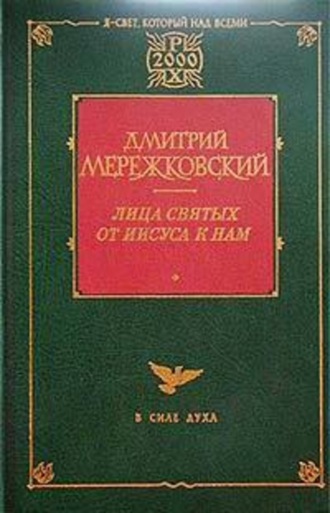 полная версия
полная версияПавел. Августин

Дмитрий Сергеевич Мережковский
Павел. Августин
I. Павел
I
Первый святой – Павел; в нем первая точка пути от Иисуса к нам. Были, конечно, и до Павла святые – ближайшие к Иисусу ученики; но святость тех – иного порядка, чем Павлова: та – в вечности, в мистерии; эта – во времени, в истории. Лица у тех не совсем человеческие; лицо Павла – совсем: те – небесные, это – земное; те для нас уже почти невидимы, первое видимое – это. Первый, по Воскресении слышимый нами, голос, возвещающий Христа, – голос Павла..[1]
Павел первый святой для нас, но не для себя, по вечному закону святости: чем для других святее, тем грешнее для себя. Цену себе он знает: «Нет у меня ни в чем недостатка против высших Апостолов» (II Кор. 11, 5). – «Слуги Христовы – они? В безумьи говорю: я больше, я гораздо больше» (II Кор. 11, 23).
«Лучше мне умереть, чем уничтожить мою похвалу» (I Кор. 9, 15). Это последнее он говорит уже не «в безумьи». Мы удивлены: слишком это не похоже на то, что мы считаем святым. Но, может быть, и Павел удивился бы, если бы узнал, чем он свят для нас. «Что ты Меня называешь благим (святым)? Никто не благ (свят), кроме одного Бога», – может быть, ответил бы нам и Павел, как Иисус. «Братия», члены Тела Христова – Церкви, святы для Павла все равно, хотя и по-разному, потому что быть в Церкви, в Теле Христовом, и значит для него быть «святым». Очень бы он удивился, если бы узнал, что это для нас уже не так; что «Церковь» может значить: святые не в Церкви и в мире, а только в Церкви; один-два спасшихся на тьму погибающих; звезды во тьме, не внешней, – мира, а внутренней, – самой же Церкви; точки живые в мертвом теле не мира, а самой же Церкви, – страшно сказать, – самого Христа. Очень бы удивился Павел, а может быть, и ужаснулся, если бы узнал, что могут быть такие «святые», что будет и он таким.
«Первый святой»? Нет, «в мир пришел Иисус для того, чтобы спасти грешников, из них же я – первый… Я для того и помилован, чтобы Иисус… показал все долготерпение свое на мне первом» (I Тим. 1, 15–16). – «Братья, я себя не почитаю достигшим (святым)… а только стремлюсь… к почести вышнего звания» – святости (Флп. 3, 13–14).
Слов пустых нет у Павла; не пустое слово и это: «после всех явился и мне (Иисус, по Воскресении), как некоему извергу, ektrómati» (I Кор. 15, 8). Великий святой и великий грешник, «изверг», в одном лице, – может ли это быть и что это значит, – мы не понимаем. Видим только лицо Павла, а сердца его не видим, не знаем, может быть, потому, что самое невидимое в мире, неизвестное для грешных, – сердце святых.
Первый святой – Павел Неизвестный. Им начинается какой-то путь, а за ним, – ряд святых, как бы таинственных вех или сторожевых огней на пути. Чей это путь, откуда и куда он ведет, мы тоже не знаем или не хотим знать. Но если бы мы поняли, что и эти святые для нас такие же все, как Павел, Неизвестные, то, может быть, мы поняли бы и то, куда и для Кого проложен этот единственный путь от Иисуса Неизвестного к нам.
II
Лучше всего мы узнаем о жизни Павла от него самого.
«Я – Иудей, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в этом городе (Иерусалиме), при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и вы все», – напоминает, не без гордости, Павел Иудеям в Иерусалиме (Д. А. 22, 3), а также Иудеям в Риме: «Я – Израильтянин от семени Авраамова, колена Вениаминова» (Рим. 11, 1). И царю Агриппе узник Павел напоминает: «Жизнь мою, от юности, проводил я, сначала среди народа моего, в Иерусалиме… Я жил фарисеем, по строжайшему, в нашем исповедании, учению» (Д. А. 26, 3–5). «Мы – Иудеи прирожденные (святые), а не из язычников (Эллинов) грешники». – «Я преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неистовым ревнителем отеческих моих преданий», – скажет он возлюбленным, но неверным и «несмысленным», детям своим, Галатам (2, 11–15; 1, 14); и уже в конце жизни, – Филиппийцам (3, 5–6), тоже детям своим, возлюбленным, но верным и умным: «Я – обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей… по правде Закона, непорочный».
Так утверждая в себе Иудейство, как единственную исходную точку всей своей жизни, Павел только наполовину прав, потому что не одна у него исходная точка, а две, – два лица, две души: эллинская, – явная, дневная, и тайная, ночная, – иудейская. Вся его жизнь – «смертное борение», «агония» этих двух душ; весь день его – Гефсиманская ночь. Сам в нее вошел и вовлек весь мир. Как и чем? Только узнав это, мы узнаем Павла Неизвестного.
III
Родина Павла – столица Римской области Киликии, незапамятно-древний, хеттито-ханаанский город Тарс, отстроенный заново Помпеем, в 63 году до Р. X., на юго-восточном берегу Малой Азии, по узкой цветущей равнине, почти у самого моря, на берегу Кидна-реки, чьи прозрачные воды несут и в знойные долины свежесть горных снегов. Море – к югу, а к северу – снеговые вершины Киликийского Тавра.[2]
Пришлое население Тарса, – купцы, наемники, блудницы, пророки чужеземных божеств, а также великие философы и маленькие риторы, – смешивает, уже со времен Диадохов, древнее Семитство с новым Эллинством.[3]
«Жители Тарса отличались такой любовью к наукам, что превосходили в них Афины и Александрию», – сообщает Страбон.[4] Павел, в Тарсе, недаром надышался с детства эллинским воздухом. Знал, конечно, тогдашний еврейский или, точнее, арамейский школьный язык; но, судя по тому, что выдержки из Ветхого Завета, в Посланиях, никогда не приводит в еврейском подлиннике, а всегда в греческом переводе LXX Толковников, – лучше знает простонародно-всемирный, всеэллинский язык, так называемый koiné, чем арамейский; тот, чужой, будет для него родным, а этот, родной, – чужим.
Здесь только, во всемирном Эллинстве, – вторая для него родина, та самая, где «нет ни Иудея, ни Эллина, ни варвара, ни Скифа, ни раба, ни свободного» (Кол. 3, 11), а есть одно или Один; Кто, – этого он еще не знает в те юные годы, но как жадно хотел бы узнать, как чутко прислушивается к страшному уже для него и блаженному веянью этого нового, всемирного Духа!
IV
Года его рождения мы с точностью не знаем; но, судя по тому, что при первом появлении своем, в 31–32 году, Павел, в «Деяниях Апостолов» (7, 58), назван «юношей», neanias, а в 63 году он сам себя называет «старцем», presbytes (Фил. 1,9), – Павел почти ровесник Иисуса, – только на три, на четыре года моложе Его.[5]
«Савл», Schaul, – имя иудейское, по обрезанию; «Павел», Paulus, – римское, по римскому гражданству.
Два эти имени – как бы внешний знак будущей в нем внутренней двойственности. Сколько бы Павел, уже обратившись, ни убеждал себя, что «нет во Христе ни Иудея, ни Эллина», – он никогда не примирит их в себе, «вечно будет между ними раздираться, не зная, как мы того не знаем, – кто же он сам, настоящий, и кто его двойник, – Савл или Павл, Иудей или Эллин?
Судя по тому, что Павел родился в «римском гражданстве», civitas Romana (Д. А. 22, 28), предки его заслужили или приобрели это почетное, больших денег стоившее звание; или, что вероятнее, приобрел отец: значит, умел разбогатеть, знал толк в делах, был житейски умен и ловок. Эти свойства отца унаследует и приумножит сын, но уже не для себя, а для своего великого дела. Пользоваться будет и римским гражданством, умно отстаивая, в нужных случаях, перед властями, тоже не для себя, а для дела, законные права свои и человеческое достоинство.
V
Так же, как во всех иудейских, старозаветных семьях, где одно и то же ремесло передается из рода в род, научился, должно быть, и Павел ремеслу отца. «Нуждам моим и бывших при мне послужили вот эти руки мои», – скажет братьям Эфесской общины (Д. А. 20, 34). «Делатель шатров», skenopoiós (Д. А. 18, 3), или «обойщик», по-нашему, изготовляет он из длинных полотнищ грубой козьей шерсти, cilicium (названной так по месту, откуда она привозилась, Киликии), те островерхие, черные шатры, какие можно видеть, и в наши дни, в пастушьих кочевьях, на горах Киликийского Тавра.
VI
Павел будет всю жизнь помнить то, чему научился в Тарсе отрок Шаул, не только в стенах иудейской школы при синагоге, но и под открытым небом, на площадях и улицах, в нимфеях и портиках, в банях и на торжищах, а также, вероятно, в открытых всем, манящих и случайного прохожего, в знойные дни, с улицы в свежесть мраморных сеней, великолепных школах-базиликах бродячих эллинских философов и риторов.
В речи к Афинянам о жертвеннике «Неведомому Богу», Agnostó Theó, вспомнит Павел, может быть, ради споривших с ним только что эпикурейских и стоических философов, стих Арата, поэта-стоика (Д. А. 17, 18–28), а в предсмертном письме к Титу (1, 12), о Критской общине, вспомнит стих тамошнего поэта, Эпименида. Зная этих малых, знает, вероятно, и великих, – Гомера, Гезиода, трагиков или, по крайней мере, кое-что слышал о них. Петр, Иаков, Иоанн, – никто из Двенадцати этого не знает и, уж конечно, благовествуя Распятого, о греческих поэтах не вспомнил бы. «Люди неграмотные», aggrammatoi, – скажут иудейские книжники о Двенадцати (Д. А. 4, 13).
Это, конечно, только мельчайшая, едва уловимая, черта в лице Павла, но живая, – в живом: можно и по ней судить о том, как уже страшно далек от тех рыбаков Галилейских рабби Шаул и римский гражданин Павел: как страшно он отделен от, ближайших к Иисусу, учеников, а может быть, и от самого Иисуса, и какой далекий путь к Нему надо будет пройти Савлу. Трещина эта между ними с волосок, но может зазиять пропастью.
Страшно далек Павел от Двенадцати, но чем дальше от них, тем ближе к нам. Им подобного не будет уже никогда никого; Павлу подобен будет весь мир.
VII
Первый иудейский философ, Аристобул Александрийский, истолкователь Пятикнижия, в духе Платона и Аристотеля, кажется, был слишком знаменит в тогдашнем Рассеянии, чтобы Павел мог не знать его или, по крайней мере, о нем. Только одним созвучием имен: «Музей – Моисей» – не пленился бы, конечно, Павел, как Аристобул, и не сделал бы из этого созвучия детски сказочного вывода, будто иудейская мудрость – учительница эллинской, потому что праотец ее, Орфей, – «ученик Музея – Моисея».[6] Но с главным учением Аристобула: «слово Божие не в мертвой букве, а в духе живом», – согласился бы и Павел.[7]
«Книги Премудрости Соломоновой» он также не мог не знать. В книге этой слышатся отзвуки всей эллинской мудрости, от Гераклита до Платона, вместе с отзвуком эллино-египетского тайного Ведения, Гнозиса. Здесь о творении мира говорится так, что это ближе к «Тимею» Платона, чем к «Бытию» Моисея: мир творит вместе с Богом, София, Премудрость Божия, – среднее между миром и Богом, Существо, почти то же, что «Демиург» или «Мировая душа» Платона. И будущее имя Бога-Слова – «Логос» Филона-Иоанна здесь уже произнесено или хотя бы только прошептано.[8] И тайный догмат неопифагорейцев и орфиков о «пресуществовании душ», отразившийся в одном из будущих, главнейших опытов-догматов Павла, – О Предопределении, próthesis praedestinatio, здесь тоже слышится: «в утробе матерней, сгустился я в плоть… и ниспал на землю – родился; «душу имея добрую (в вечности, до рождения), вошел я и в чистое тело» – родился во времени (Прем. Сол. 7, 2–3; 8, 20).[9]
Как бы смутно этого всего ни чувствовал Павел, читая книгу эту, отроком, в Тарсе или, юношей, в Иерусалиме, – он этому не мог не удивиться и глубоко над этим не задуматься.
«Мудрость Божию, Theou Sofia, в тайне сокровенную, en mysterio, мы возвещаем, которую Бог предназначил (предопределил, proórisen) прежде всех веков», – скажет Павел, уже «Апостол язычников» (I Кор. 2, 7–8).
Кажется, Петр будет страшиться и для себя самого этой Павловой «мудрости»; будет остерегать от нее и Церковь: «Брат наш возлюбленный, Павел, по данной ему премудрости… говорит об этом в посланиях своих, в которых есть нечто и непонятное (невразумительное, dysnoetatina), что несведущие и неутвержденные извращают, к собственной своей погибели» (II Петр. 3, 15–16).
Вот где «трещина с волосок» уже зазияет пропастью.
VIII
В эти именно дни Павловой юности, почти в канун тех дней, когда на Иордане, в Вифаваре-Вифании, раздался «глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу… идет за мною Сильнейший меня» (Мт. 3, 3; Мрк. 1, 7), – в эти именно дни вспыхнула в Эллинском Рассеянии, так, как еще нигде и никогда, надежда Израиля: «скоро Мессия придет».
В эти же дни ходили по рукам Иудейские Апокалипсисы, где смутно, как тени, мелькали и чередовались два Мессии: торжествующий Царь, «Сын человеческий, грядущий на облаках», bar enach, пророка Даниила (7, 13), и страдающий «раб Господен», ebed jahwe, пророка Исайи (52, 13). Видел ли книги эти отрок Савл или не видел, – во всяком случае, не мог не слышать о тех двух возможных Мессиях, и, только что начал думать (а начал, вероятно, очень рано), не мог не понять, что надо между ними сделать выбор.
«Кто из двух? Кто из двух?» – спрашивал себя, должно быть, и он, как многие, в те дни, и томился, и мучился оттого, что выбора сделать не мог.
IX
В тесной и темной, сильно пахнущей улочке иудейского предместья в Тарсе, огражденного стеною, – как бы города в городе, малого – в большом, – сидя в шатрово-обойной мастерской отца, за ткацким станком, с длинными, черными, однообразно снующими туда и сюда нитями козьего волоса, с однообразно ходившим на цепи и однозвучно стучавшим, тяжелым, из гладкого дерева, чесальным гребнем, отрок Шаул так глубоко задумался, что ничего не видел и не слышал.[10] Тянутся-тянутся, быстро снуют, скрещиваясь, в наклоненной раме станка, длинные, лоснящиеся нити, ослепительно черные, так что в глазах рябит, а в голове еще ослепительней скрещиваются черные мысли: «Кто из двух? кто из двух?»
Вдруг, сам того не желая, противясь тому и страшась, вспомнил, что видел и слышал однажды издали, на великом празднестве главного здешнего бога, Сандона, Ваала-Тарса Киликийского, Геракла Эллинского, – одного в трех лицах.[11] Слышал глухие гулы тимпанов, пронзительные визги флейт, исступленные песни жрецов, и вопли толпы, и треск горящего костра; видел белые клубы дыма с языками красного пламени, лижущего ноги кумира. Знал, что люди сжигают бога, в память того, что он сам себя сжег однажды и вечно сжигает, вольно приносит в жертву себя за все и за всех; умер однажды и умирает всегда, чтобы всех воскресить. – «Бес, а не Бог; губящий, а не спасающий», – думает отрок Шаул или только хочет думать, но не может, потому что не знает наверное и мучается, томится томлением смертным.
Знал, может быть, уже и тогда, что «есть много богов, но у нас (Иудеев) – один Бог Отец» (I Кор. 8, 5–6). Много есть и таких же, как этот Ваал-Тарс, страдающих за людей, и умирающих богов-искупителей: Озирис Египетский, Таммуз Вавилонский, Аттис Фригийский, Митра Персидский, Дионис Эллинский, Адонис-Адонай Ханаанский (этот – самый лживый и страшный из всех, потому что имя его – имя истинного Бога), и сколько еще других, неведомых! «А за ними всеми – бес один», – думает отрок Шаул или только хочет думать, но не может. «Бог или бес? Кто из двух? кто из двух?» – мучается, смертным томлением томится.[12]
«Вот они все, со всех концов мира, туча тучей, как вороны на падаль, слетаются на бедную душу мою!» – думает он, с от вращеньем и ужасом. Закрыл глаза, чтобы не видеть; но черные мысли – черные нити, и под закрытыми веками, скрещиваются еще ослепительней. И рдеют на той черноте, точно кровью наливаются, огненные буквы Исаиина пророчества:
Раб Господен, ebed jahwe… презрен был и умален пред людьми… И мы отвращали от Него лицо свое… и ни во что ставили Его… Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Казнь мира нашего была на Нем, и ранами Его мы исцелились… Род же Его кто изъяснит? (Ис. 53, 3–8).
X
«Кто изъяснит?» – мучается отрок Савл, смертным томлением томится. А черные мысли – черные нити, все черней, ослепительней. Вдруг огненно-красные буквы на той черноте побелели и вспыхнули таким огромным светом, что поглотили всю черноту. Свет был так ярок, что солнце перед ним померкло бы, как свеча перед солнцем; ярок, но не ослепителен, потому что шел как будто не извне, а изнутри Павла и наполнял его всего, как вода наполняет сосуд. И в свете этом увидел он все, и узнал, что «все хорошо весьма», как в первый день творения, сказал Господь и праведные скажут в последний день мира; понял, что значит: «око того не видело, ухо не слышало, и не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим Его» (Ис. 64, 4); понял все, как бы «восхищен был до третьего неба в рай, и слышал там глаголы неизреченные, которых человеку нельзя пересказать» (II Кор. 12, 2–4).
Все это длилось миг – атом времени; если бы дольше продлилось, душа бы не вынесла – уничтожилась.
Вдруг как бы длинное, тонкое жало пронзило все тело его, от темени до пят; лицо исказилось так, как будто кто-то невидимый бил его по лицу, связанного, и он не мог пошевелиться. И, с воплем нечеловеческим, таким, что казалось, не он сам кричит, а кто-то из него, – упал на землю.
«Жало дано мне в плоть, ангел сатаны, бить меня по лицу, hina me kolaphidze, – скажет Павел через много-много лет.
– Трижды молил я Господа, чтобы удалил его от меня. Но (Господь) сказал мне: милости Моей довольно тебе, ибо сила Моя совершается в немощи» (II Кор. 12, 7–9).
Сила Господня уже и тогда совершалась в немощи отрока Савла, но медленно, долго и трудно. Свет, блеснувший в нем, в тот памятный день, за ткацким станком, потух в темной ночи почти так же внезапно, как вспыхнул, и ночь сделалась еще темней. Что узнал тогда, в вещем сне наяву, – забыл, заспал в страшном сне жизни.
«Кто из двух? кто из двух?» – снова мучился, томился томлением смертным. Было с ним то же, что с умирающим от жажды, когда он, увидев во сне, что пьет воду, и проснувшись, жаждет еще неутолимей.
XI
Отроческие годы миновали, наступила юность.
Видя, должно быть, в сыне глубокое, не по летам, благочестие, страсть к наукам и остроту ума, отец Савла решил сделать из него ученого равви, чтобы прибавить доход к доходу, – к шатрово-обойному делу – книжное, и почет к почету, – иудейскую мудрость и святость – к римскому гражданству. С этою целью, вероятно, и послал он его в Иерусалим, к тогдашнему великому учителю Израиля, Гамалиилу Старшему.
Около четырнадцати лет провел юноша Савл «у ног Гамалиила» недаром: к полдню жизни, совершенному левитскому возрасту – тридцати годам, он уже сравнялся с учителем в книжной премудрости, а в пламенной ревности к Закону мог бы его превзойти, если бы дошел до конца по пути, на который вступил; но не дошел – преткнулся о камень соблазна, в самом начале пути.
Странные, чудные слухи о новом великом пророке, Иисусе Назорее, стали доходить в Иерусалим. «Кто он такой? Откуда?» – недоумевали мудрые. – «Не это ли Мессия, сын Давидов?» (Мт. 12, 23), – говорили, пока еще не вслух, а только шепотом, на ухо, глупые – «темный народ, от сохи», am-haarez, – тот, о котором думал, может быть, и мудрый Савл: «Этот народ – невежда в Законе; проклят он» (Ио. 7, 49). – «Разве из Галилеи (языческой тьмы и тени смертной) придет Мессия?» (Ио. 7, 40–42).
Так думал или только хотел бы думать Савл; но, по мере того как слухи росли, он вспоминал, должно быть, все чаще, как искушали его, в Тарсе, «боги-бесы». Понял, что мира душе своей не найдет и здесь, в Иерусалиме, Городе Мира: здесь – даже меньше, чем в Тарсе: оттуда – сюда, как из огня, да в полымя; там была только тень Врага, а здесь – Он сам; те были чужие, далекие, древние, а Этот – сегодняшний, здешний, свой; те возвещали, что Он придет, и вот, пришел. Имя Врага, ложного Мессии, Соблазнителя, Обманщика, – «Иисус Назорей».
XII
Знал ли Павел Иисуса, видел ли Его?[13]
Более чем вероятно, что Савл был в Иерусалиме, в те Пасхальные дни 29–30 года, когда пришел туда Иисус из Галилеи. Чтобы не увидеть Его ни разу, за все эти дни, Савл должен был бы прятаться от Него, не выходить из дому или сделать то, чего не сделал бы ни один благочестивый иудей, – совсем покинуть Иерусалим в эти святейшие дни.
Но если Савл видел Иисуса, то мог ли бы Павел не сказать об этом ни слова или, хуже того, говорить, как будто нарочно, так темно и двусмысленно, чтобы его нельзя было понять, как он это делает, в письмах своих (именно письмах, простейших, задушевнейших, а не в церковно-торжественных «Посланиях», – в письмах, как будто не чернилами писанных, а живым голосом, от сердца к сердцу, сказанных)? Очень вероятно, что немногие только из этих писем – 18 (несомненно и целиком подлинных, 8 или даже 5) – уцелели и дошли до нас. Но и в этих немногих мог ли бы Павел, если бы видел Иисуса, говорить об этом так, как говорит?
«Не видел ли я, eóraka, Иисуса Христа, Господа нашего?» (I Кор. 9, 1). Значит ли это: «видел Воскресшего» или видел «Живого»?
Как понять и другую загадку: если я (в подлиннике: «мы», но и здесь, как большею частью у Павла, «мы» значит «я»), если я и знал, egnokamen, Христа по плоти, то теперь уже не знаю, ouk éti ginóskomen (II Кор. 5, 16)? Значит ли это, что еще до того, как увидел Христа воскресшего и узнал Его «по духу», он уже знал Его, и живого, «по плоти», – плотскими глазами видел; или значит только, что мог бы так узнать – увидеть, но не узнал?[14] И почему ни сам Павел, ни Деяния Апостолов не говорят того, что так естественно было бы сказать, – что он Иисуса «не знал по плоти», – плотскими глазами не видел? Почему Лука этому не удивляется и Павел в этом не признается?
Ключ ко всем этим загадкам, может быть, – Дамасское видение Савла. «Кто Ты?» – спрашивает он Иисуса не потому ли, что еще не знает, что Этот, в новой плоти, воскресший, и Тот, живой, – Один и тот же? И только тогда, когда Господь отвечает ему: «Я – Иисус», – снова, может быть, узнает Его, по лицу и по голосу, как человек узнает человека, уже виденного однажды? На этом-то именно тождестве Узнанного сначала, в действительности меньшей, а потом в «видении», «прозрении» – прорыве в иную действительность, бóльшую, не будет ли основана вся вера Павла во Христа?[15]
Но если даже так, загадка еще не до конца разгадана; остается вопрос: мог ли все-таки Павел о действительно виденном Иисусе говорить так, как он говорит? Кажется, мог, и не только мог, но должен был, – не мог бы говорить иначе. Ясно и прямо, с легким сердцем, люди вообще не говорят о том, что слишком для них больно и страшно, чего они сами себе еще не простили и, может быть, никогда не простят; в чем и от других не хотят, не могут, не должны принять прощения. Так, может быть, и Павел: если бы он действительно «знал Христа по плоти» и не узнал, видел и не увидел, то этого он никогда не простил бы себе и от других прощенья не принял бы.[16]
XIII
Видел вшествие в Иерусалим; слышал: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне!» Видел слезы Его; слышал пророчество Иерусалиму, Городу Мира, а может быть, и себе, немирному; «О, если бы и ты, хоть в сей день, узнал, что служит к миру твоему! Но это скрыто от глаз твоих»; слышал и понял притчу о виноградарях, убивших сына господина своего: «придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим» (Лк. 20, 16), и притчу о камне, отвергнутом зодчими и сделавшимся главою угла: «Кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит»; слышал тех, кто говорил Ему: «Бес в Тебе»; и приговор Его сынам Авраама: «Ваш отец – диавол». Был с теми, кто схватил каменья, чтобы побить Его, как «богохульника», за то, что Он сказал: «Я и Отец – одно», и с теми, кто кричал Пилату: «Распни!» и кто распинал Его и ругался над Ним: «Христос, Царь Израилев! Пусть теперь сойдет с креста, чтобы мы видели, и уверуем!» И даже тот последний час, когда еще можно было узнать Его и римский сотник, чужой, узнал: «Истинно человек сей был Сын Божий!» – свой до конца не узнал.[17]