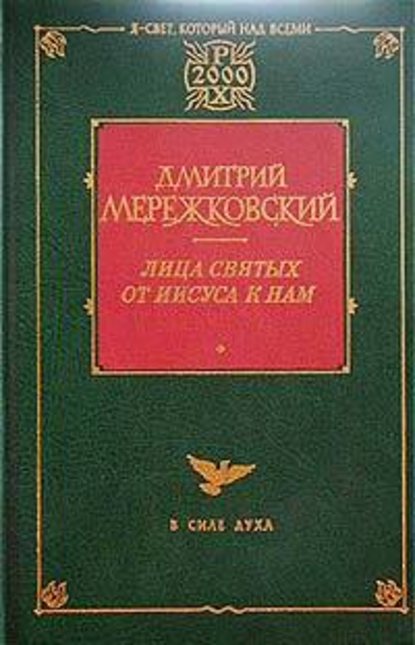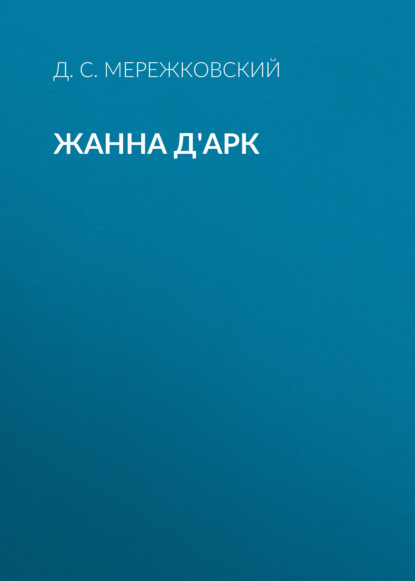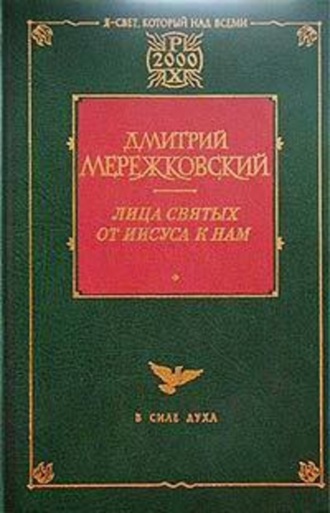 полная версия
полная версияФранциск Ассизский
Эта немая музыка св. Франциска больше всех на земле слышимых звуков и слов. Не было бы, может быть, без нее ни «Божественной Комедии» Данте, ни Девятой симфонии Бетховена.
Но это «восхищение» кончалось всегда слезами.[221] Плакал должно быть, о том, что не мог сказать ни людям, ни Богу. о самой главной радости своей, – свободе в Духе.
LXXXIII
«О, если бы знали братья обо мне все, – как бы они пожалели меня!» – скажет он, умирая.[222] Но не знали тогда, – не знают и теперь.
Если верить легенде, св. Франциск по земле не прошел, а пролетел, как Серафим, хотя и распятый; но за что распят и кем, мы не узнаем и креста не видим: он заслонен от нас серафимскими крыльями. Если верить легенде, то Франциск и на раскаленных углях, как на розах покоится, а в действительности, может быть, и на розах, как на раскаленных углях.[223]
Начал Франциск величайшей в мире свободой, а кончил послушанием трупным. «Всякий инок да будет настоятелю послушен, как труп, perinde ас cadaver», – первый скажет – не св. Игнатий Лойола, а св. Франциск. Слишком очевидно, что между таким началом и таким концом должно было что-то произойти, в жизни Франциска, что скрыто легендой. Это-то именно скрытое и есть, кажется, то, что произошло между Франциском и Церковью.
«Как бы ни были грешны служители Церкви, я вижу образ Сына Божия только в них», – это он чувствует всегда, и чувство это, вероятно, не изменилось бы в нем, если бы он услышал тот приговор, который произносит Данте устами апостола Петра, может быть, не только над папой Бонифацием VIII:
место мое, место мое, место мое, на земле, похитил он, пред лицом Сына Божия; сделал могилу мою помойною ямой крови и грязи, где радуется Сатана.[224]
Видит, конечно, и Франциск, не хуже Данте, эту «помойную яму», но лучше помнит слово Господне о Церкви: «Врата адовы не одолеют ее»; знает, что никакое зло человеческое к божественному существу Церкви прикоснуться не может: ризы Невесты Христовой остаются и в «грязи, и в крови», незапятнанно белыми.
Знает, конечно, и Франциск, не хуже Данте, что значит: «там, где каждый день продается Христос»; но знает и то, что Христос продается, каждый день, во всем мире. «Римская Церковь – Великая Блудница, meretrix magna», – скажут ученики Франциска, предвосхищая Лютера.[225] «В Риме уже родился Антихрист», – шептал Иоахим на ухо Ричарду Львиному Сердцу, Лютера предвосхищая тоже.[226] Но знает Франциск, что не в Риме, а в мире, – в каждом человеческом сердце родится Антихрист.
Нет, вовсе не в порядке зла или добра человеческого находится то, что произошло между Франциском и Римскою Церковью. Будь она, если это возможно, святее в тысячу раз, это не изменило бы дела по существу: все равно в Церковь не вошел бы Франциск весь, потому что главное в нем – то, что мы называем недостаточным словом: «социальная проблема» и что можно бы назвать «Коммунизмом Божественным» или «Третьим Умножением хлебов» (первое и второе, – уже в Евангелии; третье, – «по ту сторону Евангелия»), – это, во Франциске, для него и для нас главное могло бы вместиться не в Римскую церковь, а только во Вселенскую, – не во Второе Царство Сына, а только в Третье Царство Духа.
LXXXIV
Если назначение Римской церкви, Камня Петрова, – стоять неподвижно, быть в равновесии, в статике, то назначение святых – быть в динамике, – равновесие нарушать, двигать: вот почему между святыми и Церковью кажущаяся вечная борьба, – действительное, вечное согласие. Между св. Франциском и Римскою церковью тоже.
В тяжбе этой оба невинны, святы оба, Франциск и Церковь. Но происходит все-таки ужасное, – то самое, о чем скажет Франциск, умирая: «О, если бы знали братья обо мне все, – как пожалели бы они меня!» Pater Seraphicus, Отец Серафимский, великий Святой, Франциск, будет Святою Римскою Церковью распят.
«О, простенький – глупенький! куда ты идешь? О, simplicione, quo vadis?» – на этот вопрос папы, наместника Петра, мог бы ответить Франциск так же, как Господь отвечает Петру:
иду в Рим, чтобы снова распяться,vado Romam iterum crucifigi.LXXXV
Папскими наместниками Братства Меньших уничтожены, в 1222 году, через тринадцать лет по основании Братства, слова Господни, бывшие в первом Уставе 1209 года:
Ничего не берите с собою в дорогу: ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра (Лк. 9, 3).[227]
«Братья-наместники думают Господа и меня обмануть», – скажет об этом Франциск.[228] «Если мы признáем, что жить по Евангелию есть дело невозможное, то мы Христу поругаемся», – мог бы он напомнить «обманщикам» слова кардинала Колонны.
В тело Серафима распинаемого это первый гвоздь, а вот и второй. В 1230 году, буллой папы Григория IX, бывшего наместника Братства, Quo elongati, – все «Завещание» св. Франциска зачеркнуто, – уничтожено дело всей жизни его; как бы на вопрос его: «Можно ли жить по Евангелию?» Римская Церковь ответила: «Нельзя».[229]
Так будет после смерти Франциска; так же почти было и при жизни его. И пусть даже мысль противопоставить Церкви Евангелие никогда ему не приходила на ум, – мог ли, в сердце его, не шевельнуться вопрос: «Всегда ли учение Церкви совпадает с Евангелием?»
Ста лет не пройдет по смерти Франциска, как буллой папы Иоанна XXII, около 1318 года, сказано будет о ближайших и вернейших учениках Святого: «Две Церкви воображают они: плотскую… порабощенную богатствам, церковь римских пап, и свою, духовную, будто бы свободную, в бедности».[230] Кажется, нельзя точнее выразить все учение Иоахима о двух Церквах, – Римской и Вселенской. В духе того же учения изобразит Данте, в первой Песне «Ада», поединок Римской «Волчицы», Lupa, с «Гончею» Духа, Veltro (имя это, может быть, криптограмма-тайнопись «Вечного Евангелия»: v-avg-EL. e – T – с – R – n – о = VELTRO).[231]
Тайнописью veltro связан с Иоахимом неразрывно. Если тело «Божественной комедии» – от св. Фомы Аквинского, то весь дух ее – от Иоахима. – Eduard Boehmer. II Veltro (In Deutsche Dante geselschaft. Jahrbuch 1867. B. 2. Leipzig, 1869. S. 363–366). – Paulus Stephanos Cassel. II Veltro, der Retter und Richter in Dante's Hölle. Berlin, 1890. P. 25–26. L. F. Guelfl. L'allegoria fondamentale del poema di Dante. Firenze, 1910. – Giovanni Papini. Dante vivant; traduit de 1'italien par Juliette Bertrand. Paris: Grasset [1934]. P. 222–223.]
«Третьего завета Предтеча – Иоахим, а Мессия – Франциск; Братство Меньших будет Вселенскою Церковью», – скажет, в 1254 году, четверть века спустя по смерти Франциска, опять один из его вернейших учеников.[232] «Римскою церковью воздвигнуто ныне такое же точно гонение на Меньших Братьев, как некогда Синагогой Иудейской – на учеников Христа; когда же гонение достигнет крайней степени, то Римская Церковь рушится», – скажет через полвека по смерти Франциска другой из учеников его вернейших.[233] Если бы узнал об этом учитель, то воскликнул бы, вероятно, с ужасом не меньшим, чем Иоахим: «Да не будет, да не будет, да не будет сего! Absit, absit, absit hoc!»[234]
Но так же мог бы ужаснуться Франциск и от слов Господних: «Только одно Братство твое осталось у Меня во всем мире, и с ним последний свет потухнет!»[235]
«Церковь освободится от римского ига, Ecclesia liberabitur a jugo servitutis illius», – сказано будет на Иоахимовой родине, в Калабрии, два века после Иоахима, полтора века после Франциска и за четверть века до Лютера.[236] Это и значит, по Иоахиму: только Церковь «освобожденная», в Третьем Царстве Свободы, будет Церковью Вселенской – не Двух, – Отца и Сына, а Трех, – Отца, Сына и Духа.
LXXXVI
Это уже не «Преобразование» – «Реформация», а «Переворот» – «Революция». Иоахим начал ее; продолжал, сам того не зная и не желая, Франциск. Это нечто бесконечно большее, чем Реформация, и более для Римской Церкви опасное, потому что не рушащее ее извне, а взрывающее изнутри; это пожар от того огня, о котором сказано:
огонь пришел Я низвесть на землю, и как желал бы, чтоб он уже возгорелся! (Лк. 12, 49).
Люди погасили этот пожар. Надо ли было гасить? Нет, не надо. И уж во всяком случае, не надо было это делать так, как сделали. «Я столько же думаю о Третьем Царстве Духа, сколько о пятом колесе в телеге, quantum de quinta rota plaustri», – скажет один из учеников св. Франциска, через двадцать лет по смерти учителя.[237] Если в наши дни телега человечества так страшно увязла в крови и грязи, то, может быть, потому, что и для нас все еще «пятое колесо» в этой телеге, – Дух.
LXXXVII
«Кажется, мы, дети Франциска, пропитаны до мозга костей духом отделения» (от Римской церкви), – признается, в наши дни, один историк Братства, сам – дитя Франциска.[238] Меньше хотеть отделиться от Церкви, больше подавлять «дух отделения в себе и в других», чем это делает Франциск, – кажется, нельзя. «Сам Господь внушил мне такую веру в пастырей Святейшей Римской Церкви, что, если бы они и гнали меня, я все-таки пошел бы к ним». Но если бы не его гнали, а Того, с Кем он, – пошел ли бы к ним все-таки? И что значит: «рушащийся дом Мой обнови, Франциск»? Кем и отчего рушится дом Божий? На эти вопросы не отвечает Франциск, а может быть, и не слышит их вовсе. Чтобы не видеть слишком страшного и очевидного «там, где каждый день продается Христос» (пусть и везде продается, но там, в Церкви, это страшнее, чем где-либо), – чтобы этого не видеть, он и ослепляет себя – «оглупляет».
Мог ли бы понять Франциск, почему назван Павел «возмутителем всесветным» (Д. А. 17, 6) и почему сам Иисус распят за то, что «возмущал народ» (Лк. 23, 5)? Очень вероятно, что если бы и мог, то не захотел бы; чтобы не видеть и этого, ослепил бы себя – «оглупил».
LXXXVIII
Самая черная точка этого ослепления – в жизни Франциска загадка темнейшая – передача им власти над Братством отъявленному плуту и негодяю, брату Илье Кортонскому.
«Именем святого послушания приказываю, per lo merito della santa ubbedienza»,[239] – вот, кажется, магическое слово, которым свяжет Франциска, по рукам и ногам, чтобы отдать его в руки ставленнику своему, брату Илье, папский викарий, верховный наместник Братства, кардинал Уголино, будущий папа Григорий IX, один из умнейших и благороднейших людей Римской церкви, искреннейший друг св. Франциска и сам почти святой. Как же это могло случиться, – вот загадка.
Кто такой брат Илья? Великий «приобретатель-собственник», великий «делец», «спекулянт», по-нашему, «вор», по-тогдашнему. Первый увидел он в братстве Нищих выгоднейшее «торговое дело» и начал его, вероятно, еще при жизни Франциска, а кончит уже по смерти его, когда на собранные – краденые деньги от постройки великолепной Ассизской базилики, богатейшей могилы Прекрасной Дамы, Бедности, и возлюбленного ее, св. Франциска, заживет как владетельный князь, в богатстве и роскоши. Когда же, отлученный от Церкви, заключит против нее союз с императором Фридрихом, «апокалипсическим Зверем», как назовет его папа Григорий IX, тот самый кардинал Уголино, что поставил брата Илью папским наместником в Братстве, то не будет уже никакого сомнения, что брат Илья продал душу дьяволу.[240]
Как бы воплощенный дьяволом смех над св. Франциском – дьявола с «игрецом Божьим» игра; как бы исполнившееся над сыном проклятье отца, – вот что такое брат Илья в жизни Франциска. Сын восстал на отца, честного «собственника», Пьетро Бернардоне и покорился плуту; честного отца возненавидел и вора возлюбил. «Матерью» своей называл Блаженный брата Илью», – вспоминает легенда.[241]
Что же все это значит? Чем такого Святого очаровал такой негодяй? Кажется, ключ и к этой загадке в жизни Франциска – все в том же его глубочайшем признании: «О, если бы люди знали обо мне все, как бы они пожалели меня». Больше, чем за то, что происходит между ним и Церковью, пожалели бы его, может быть, за то, что происходит в нем самом.
Самое в нем жалкое и неизвестное людям знал только один человек, – брат Илья. Кто кого знает, тот тем и владеет. Вот почему Франциском владел, как никто, брат Илья. Кажется, есть на это глухой намек и в легенде.
LXXXIX
Брату Пачифико было видение: восхищенный в небо, подобно апостолу Павлу, – «в теле или вне тела, Бог знает» (II Кор. 12, 3), – увидел он там, среди многих престолов лучезарных и высоких, но пустых, один выше и лучезарнее всех, игравший всеми цветами радуги, как «Утренняя Звезда, Денница» (это, по той же легенде, звезда и самого Франциска). «Что это за престол и кому он предназначен?» – спрашивал он себя с удивлением великим. И был ему Глас: «Это опустевший престол Люцифера, на него же воссядет Франциск!» – «Что ты о себе думаешь, Франциск, – кто ты такой?» – спрашивает, после этого видения, брат Пачифико. – «Кто я такой? – отвечает Блаженный. – Грешник величайший в мире, потому что и последний злодей был бы лучше моего, если бы Господь помиловал его, как милует меня!» Это не «смирение», а такая же для него простая и несомненная истина, как то, что он – человек. Но этого простого ответа не понял брат Пачифико, так же как не поймет его и не поверит ему никто.
«Знай, по этому ответу Франциска, что бывшее тебе видение истинно, ибо вознесен будет смиренный Франциск на престол, с которого низвержен был Люцифер за гордыню!» – слышит брат Пачифико тот же «Глас с неба», а может быть, и не с неба, и верит ему.[242] Судя, однако, по тому, что он Франциску о своем видении не говорит, – должно быть, чувствует, что оно может его и не порадовать. Кто в самом деле, даже из грешных людей, кроме самых глупых или сошедших с ума от гордыни, согласился бы воссесть на «престол Люцифера»? Но если так для грешных, то для Святых тем более, а для смиреннейшего из Святых, Франциска, – больше всех. Самое жалкое и страшное, что могло бы с ним произойти, – это вечный, в славе, позор, в самом небе ад; «вознесение на престол Люцифера».
Думал ли он когда-нибудь об этом? Кажется, думал.
ХС
«Почему ты? почему ты (избранник Божий)?.. Ты некрасив, неучен и незнатен; почему же к тебе идет весь мир?» – спрашивал однажды Франциска брат Массео, красивый, ученый и знатный.
«Хочешь знать почему? – ответил Блаженный. – Зорки очи Божии: увидели, что нет на земле твари слабее, подлее, гнуснее, презреннее меня; вот почему и возвысил меня Господь, да посрамит всех великих земли!»[243]
Чудно и страшно уже возвысил, и продолжает возвышать, и до чего возвысит, – неизвестно. – «Буду велик, – больше Карла, Александра и Цезаря, – больше всех людей на земле!» – мог бы он вспомнить, как хвалился друзьям своим, подвыпивши, когда был еще «скоморохом», «игрецом», не Божьим. А если бы вспомнил и безумное пророчество монны Пики Простейшей: «Сыном Божьим будет мой сын!» – то это благословение матери ужаснуло бы его, может быть, больше, чем проклятье отца.
Очень вероятно, что Франциск испытывал иногда, в порядке духовном, нечто подобное тому, что в порядке физическом Святые называют «подыманием», levitatio, и что многие люди испытывают, летая во сне, – странно легкую, чудесную и в то же время естественную победу над притяжением земли. Но наяву такие полеты могут быть и очень страшны, как в головокружении перед обмороком, когда человек, теряя равновесие, не знает, куда летит, вверх или вниз, в небо или в преисподнюю. Судорожно, в такие минуты, цепляется Франциск за землю, прилипает к земле как червь, чтобы не быть «вознесенным на престол Люцифера».
Может быть, в одну из таких минут велит он братьям, «именем святого послушания», влачить себя, голого, с веревкой на шее, как злодея, на городскую площадь. – «Думаете, что я святой? – говорит народу. – Нет, величайший из грешников!» И кается в мнимом грехе, – в том, что ел мясо, потому что о грехе настоящем, возможном или невозможном, не смеет сказать ни людям, ни себе, ни Богу. Но никто не понимает его, не верит ему; плачут все и рыдают, бия себя в грудь: «Если уж такой Святой так унижает себя, что же делать нам, грешным?» И опять возносят его благоговейно-безжалостно на «престол Люцифера».[244]
«Столько сделал зла, что будешь в аду!» – хочет сказать Блаженному один из братьев, по его приказанию, но говорит: «Столько сделал добра, что будешь в раю!»[245] «Грешен, грешен, грешен», – повторяет Франциск ненасытимо, а люди отвечают ему, как беспощадное эхо: «Свят, свят, свят».
XCI
Первенцу своему возлюбленному, брату Бернардо, приказывает он, тоже «именем святого послушания»: «Я лягу наземь, а ты перейди через меня трижды, каждый раз наступая мне одной ногой на горло, а другой – на рот, и говори мне так: вот чего ты достоин, сын Пьетро Бернардоне, смерд!» и еще говори: «Откуда гордыня твоя, презренная тварь?» Это будто бы наказание за какой-то опять пустой и мнимый грех, а в действительности, может быть, жажда презрения неутолимая.
И, не смея ослушаться воли Блаженного, с ужасом топчет брат Бернардо, человек, Серафима Распятого.[246]
Ходит «канатный плясун», «скоморох Божий», вниз головой по веревке, протянутой между двумя безднами, – гордыней Люцифера и смирением Серафима; кружится у него голова, и судорожно цепляется он руками за веревку – едва уже действующее на него притяжение земли, чтоб не сорваться и не упасть в страшную глубину или не вознестись в вышину еще более страшную.
Как пал ты с неба, Денница, сын Зари (Утренняя Звезда – Люцифер)… А говорил в сердце своем: «на небо взойду, выше звезд Божиих вознесу престол мой… буду подобен Всевышнему!» Но ты низвержен в ад, в глубину преисподней… ты – как попранный труп (Ис. 14, 12–19).
Вот ужас Франциска, – самое «жалкое» в нем, – то, чего люди не знают и за что его не жалеют.
XCII
«Что такое послушание совершенное?» – спрашивали однажды братья Блаженного, и он отвечал им так: «Мертвое тело возьми и клади, куда хочешь, – не будет противиться, потому что все равно ему, где лежать; посади его на престол, – будет смотреть не вверх, а вниз; в царский пурпур одень, – только побледнеет вдвое… Вот что такое послушание совершенное».[247]
Ты уже не раб, но сын jam non servus, des filius (Гал. 4, 7); ты уже не труп, но живой, – так, для Павла, а для Франциска и Лойолы: «ты уже не сын, но раб, jam non filius, sed servus; ты – не живой, а труп»:
«Призваны вы к свободе, братья». – «Стойте в свободе, которую дал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5, 13; 1).
Оба, Франциск и Лойола, не устояли в свободе, – под иго рабства вернулись. Церковь в этом неповинна: оба вольно в рабство идут.
Самому веселому человеку в мире вдруг сделалось скучно; самое живое, огненное, легкое, что было в мире, превратилось в самое тяжелое, холодное, мертвое, – свобода Франциска – в «трупное послушание» Лойолы: «Будь послушен, как труп, perinde ас cadaver».
Страх свободы, – вот, может быть, грех не только св. Франциска и св. Лойолы, но и всей христианской святости.
Кто освобождает людей, Бог или дьявол; чья Утренняя Звезда – свобода, – Люцифера или Сына Божия, – в этом, конечно, весь вопрос. Иоахим на него отвечает; Франциск молчит.
Страх свободы и гонит его в «послушание трупное»: хочет он только одного, – замереть – умереть, не шевелиться, быть неподвижным, «послушным, как труп», чтоб не причинять боли раненной насмерть душе.
XCIII
«Трупное послушание», кажется, первая тайна власти брата Ильи над Франциском: «трупом» не чувствует он себя ни в чьих руках так, как в его. Тайна вторая, кажется, то, что брат Илья – единственный человек в мире, «презирающий» Франциска от всей души (этого, впрочем, никто не видит, кроме самого Франциска, потому что брат Илья, по виду, с ним почтителен, как сын, и нежен, как «мать»). Каждым словом своим, каждым взглядом бьет он его по лицу, «наступает ему на уста»; влачит его, голого, как злодея, с веревкой на шее, и делает это лучше всех, потому что не по его приказанию, а по собственной воле. Вот для чего он так нужен Франциску и почему тот любит его, как «мать». Брат Илья, может быть, единственный человек в мире, который утоляет в нем, хоть каплей воды, палящую жажду презрения.
Третья, наконец, самая страшная тайна власти его над Франциском, кажется, то, что он – духовно-»прокаженный». Очень вероятно, что бывали минуты, когда Франциск испытывал такое же к нему отвращение и ужас, как и к тому прокаженному, с которым некогда встретился на дороге, и так же хотел от него бежать, и так же возвращался к нему, и целовал его в уста.
Понял, наконец, что этого не надо было делать, когда узнал, кто он такой; но было уже поздно.
XCIV
Трижды хотел он бежать от брата Ильи (тот уже давно если не в плоти, то в духе ходил около него, подстерегал); бежать хотел и от себя самого; трижды искал мученичества в крестовых походах: в первый раз, в 1212 году, в Сирии; во второй – в 1215 году, в Марокко; в третий – в 1219 году, в Египте. Искал, но не нашел; если и принял муку, то не от чужих, неверных, а от своих же, христиан.
В 1219 году, при взятии города Дамиетты крестоносцами, увидел впервые, лицом к лицу, ужас войны. Если бы мы лучше знали эти дни Франциска, о которых очень мало говорит история, а легенда не говорит почти совсем, то, может быть, мы увидели бы в жизни его поворотную точку.[248] Главное дело, для которого он шел в крестовые походы, – обращение неверных – не удалось. Он возвращается ни с чем или со смертью в душе; во всяком случае, из последнего похода уже не таким вернулся, каким в него пошел: понял, наконец, страшную косность людей, тяжесть и медленность времени; понял, что лев ляжет рядом с ягненком не так скоро, как ему казалось, и царство Божие страшно от него отдалилось. Вот, может быть, почему, почти тотчас по возвращении из Египта, в 1220 году, на общем собрании – капитула Братства в Портионкуле, через одиннадцать лет по его основании, отрекается от власти наместника и передает ее сначала брату Петру Катанскому, а потом, в 1221 году, брату Илье.[249]
В следующем году, когда заповедь Господню о нищете совершенной в первом Уставе от 1209 года уничтожил, должно быть, брат Илья, не без согласия кардинала Уголино, верховного наместника Братства, – Франциск если на это и не соглашается, то и не восстает, удержанный «послушанием трупным»; только говорит: «Мертв я отныне для вас, братья мои!»[250] Это и значит: «Я уже труп». – «Вскоре после того он тяжко заболел и был почти при смерти».[251]
Так, может быть, наполовину от смирения, наполовину от отчаяния, отказался он исполнить то, что повелел ему Господь: «рушащийся дом Мой обнови, Франциск!» Как бы вдруг усомнился в себе и в деле своем, в свободе и в блаженстве нищеты, в Прекрасной Даме, Бедности, – во всем; как бы почувствовал, что «другой препоясал его и ведет, куда он не хочет идти» (Ио. 21, 18). Кто этот «другой», – брат Илья, кардинал Уголино, папа, Церковь? или тот, о ком сказано:
Я пришел во имя Отца Моего, и вы не принимаете Меня, а если другой придет во имя свое, вы его примете (Ио. 5, 43)?
XCV
В 1217 году, на капитуле Братства в Портионкуле, свел кардинал Уголино св. Франциска со св. Домиником, «отца бедных» – с «отцом Святейшей Инквизиции».
«Брат мой, ты делаешь то же, что я, – воскликнул Доминик, обнимая Франциска. – Будем же вместе, и никто не одолеет нас!»[252] На это Франциск ничего не ответил, давая тем понять, что принял эти слова за «простую любезность», simplice complimento. И понял Доминик, что делать ему с Франциском нечего; но, как потом оказалось, ошибся: кое-что можно было с ним сделать.[253]
«Я не хочу быть палачом братьев моих, предавая их в руки судей мирских», – говаривал будто бы Франциск, вероятно, о судьях Св. Инквизиции.[254] Но в «Завещании» сказано совсем иное: «Если бы кто-нибудь из братьев оказался подозрительным по римско-католической вере, то представлять его ближайшему брату-настоятелю (custos…) и тому заключать его, связанного, под крепкую стражу… и стеречь, днем и ночью, так, чтоб он не мог убежать… и представлять ближайшему наместнику… и тому заключать его под стражу… и представлять верховному наместнику Братства, монсиньору епископу Остийскому».[255] Если бы эти слова, в «Завещании» Франциска, были подлинны, то мог ли бы он не знать, что сделался-таки «палачом братьев своих», посылая их на костры Св. Инквизиции? Это и значило бы: «ты, Франциск, делаешь то же, что я, Доминик: будем же вместе!»
Здесь, кажется, одно из двух: или слова эти – гнуснейший подлог, должно быть, брата Ильи; или Франциск изменяет в них себе самому, в самом главном, – в Духе, ибо нет никакого сомнения, что огонь Св. Инквизиции – не огонь Духа Святого: этот надо было потушить, чтобы тот зажечь.