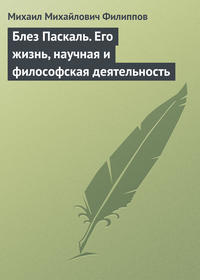полная версия
полная версияМихаил Скобелев. Его жизнь, военная, административная и общественная деятельность
По несчастью, главная атака была направлена как раз против Скобелева.
По оставлении редутов Скобелев стал делать энергичные распоряжения, чтобы укрепить второй гребень Зеленых гор. Ему не было дано саперов, что значительно затруднило дело. К этому времени подошел почти истребленный при атаке так называемого Радищевского редута Шуйский полк, присланный наконец Зотовым в виде подкрепления, о чем сначала заявил ординарец великого князя.
– Поздно! – сквозь зубы проговорил Скобелев. – Двумя часами раньше мне нужно было только бригаду, теперь же этот полк может только прикрыть отступление. Да и что это за полк, когда в нем только 700 штыков! Это батальон, хотя и с тремя знаменами.
Прибытие даже самого слабого подкрепления оказалось кстати. Турецкая пехота продолжала наступление. По приказанию Скобелева войска наши молчали. Но вот он махнул рукой – и по всей линии открылся огонь батарей и ружей; в то же время две сотни казаков под предводительством самого Скобелева поскакали за турками и погнали их назад до оврага.
На следующий день наступление турок продолжалось. Скобелев отбросил неожиданною атакою неприятельскую цепь и башибузуков и остался на своей позиции. Несмотря на поражение, которое мы потерпели в боях 30 августа, упорная борьба Скобелева настолько расстроила турок, что если бы и после того были сделаны надлежащие распоряжения, не пришлось бы ждать прибытия Тотлебена для взятия Плевны голодом.
Дополним этот рассказ о “третьей Плевне” патетическим местом, находящимся в “Воспоминаниях” Верещагина.
31 августа Верещагин узнал от адъютанта главнокомандующего Дерфельдена, что один его брат ранен, другой – убит. Художник поспешил на левый фланг, чтобы просить Скобелева по возможности отыскать тело убитого брата. Когда Верещагин достиг Зеленых гор, он встретил князя Имеретинского и других генералов и офицеров. Увидев Верещагина, Скобелев, который тут же обедал, спросил его, зная, что художник пришел из главной квартиры:
– Ну что, сегодня намерены ли нам прислать подкрепление?
Верещагин ответил, что ничего не знает, не слышал и сомневается, чтобы прислали.
Тогда со Скобелевым, по словам Верещагина, случилось нечто невозможное: “Р-р-р…”
“Эти рыдания храброго генерала резанули меня, – говорит Верещагин, – как ножом. Если бы не моя собственная рана, я помчался бы к главнокомандующему, который, вероятно, не был вполне осведомлен о положении дел”.
Три с половиною месяца спустя, когда Плевна пала, Верещагин поехал со Скобелевым на панихиду, отслуженную в память защитников несчастного Скобелевского редута. Здесь Михаил Дмитриевич сообщил ему все, что пережил. Для облегчения штурма, для того, чтобы вскарабкаться на высоты, солдаты побросали шанцевый инструмент, и, когда потом пришлось рыть траншею, они пустили в ход штыки и свои пять пальцев! Конечно, таким образом нельзя было создать никакого прикрытия, а турки уже наступали и кололи штыками последнюю горсть храбрых. Указывая на этот маленький вырытый пальцами ров, Скобелев буквально заливался слезами и горько рыдал во все время панихиды. Многие из присутствовавших также зарыдали.
А между тем и до сих пор еще существует мнение, в свое время распространенное корреспондентами некоторых газет, будто Скобелев смотрел на солдат только как на пушечное мясо и будто только ради побед он не щадил человеческих жизней. О ком угодно можно сказать это – такие примеры бывали в турецкую войну, – только не о Скобелеве.
Глава IV
Плевненское сидение. – Тотлебен и Скобелев. – Падение Плевны. – Зимний переход через Балканы. – Имитли, Шейново, Шипка. – Набег на Адрианополь. – Конец воины. – Взгляд Скобелева на восточный вопрос. – Досуг и дело в мирное время
Важным источником для истории плевненского сидения в связи с биографией Скобелева являются коротенькие записки, оставленные Тотлебеном, которого вызвали с целью поправить ошибки неопытных полководцев.
Еще 12 сентября Тотлебен писал из Бухареста: “Завтра утром поеду с генералом Скобелевым в Зимницу, а послезавтра – в главную квартиру, в Горный Студень. Генерал Скобелев был болен, оставался несколько дней в Бухаресте. Я признаю нашу встречу здесь счастливою случайностью, так как он хорошо знаком с положением дел… Он сообщил мне много интересного. Скобелев говорит, что в армии ожидают меня с нетерпением”. 22 сентября Тотлебен находится уже в лагере при Плевне, в распоряжение его дают около ста тысяч пехоты и десять тысяч кавалерии, но не дают ему ни штаба, ни помощников. Тотлебен сам выбирает князя Имеретинского начальником штаба. О Гурко он пишет: “Гурко только сегодня приедет и должен еще ознакомиться с местностью”, – и затем замечает: “Знаменитый Скобелев также под моим начальством”.
Тотлебен стал главнокомандующим под Плевной, но не мог распоряжаться другими операциями. Тотлебен остался многим крайне недоволен, особенно интендантскою частью. Он осуждал также всякого рода штурмы. Штурм Плевны был, с его точки зрения, величайшей нелепостью, и даже действия под Горным Дубняком он считал “безрассудными”, говоря, что потери, понесенные в этом деле войсками Гурко, далеко не соответствовали достигнутым результатам, “хотя гвардейцы сражались подобно львам”. О средствах осады Тотлебен пишет: “У меня 30 осадных орудий, а надо 200!”
После “третьей Плевны” руководители наших военных операций решили, что успешный штурм невозможен; остановились поэтому на блокаде. Ввиду того, что Осман-паша все еще имел сообщение с Софией, прежде всего было решено взять Телиш и Горный Дубняк в тылу Плевны. Эти укрепления и были взяты гвардией, вызванной из России.

Генерал Тотлебен

Генерал Гурко
Взятие Горного Дубняка под командою Гурко было значительно облегчено ложною атакою, чрезвычайно искусно произведенною Скобелевым с помощью Куропаткина. Атака была ведена так, что турки приняли ее за настоящую, и Осман-паша не решился помочь горно-дубнякскому гарнизону. После взятия Горного Дубняка и Телиша Скобелев установил на Рыжей горе артиллерию и велел устраивать ложементы и траншеи, что и было исполнено несмотря на сильный огонь турок. Перед вечером 24 октября Скобелев с Куропаткиным, Дукмасовым и другими осматривал позиции. Турецкие гранаты взрывали подле него комья земли, но он продолжал свои объяснения.
30 октября Скобелев около полуночи двинул свои войска на турецкие траншеи. Турки, не ожидавшие ночного нападения, бежали в паническом страхе. Темнота была непроглядная. Между прочим произошел следующий эпизод, описанный Дукмасовым:
“В темноте Дукмасов вдруг увидел свет от маленького фонаря. Дукмасов указал дорогу. Переехали шоссе и спустились в долину, как вдруг увидели бегущих солдат.
– Это что такое?! – закричал Скобелев громким голосом. – Стой! Что за безобразие! Где офицер?
Подошел испуганный офицер и взял под козырек.
– Объясните, что это значит? – грозно обратился к нему Скобелев.
– Ваше превосходительство, турки открыли такой огонь и такую панику нагнали, что они побросали лопаты… Мы ничего не могли сделать! – смущенно докладывал офицер.
– Какой же вы офицер! У вас самолюбия никакого нет! Стыдитесь, молодой человек!
Пристыдив офицера, Скобелев велел собрать солдат и идти обратно в траншеи. Солдаты были сильно сконфужены.
– Смотрите, ребята, – сказал Скобелев, – вы должны загладить вашу страшную вину – иначе я не хочу вас знать, не хочу вами командовать! Будьте солдатами, а не бабами. Господа, пойдемте пешком в траншеи!
Слезли с коней. Шли по виноградникам, спотыкаясь. Наконец добрались до траншей, но они были пусты.
По дороге Скобелев все время шутил с Дукмасовым, говоря, что в такой темноте легко попасть к туркам и что турки их обоих посадят на кол”.
С тех пор до самого падения Плевны потекла скучная, монотонная жизнь в траншеях. Но именно в это время обнаружилась в полной мере удивительная заботливость Скобелева о солдате. До чего доходила эта заботливость, видно из того, что наряду с соображениями об укреплениях Скобелев обдумывал, где устроить отхожие места для солдат, которые по беспечности, выходя из траншей, попадали под пули. Сам Скобелев наравне с солдатами поселился в траншее, спал в ямке, наполненной соломой, и покрывался буркой. По словам Дукмасова, солдаты были, видимо, обрадованы, что Скобелев разделял с ними все невзгоды. Настроение его отряда было бодрое, почти веселое, насколько можно быть веселым в дождь и слякоть и под свист пуль и шипение гранат.
Об этом периоде боевой жизни Скобелева сохранились любопытные заметки Тотлебена. По нашему мнению, честь взятия Плевны принадлежит Скобелеву почти наравне с Тотлебеном. Сам Скобелев высоко ценил теоретические познания Тотлебена и его опытность, вынесенную из Севастопольской обороны. Наоборот, Тотлебен не мог не оценить военной гениальности Скобелева, соединенной с огромной начитанностью. По-видимому, эти два человека должны были сойтись, и действительно они дополняли друг друга; но различие натур было слишком велико для взаимной симпатии. Методичный немец, задавшийся целью выморить турок голодом, как сделали его соплеменники с французами во время осады Парижа, отъявленный враг штурмов и всяких смелых атак, и пылкий, страстный, нетерпеливый молодой русский генерал – может ли быть более полный контраст?
До битвы нашей гвардии с турками под Горным Дубняком между Скобелевым и Тотлебеном еще господствовало полное согласие. 5 октября Тотлебен писал: “Вчера был у генерала Скобелева и производил с ним в продолжение 6 часов рекогносцировку местности под Плевною”. День спустя Скобелев пишет князю Имеретинскому: “Мне известен план Его Высочества (главнокомандующего), и целью всех моих действий будет способствовать исполнению его в том виде, в котором его предначертал генерал-адъютант Тотлебен”. Однако чересчур выжидательные действия Тотлебена не могли удовлетворить Скобелева. В одном из писем он называет Тотлебена первостепенным авторитетом, но тут же выражает свое несогласие с ним. Скобелев, в свою очередь, стоит за постепенность и осторожность в действиях, но не доходит до тех крайностей выжидания, к которым способна лишь терпеливая немецкая натура и которые не соответствуют духу русского воина, от генерала до солдата. Он предлагает энергичные меры и иногда изумляет Тотлебена неожиданным устройством траншей или внезапной, смелой атакой. Тотлебен едва успевает запретить ему повторение подобных нападений. Получив начальство над 16-й дивизией, которая приобрела имя Скобелевской, Михаил Дмитриевич искусно приближается к неприятелю, роясь, как крот, на Зеленых горах, и 6 ноября получает впервые в траншеях две контузии – одну сильную осколком гранаты. Целый день пролежал Скобелев в полусознательном состоянии. По мнению д-ра Алышевского (пользовавшего Скобелева в последнее время его жизни в Петербурге), эта контузия положила начало болезни сердца и имела некоторое отношение к внезапной смерти Скобелева.
Об этих событиях Тотлебен пишет настолько характеристично, что не мешает привести его показания целиком:
“Я приказал, – говорит Тотлебен, – занять первый гребень Зеленых гор. Отрядом командует генерал Скобелев, герой, какого редко встретить, mais un homme sans foi, ni loi (но человек без веры и закона)”.
Здесь невольно является вопрос, чем обусловливается такой резкий приговор Тотлебена над человеком, которому он же удивлялся во многих отношениях? Кроме несходства натур, тут могла быть и другая причина: Скобелев не особенно охотно выполнял некоторые распоряжения Тотлебена и часто действовал по своему усмотрению. Удивляться тут нечему, так как сам Скобелев сплошь и рядом предоставлял своим подчиненным такую же самостоятельность, если только знал, что имеет дело с людьми, на которых можно положиться. Далее Тотлебен повествует:
“Пункт этот очень важен для турок. Они оказали упорное сопротивление… Пули, казалось, выбрасывались машинами. Несмотря на это гребень занят и укреплен. Турки также укрепились в двухстах шагах и несколько раз были выбиты штыками… Скобелев дважды контужен и должен полежать… Я положительно воздерживаюсь от штурма. Голод принудит к сдаче. Надо иметь терпение, как в германской армии под Мецом и Парижем”.
Едва оправившись от контузии, Скобелев участвовал в окончательной развязке плевненского сидения. С половины ноября положение турок в Плевне стало критическим. Сообщение было для них всюду отрезано, продовольствие и фураж истощились, санитарные условия были ужасны. 19 ноября Осман-паша собрал военный совет и предложил вопрос: сдаться или пробиться? Единогласный ответ был – пробиться.
27 ноября Скобелев лично привел к Тотлебену перебежчиков, сообщивших сведения о приготовлениях Османа-паши к последней отчаянной вылазке. В штабе закипела работа.
На следующий день Скобелев занял оставленные турками Крышинские редуты; это позволило Тотлебену приказать всем войскам на правом берегу реки Вид перейти в наступление. Между тем уже слышалась перестрелка Османа-паши с отрядом Ганецкого.
Занятие Крышинских редутов было делом личной инициативы Скобелева на основании сведений, добытых в то время подполковником Куропаткиным с помощью перебежчиков и охотников; оно в высшей степени облегчило задачу Тотлебена. Что касается бомбардировки, которой приписывали большое значение, она была неудачной: по взятии Плевны оказалось, что наши снаряды почти не разрывались.
Окончательно ослабленная армия Османа-паши была отброшена за реку Вид, сам Осман-паша ранен и сдался со своей армией.
По признанию почти всех наших и европейских авторитетов, взятие Плевны решило участь кампании. Так, конечно, думал и Тотлебен, но тем не менее он продолжал требовать методической войны! Если бы этому совету последовали и вздумали, как требовал Тотлебен, осаждать. Рушук, то война, вероятно, затянулась бы года на два, а на самом деле в короткое время последовал ряд наших удач на Шипке, в Адрианополе и почти у ворот Константинополя.
Не мешает заметить, что Тотлебен с начала до конца не сочувствовал самой воине, считая ее бесцельной. В этом отношении он стоял совершенно на точке зрения тогдашней либеральной русской печати с “Голосом” и “Вестником Европы” во главе. Вот что писал Тотлебен тотчас вслед за падением Плевны:
“Мы вовлечены в войну мечтаниями наших панславистов и интригами англичан. Освобождение христиан – химера. Болгары живут здесь зажиточнее и счастливее, чем наши русские крестьяне. Их задушевное желание – чтобы их освободители по возможности скорее покинули страну”.
Этим окончательно дополняется контраст со Скобелевым, который боролся за идею, вполне разделяя по славянскому вопросу мысли и чувства Ивана Аксакова. Относительно недружелюбных чувств к нам болгар он нисколько не заблуждался, но прощал их. Один из сподвижников Скобелева, описывая враждебное настроение населения Ловчи после ее второго занятия нашими войсками, прямо говорит, что ни Скобелев, ни его подчиненные не винили болгар, отлично понимая, что они потерпели вдвойне: и от турецких пашей, и от самой войны, начатой за их освобождение, особенно потому, что она велась с переменным успехом.
Сухие, но документальные записки Тотлебена прекрасно дополняются наивным рассказом ординарца Скобелева, Дукмасова. Он трогательно описывает тяжелую жизнь в траншеях и те развлечения, которые порою устраивал Скобелев солдатам, то заставляя музыкантов играть веселую музыку, то устраивая иллюминации. Одна из таких иллюминаций была придумана им не только для потехи. В лагерь Скобелева пришла весть о наших успехах на азиатском театре войны и о взятии Карса. Скобелев тотчас оценил значение этого события и для нас, и для турок. Зная, что Осман-паша отрезан от всего мира, Скобелев вздумал поделиться с турками этою новостью с целью окончательно обескуражить защитников Плевны. Он приказал сделать огромный транспарант из сшитых попон, посередине которого вырезано было по-турецки два слова: “Карс взят”. Вечером транспарант этот был выставлен в передовой траншее и освещен тридцатью фонарями. Картина получилась эффектная. Даже выстрелы со стороны турок прекратились – турки любовались иллюминацией. Но вдруг, разобрав в чем дело, они открыли ожесточенный ружейный и даже артиллерийский огонь. Впоследствии оказалось, что турки действительно сильно пали духом от этого известия.

Карта Кавказа и театра войны с Турцией в 1877-78 гг.

М. Т. Лорис-Меликов
По поводу контузий, полученных Скобелевым, Дукмасов сообщает любопытные подробности относительно суеверия Скобелева, его известного пристрастия к белому цвету и антипатии к черному. Раз при обходе траншей Скобелев обратился к офицерам:
– А меня, господа, можете поздравить с обновкой: отец прислал мне прекрасный полушубок с наставлением, чтобы я непременно носил его. Но мне что-то он не нравится, главное потому, что черный…
Как нарочно, через несколько дней после этого он был контужен пулей, впрочем слегка.
Скобелев так часто становился на банкет, что Куропаткин наконец подговорил офицеров устроить так, чтобы генерал перестал рисковать жизнью. По уговору, как только Скобелев со дна рва поднялся на банкет, все тотчас же влезли туда. Скобелев удивленно посмотрел на офицеров и, не говоря ни слова, слез с банкета. Через несколько шагов он не выдержал, опять взобрался и стал смотреть. Все делают то же.
– Да чего вы торчите здесь? Сойдите вниз! – недовольным голосом сказал Скобелев.
— Мы обязаны брать пример с начальства, – иронически заметил Куропаткин.
Это повлияло. Скобелев молча пожал плечами, соскочил в ров и пошел дальше.
Вторая контузия в спину была значительно серьезнее. Когда Скобелев лежал больной в болгарской хате, трудно было удержать посетителей, ежеминутно его навещавших. Несмотря на сильные страдания, Скобелев все время шутил, полусерьезно обвиняя во всем зловещий полушубок. В числе посетителей были и великий князь, главнокомандующий, и отец Скобелева.

Великий князь Николай Николаевич
Михаил Дмитриевич воспользовался, по его собственным словам, “размягчением родительского сердца” и взял слово с “папаши”, что последний непременно пришлет для всей его дивизии десять тысяч полушубков.
– Ты запиши за мной, – сказал он отцу, – а потом я тебе возвращу эти деньги.
Скобелев потом лукаво признавался, что и не подумает возвратить, и говорил: “Да у него денег тьма-тьмущая, на что ему? У него только трудно выпросить. Вот, значит, и контузия не прошла без пользы”.
Действительно, полушубки были получены и розданы солдатам к их великому удовольствию.
Несмотря на контузию, Скобелев фактически продолжал распоряжаться всеми делами своего отряда. Здоровье Скобелева быстро поправлялось: через неделю он снова сидел на своем боевом коне. Популярность его росла с каждым днем; о нем уже слагались легенды, что он заколдованный, что от него отскакивают пули. Любопытно, что это рассказывали и этому верили солдаты его же отряда, видевшие его больным от контузии.
Случались и комические эпизоды, из которых один был вызван нелюбовью Скобелева к немцам; этой антипатии Скобелев как человек прямой никогда не скрывал даже перед высокопоставленными лицами. Приехал какой-то немецкий принц, прося показать ему укрепления на Зеленых горах. Скобелев согласился, но попросил Дукмасова “показать так, что у них (то есть немцев) не явится более охоты осматривать”. Дукмасов исполнил добросовестно это приказание, и бедный принц был рад, что ушел живой.
Не менее курьезны были сцены с денщиками Скобелева и с его поваром. Как бы для контраста с собою Скобелев выбрал в денщики великого труса, который страшно кривлялся, слыша свист пуль, что крайне потешало Скобелева. Повар у него был, конечно, француз, постоянно жаловавшийся, что пули пробивают у него кастрюли, и заявлявший: “Je suis citoyen, mais pas soldat” (“Я – гражданин, а не воин”). Однажды Скобелев, наскучив жалобами, хотел его выгнать, но по чьему-то совету дал “храброму гражданину” бутылку красного вина, и тот сейчас же успокоился.
После взятия Плевны комендантом ее был назначен Скобелев, который пригласил к себе в Брестовац начальника штаба Османа, Тевфика-пашу, довольно хорошо говорившего по-французски. Из разговоров Тевфика как нельзя лучше выяснилось, что взятые Скобелевым редуты были самые важные.
Скобелев употребил энергичные усилия, чтобы скорее освободить город от трупов, перевезти больных и раненых, очистить дома, представлявшие настоящие клоаки. Сотни каруц (телег) то и дело разъезжали по городу и нагружались трупами. Все это вывозилось за город и зарывалось в глубокие ямы. Скобелев оказался искусным администратором. Он лично осматривал все, по целым дням разъезжая верхом по городу. Комендантская обязанность, однако, тяготила его. Скобелева тянуло снова в бой, на Шипку, где Радецкий был осажден турками почти так же, как турки – нашими войсками в Плевне. Скобелев постоянно созывал командиров, от полковых до ротных, заботясь о снабжении людей всем необходимым для предстоящего зимнего похода через Балканы, причем обращал внимание на кажущиеся мелочи, вроде состояния солдатской обуви, чрезвычайно важные в походе.
Взятою в плен армией Османа распоряжался отец Скобелева.
5 декабря выпал первый снег. В этот день Михаил Дмитриевич уехал в главную квартиру и вернулся довольный и счастливый.
– Ну, господа, – сказал он, – привез радостные вести: послезавтра выступаем на Шипку.
В штабе закипела работа, в полках энергично готовились. Люди Скобелева были отлично снабжены, особенно по сравнению с другими дивизиями, не считая гвардейцев. Полушубки, даже табак и чай были в изобилии, а в других дивизиях даже офицеры часто вовсе не имели теплой одежды!
Скобелев был необычайно весел. “Слава Богу, мы покидаем эту проклятую Плевну”, – говорил он. Только проезжая мимо редутов своего полка, он снял шапку, перекрестился и прослезился.
Скобелев был прав, спеша на выручку отряду Радецкого, осажденному турками на Шипке. Положение этого отряда становилось в полном смысле слова критическим, несмотря на неудачные действия Сулеймана-паши, который дробил свои силы, то бросаясь на выручку Плевны, то атакуя тот или другой из наших отрядов.
5 декабря на Шипке начались сильные морозы с метелями. 13 декабря было уже больных 90 офицеров и 8968 нижних чинов. Полковник Духонин пишет: “Солдат изображает сплошную ледяную кору; башлыков развязать нельзя”. 17 декабря поднялся страшный ураган, чуть не погубивший все. Радецкий, все еще крепившийся, теперь сам отдает Скобелеву приказ выступить из Сельви. Скобелев отлично подготовил свой отряд к трудному походу и сравнительно легко перешел Балканы, занял Иметли и укрепился (20 декабря).

Генерал-адъютант Ф. Ф. Радецкий
23 декабря Скобелев, снесшись с Радецким, движется на селение Шипку. Инициатива атаки с фланга и с тыла была вполне предоставлена Скобелеву. Одновременно с его отрядом выступил и Святополк-Мирский; путь его был значительно легче, а потому он опередил Скобелева.
26 декабря Скобелев послал донесение: “Завтра атакую Шипку с теми силами, которые могу собрать. Если бы Мирский атаковал раньше, то поддержу его всеми силами”.
Мирский действительно начал атаку раньше Скобелева. Скобелев, не имея телеграфных сношений с Мирским, ничего не знал, что тот делает. Мирский тревожится, доносит, что не может более держаться, и, в свою очередь, ничего не знает о Скобелеве. Конечно, телеграф можно было бы заменить сигналами, но – увы! – ни Мирский, ни Скобелев не могли добиться, чтобы им дали гелиографы, лежавшие где-то в складах!
Как только началась атака Мирского, Радецкий решил ударить туркам во фронт. Атака эта могла бы иметь гибельные последствия для изнемогшего отряда, если бы наконец не подоспели войска Скобелева, атаковавшие шейновский лагерь в 11 часов утра 28 числа. Эта атака была необычайно стремительна и настолько решительна, что и Мирский, и Радецкий тотчас почувствовали значительное облегчение, так как главные силы турок перешли от наступления к обороне. В короткое время участь турецкого отряда была решена, и на кургане появился белый флаг. Начальник турецкой армии Вессель-паша сдался в плен Скобелеву. В этом сражении были взяты в плен 41 табор турецкой пехоты и 93 орудия. Общая потеря с нашей стороны превысила 5 тысяч человек, в том числе отряд Скобелева потерял менее полутора тысяч.