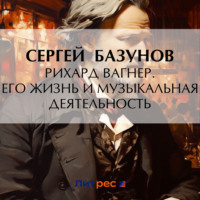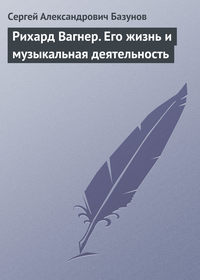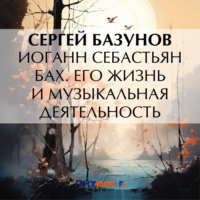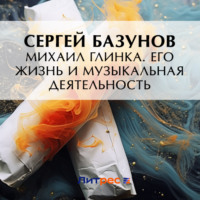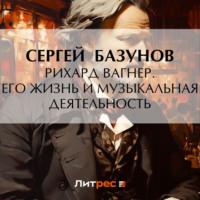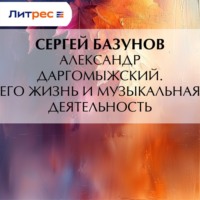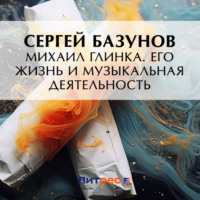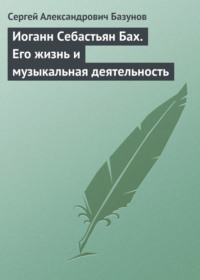полная версия
полная версияАлександр Даргомыжский. Его жизнь и музыкальная деятельность
«В субботу, – говорилось там, – в зале общества „La grande Harmonie“ происходило одно из интереснейших музыкальных собраний. Со всегдашнею своею благосклонностью к крупным артистам, г-н Гансенс посвятил всю репетицию 2-го концерта ассоциации музыкантов исполнению сочинений г-на Александра Даргомыжского, единственного нынче представителя русской музыки. Успех г-на Даргомыжского был очень велик, и брюссельской публике предстоит удовольствие слышать в концерте 7 января его музыку, запечатленную столько же изящным, как и оригинальным характером».
7 января 1865 года состоялся наконец и самый концерт, в котором музыка Даргомыжского должна была впервые явиться перед судом уже не артистов только, а всей публики Брюсселя. Опять композитором овладело некоторое беспокойство, и неуверенность его, казалось, имела теперь действительные основания; вполне довольный музыкальным миром Бельгии, композитор не особенно надеялся собственно на публику, вспоминая, вероятно, свои петербургские впечатления и опасаясь, что публика везде одна и та же. Но на деле оказалось не совсем так. Брюссельская публика приняла увертюру «Русалки», по собственному мнению Даргомыжского, «прилично» и затем «заревела» от его «Казачка». «Огромная зала, – рассказывает композитор, – была набита битком. Я сидел в галерее, сбоку… По окончании концерта стали меня вызывать. Я не знал, куда деться. Шум страшный, потому что здесь и оркестр аплодирует и вызывает наравне с публикою. Я стал пробираться в тесноте через всю залу, уж сколько переломал кринолинов – и счету нет. Конфузно ужасно: все смотрят в рожу. Только и слышишь: „Tiens, l’auteur est ici! Ah, le voilà!.. Ah, il est à Bruxelles! Tiens, il est russe!?“ (Вот как, автор здесь! А, вот он!.. А, он в Брюсселе! Вот как, он русский!?) То есть ни одного медведя так собаками не травили! Далее обступили меня – приглашают к себе… Возвращаюсь назад, та же потеха!..» (Из письма к С. С. Степановой от 27 декабря 1864 года старого стиля).
Успех Даргомыжского в этом концерте вполне походил на какой-то своеобразный триумф. Не привыкший к таким горячим и шумным выражениям восторга, наш музыкант чувствовал себя как бы ошеломленным и поспешил убежать из залы. Но овации преследовали его и далее. При разборе платья взволнованный композитор поспешно сунул кому следовало свой номерок, однако увидел, что придется подождать, потому что перед ним стояла целая группа лиц, предъявивших свои номерки раньше. Но едва Даргомыжский был замечен, как толпа расступилась, давая ему дорогу и говоря женщине, раздававшей платье: «Servez monsieur! Servez monsieur avant nous!..» [15]. Композитор едва выбрался на улицу, а наутро даже отельный слуга уже знал, что «monsieur est un homme de talent» [16], – так быстро распространились слухи о русском композиторе, виновнике вчерашнего торжества.
О концерте 7 января отозвались уже не только бельгийские, но также некоторые парижские газеты. Из брюссельских же газет выдавался отзыв серьезной «Indépendance Belge». Вот что писалось там о концерте:
«Второй концерт ассоциации брюссельских музыкантов доставил любителям редкий случай оценить достоинство одного русского композитора. Г-н Александр Даргомыжский, очень известный петербургскому музыкальному миру, представил в первый раз свои сочинения на суд брюссельской публики. Исполняли одну увертюру для большого оркестра и фантазию на казацкую танцевальную тему, также для оркестра. Если г-н Даргомыжский аматер[17] по своему положению, то он в то же время художник по своему таланту. Оба сочинения, только что прослушанные и проаплодированные посетителями концертов ассоциации, обличают полное знание технических средств и в то же время доказывают творческую способность совершенно необычайную. План увертюры намечен хорошо; идеи развиваются здесь ясно и естественно; инструментовка блестяща, без злоупотребления звуковыми средствами. Фантазия на казацкую тему элегантна и очень оригинальна. После этой пьесы г-н Даргомыжский был вызван оркестром и публикой. Значит, мы заявляем здесь об истинном успехе».
Другие газеты также отозвались о концерте с похвалою и отмечали в музыке Даргомыжского «удачную и мастерскую инструментовку, отсутствие претензии и капризной изысканности в развитии мелодических мотивов» и проч., прибавляя, что «теперь с севера идет к нам свет». О «Казачке» говорили, что он отличается «огнем и оригинальностью фактуры, а также оркестровыми подробностями увлекательной живости», и проч.
Таким образом, наш композитор быстро становился знаменитостью Брюсселя. Поистине, здешние впечатления его были приятным контрастом сравнительно со всем тем, чего он натерпелся у себя на родине! На нем с буквальною верностью оправдывалось известное изречение о пророке в своем отечестве. И, вспоминая теперь о своих петербургских недругах, он готовил им маленькое отмщение. Отмщение это, впрочем совершенно невинное, состояло в том, что он собирал наиболее выдающиеся отзывы о себе иностранной прессы и, пересылая их сестре С. С. Степановой, просил распространить их по возможности в русских газетах.
«Я думаю, – писал он г-же Степановой, – что ты удивляешься моему внезапному желанию гоняться за журнальной славой? Ничего не бывало; я менее чем когда-нибудь расположен искать известности в России, но признаюсь, что мне доставляет самое приятное развлечение и услаждение пошиканировать[18] петербургских свиней, которые столько лет хрюкали около меня – и на сцене, и в гостиных, и в журналах. Вот тебе вся разгадка…» (Из письма от 6 января 1865 года).
Тем временем брюссельские успехи Даргомыжского продолжались. Он принужден был постоянно посещать разные музыкальные собрания, концерты и проч., а также начинал бывать и в обществе, приглашаемый и всюду встречаемый как самый желанный и почетный гость. Капельмейстер Гансенс сближался с ним все больше и больше и говорил: «Si j’étais rentier, j’irais voyager avec vous. J’aurais dirigé vos compositions et vous auriez dirigé les miennes» (Если бы я был капиталистом, я поехал бы путешествовать с вами. Я дирижировал бы ваши сочинения, а вы – мои). Он стал даже поговаривать о желательности поставить в Брюсселе какое-нибудь из оперных произведений Даргомыжского. «Русалку» сам Даргомыжский не считал для этой цели особенно удобною как вещь, слишком рассчитанную на национальное понимание, и друзья остановились было на мысли поставить на брюссельской сцене «Торжество Вакха». Однако именно тогда директор театра, на который они рассчитывали, был в отъезде, а вскоре и самому Даргомыжскому пришло время уехать из Брюсселя, и таким образом замысел этот остался неосуществленным… Чтобы дать, однако, бельгийской публике возможность ближе познакомиться со своей музыкой, композитор занимался переводом на французский язык некоторых из своих романсов; он сообщает, что особенный эффект производила в публике его известная песня «Ванька-Танька»; публика имела тут действительно недурной образчик обработки комической темы…
Следуя затем своему заранее составленному путевому маршруту, Даргомыжский распрощался с радушным артистическим миром и обществом Брюсселя и в феврале 1865 года переехал в Париж. Но в эту поездку столица Франции произвела на него не особенно выгодное впечатление. Искусство французское, по замечанию его, в то время находилось в упадке, доступ в театры был довольно труден, знакомств в артистическом мире он не искал и не заводил, будучи, по-видимому, удовлетворен своими брюссельскими успехами. Таким образом, время его в Париже проходило довольно монотонно, и в середине февраля 1865 года он писал сестре следующие строки: «Я бы решительно соскучился в Париже, если бы не было у меня двух русских домов, где я по большей части провожу вечера…»
Съездив затем, как и в первое свое путешествие, на несколько дней в Лондон, он стал собираться домой и в начале мая 1865 года был уже на обратном пути в Россию.
Глава VII. «Каменный гость»
Общий характер музыкальных произведений Даргомыжского за 1856 – 66 годы. – Проект оперы «Рогдана», романсы, инструментальные произведения. – Опера «Каменный гость». – Речитативы этой оперы. – Общее ее значение.
Рассматривая в предыдущей главе тягостный период жизни нашего композитора, последовавший за окончанием и постановкой на сцене «Русалки», мы закончили рассказ о нем, по контрасту, описанием блестящих успехов музыки Даргомыжского за границею. И как 20 лет назад заграничные успехи отозвались для Даргомыжского благоприятно и в России, так же точно и теперь, почти вслед за возвращением композитора, так блестяще принятого и так высоко оцененного за границею, совершился в общественном мнении тот поворот, о котором мы упоминали раньше и в силу которого «Русалка» вдруг стала одною из излюбленных опер петербургской сцены. Что в самом деле лежало в основе этого нового «переворота», заграничная ли рекомендация, как прежде предполагал Даргомыжский, или просто всесильное время, – решить, конечно, трудно. Достоверно лишь то, что к 1866 году переворот этот действительно совершился, «Русалка» была оценена по достоинству и русская школа получила наконец права гражданства. Так логически завершался тяжелый период десятилетних ожиданий нашего композитора, описанный в предшествующей главе.
Но история этого периода была бы внутренно неполна, если бы мы умолчали о движении творчества и таланта композитора за это время. В эти 10 лет творческая мысль его, конечно, не бездействовала и шаг за шагом вела его к тому последнему из крупных произведений, которым он завершил свою художественную деятельность, – к опере «Каменный гость». Здесь мы постараемся выяснить значение этого последнего произведения Даргомыжского, но сначала скажем несколько слов о работах, предшествовавших «Каменному гостю» и относящихся ко времени 1856-66 годов.
Прежде всего: каковы были общий характер, общее направление этих произведений? Само время их появления, между «Русалкою» и «Каменным гостем», указывает и их характер, и их направление. Та «правда» и та «реальность изображения», к которым стремился композитор в опере «Русалка», были 10 лет спустя воплощены в опере «Каменный гость» уже не как стремление, а как строжайшая система, проведенная неумолимо, без всяких компромиссов и уступок, и составляющая единственную и исключительную задачу всего произведения. Оба эти пункта, исходный – «Русалка» и конечный – «Каменный гость», определили и характер промежуточных работ. Все они отличаются тем же тяготением к правде, намеченной в «Русалке» и систематически воплощенной в «Каменном госте». Упомянем же некоторые важнейшие из этих промежуточных сочинений.
В начале шестидесятых годов Даргомыжский задумал волшебную оперу «Рогдана», по обстоятельствам не получившую, однако, осуществления. Написано было лишь несколько номеров, и затем проект был оставлен. Но о направлении оперы можно судить по тем двум хорам оттуда, которые нам известны (хор дев над спящей Рогданой и хор восточных отшельников). Они остаются яркими образцами именно указанного реального направления музыки.
Тем же духом реальной правды отмечены и несколько прекрасных романсов, которые относятся к этому времени. Некоторые из них отличаются глубоким драматизмом и страстью, возвышающеюся до степени истинно художественного пафоса (например «Старый капрал», «Паладин»), в других особенно замечательна их восточная окраска. Эта окраска, столь свойственная произведениям Глинки, у Даргомыжского является, однако, совершенно оригинальною и самостоятельною (например романс «О, дева роза»).
Далее следуют романсы комического характера. Мы уже говорили о специальной способности Даргомыжского именно к элементам комическим, – способности, не только отличающей его от Глинки, но и прямо выделяющей из среды всех русских композиторов. Не оставив нам комической оперы, он проявил эту особенность своего таланта в целом ряде комических романсов-сцен, каковы, например, «Червяк», «Титулярный советник», «Как пришел муж из-под горок», «Мчит меня в твои объятья». Общею серьезною основой этих комических произведений является очевидная цель их: изображение все той же действительности и жизненной правды, – цель всех произведений, всего творчества Даргомыжского со времени «Русалки».
Из числа инструментальных произведении этого периода нужно упомянуть известного «Казачка», который, как мы видели, производил такое сильное впечатление за границею, затем «Чухонскую фантазию» и «Бабу Ягу» – все произведения юмористического характера, «самобытные русские скерцо, составляющие pendant[19] к „Камаринской“ Глинки», как отзывается о них В. В. Стасов.
Таковы важнейшие произведения того десятилетнего периода, который начался написанием «Русалки» и завершился созданием оперы «Каменный гость». Перейдем же теперь к этому последнему произведению нашего композитора.
«Опера эта, – говорит В. В. Стасов, – есть то создание, которое дает Даргомыжскому бессмертие и навсегда делает его равным творцу „Руслана“.» В других местах тот же критик называет «Каменного гостя» «одним из гениальнейших созданий мира» и «гениальным краеугольным камнем грядущего нового периода музыкальной драмы». Оставляя такую цельность и безусловный характер приговора на ответственности цитируемого автора, постараемся прежде всего выяснить сущность и главные особенности этой действительно и во всех отношениях исключительной оперы. Тогда нам, может быть, легче будет определить и общее значение ее. Начнем небольшой исторической справкой о формах речитатива в оперной музыке.
В прежнее время, то есть до реформы Глюка, речитативы в опере не имели никакого самостоятельного музыкального значения. Опера состояла из отдельных музыкальных номеров: арий-соло, ансамблей двух, трех, четырех голосов, наконец, хоров, – которые нужно было чем-нибудь связать. Этим-то связующим элементом и были тогдашние речитативы, представлявшие из себя сухие и, в сущности, совсем прозаические разговоры, сопровождаемые для чего-то кое-каким музыкальным аккомпанементом. Глюк первый попытался ввести эти прозаические части оперы в круг музыкальных ее элементов, сделав их певучими и преследуя в них самостоятельные музыкально-поэтические цели. Русская же школа в лице Даргомыжского, приняв в свои руки эту реформу Глюка, пошла далее и успела разработать музыкальную речь речитативов, музыкальную декламацию до степени полного совершенства. Речитативы у Даргомыжского, совсем утратив свой первоначальный служебный характер, становятся самостоятельными и важными музыкальными элементами, задача которых – художественное воспроизведение средствами музыки человеческой речи со всеми ее оттенками и изгибами, со всеми ее бесчисленными и столь трудно уловимыми особенностями. Так трактуемая, музыкальная речь становится превосходным и могучим средством для самой реальной драматической характеристики действующих лиц и их настроений, а также движения и изменения этих настроений, со всеми детальными тонкостями, даже слову не всегда доступными… Таково значение новейших речитативов, значение музыкальной декламации, доведенной до крайней степени своей художественной разработанности, какою мы находим ее у Даргомыжского.
Чтобы понять теперь главные особенности и сущность оперы «Каменный гость», достаточно сказать, что вся опера состоит единственно и исключительно из речитативов, из декламации, положенной на музыку. В ней нет никаких арий, никаких ансамблей и никаких хоров. Вся задача и вокальной, и инструментальной музыки сведена тут к единственной цели – музыкальному изображению, музыкальной передаче человеческой речи, составляющей содержание текста.
Надо сказать, что такое предприятие, как опера «Каменный гость», представляется в истории оперной музыки делом вполне небывалым и единственным. Конечно, и сам композитор очень ясно сознавал всю исключительность, всю небывалость предпринятой в 1866 году работы и тогда же (17 июля) писал Л. И. Кармалиной: «Я не совсем еще расстался с музой… Пробую дело небывалое: пишу музыку на сцены „Каменного гостя“ так, как они есть, не изменяя ни одного слова. Конечно, никто не станет этого слушать. Но чем же я-то хуже других? Для меня недурно». В другом письме к тому же лицу (от 9 апреля 1868 года) композитор сообщает о том, что опера его близится к окончанию, и говорит: «Вы поймете, что это за труд, когда узнаете, что я пишу музыку на текст Пушкина, не изменяя и не прибавляя ни одного слова. Конечно, это произведение будет не для многих…»
Итак, говорить об опере Даргомыжского «Каменный гость» – значит говорить только о речитативах оперы. В ней решительно отброшены в сторону все условные и формальные элементы оперного жанра и даже все самостоятельные задачи музыки, если только они не связаны с задачами текста и ими не вызываются. На вопрос же, каковы с художественной точки зрения сами эти речитативы, мы, собственно, уже ответили выше, говоря о свойствах и особенностях новейших речитативов. Их, без сомнения, можно вполне отождествить с речитативами Даргомыжского, ибо в этой области, бесспорно, никто ни раньше, ни позже не пошел дальше нашего композитора. Повторяя наше собственное выражение, мы опять должны сказать, что музыкальная декламация «Каменного гостя» разработана буквально до степени совершенства, дальше которого, по-видимому, и идти некуда. В этой опере музыкальная речь Даргомыжского так гибка и так богата средствами выражения, что в совершенстве справляется решительно со всяким поэтическим содержанием слова. Нежность, любовь, страсть, страх, самый тонкий психологический анализ, мотивы комизма – все удается ему, все передано средствами музыки в такой точной близости к тексту Пушкина, что можно сказать без всякой натяжки: «Каменный гость» Даргомыжского есть самый точный перевод произведения Пушкина с одного поэтического языка на другой. И по своим художественным достоинствам этот перевод Даргомыжского ни в чем не уступает оригиналу Пушкина. А этим, кажется, все сказано!..
Таково общее впечатление от музыки оперы «Каменный гость». О тексте же говорить не приходится, потому что, как сказано, Даргомыжский воспользовался здесь текстом Пушкина дословно, ничего от себя не прибавляя и не убавляя. Мы не будем также останавливаться на отдельных местах музыки, за исключением, пожалуй, одного, особенно великолепного. Пусть читатель припомнит известную сцену на кладбище, где мотив ужаса разработан с таким поразительным совершенством, что повергает в изумление даже принципиальных противников реального направления в музыке. Возьмем отзыв об этой сцене именно у одного из таких принципиальных противников реализма – Г. А. Лароша. Говоря о сцене на кладбище, он находит, что задача этой сцены – выразить ужас, овладевший человеком при виде мраморной статуи, кивающей головою, – осуществлена очень удачно, хотя тут же критик и оговаривается, что сцена эта будто бы и «вычурна», и «болезненна до крайности» (?). В этой сцене «заключена своеобразная сила, и ощущение ужаса, оковавшего Лепорелло и Дон Жуана, невольно передается слушателю». «Технический прием, – продолжает Ларош, – употребленный здесь Даргомыжским, не нов; это гамма из целых тонов… но форма, в которой эта гамма употреблена здесь, оригинальна и смела, а местами даже выказывает руку искусного контрапунктиста… В варьяциях на основной мотив, взятый из этой гаммы, соблюдена искусная постепенность: самая мощная, тяжеловесно-грандиозная гармония прибережена к концу: ее играет один оркестр при падении занавеса», и проч. «Непосредственное действие» этой сцены критик признает в заключение «сильным и неоспоримым». Надо прибавить, что эта замечательная гамма, о которой Ларош говорит так сдержанно, в отзыве, например, Стасова называется «ужасающей, громовой» гаммой и производит на слушателя действительно потрясающее впечатление…
Тот же Ларош, резюмируя свои замечания об опере «Каменный гость», находит, что, «несмотря на все свои крайности и странности», опера эта есть произведение «даровитое, остроумное и вдохновенное». Мы не без умысла приводим этот заключительный приговор одного из противников направления, отразившегося в опере «Каменный гость». Характерна именно эта двойственность приговора; она указывает на то двойственное впечатление, которое производила и производит опера, она указывает на возможность возражений и оппозиции, какие это произведение вызвало тотчас после своего появления. Эти возражения необходимо также иметь в виду, чтобы составить себе вполне правильное понятие о значении разбираемой оперы.
Задача, которую себе поставил композитор: передать с возможной точностью текст Пушкина, – эта задача исполнена вполне блистательно; реальность изображения – безусловна, и речитативы, из которых состоит все произведение, – совершенны. Но далее возникает вопрос: зачем вся опера состоит только из одних речитативов? Зачем композитор так произвольно ограничил средства оперной музыки одними формами речитатива? Вот на эти-то вопросы мы и не находим достаточно обоснованного ответа и должны прийти к заключению, что ограничение это произвольно и не вызывается теоретической необходимостью. Музыка в опере может достигать тех же целей реального изображения, и не ограничивая всех своих средств одними лишь речитативами. Правда, защитники крайнего реализма возражают тут, что всякого рода арии, ансамбли и даже хоры представляются в самом существе своем явлением совсем не реальным. Но на это можно заметить, что с точки зрения самой строгой прозаической естественности и сами речитативы представляются явлением нереальным, ибо в действительной жизни люди, без сомнения, не ведут разговоров посредством пения. Но, предъявляя такую крайнюю требовательность, мы должны будем отвергнуть всю оперную музыку, а за нею и всю стихотворную поэзию, ибо, говоря абсолютно, и она недостаточно реальна, недостаточно естественна. Дело, однако, в том, что такая непомерная требовательность является ненужною крайностью. Искусство имеет свои права, как в свое время заметил еще Гете. Свои права имеет и стихотворная поэтическая форма, а в оперной музыке, кроме речитативов, – и хоры, и арии, и даже ансамбли. Свои законные права имеет в искусстве вообще известная степень условности. Переходя же к нашему частному вопросу, надо признать, что автор «Каменного гостя» мог так же или почти так же реально воссоздать произведение Пушкина, и не замыкаясь в сфере одних только речитативных форм, не отвергая других форм оперной музыки, также законных. Важно лишь, чтобы все эти формы употреблялись умело, в соответствии с духом и смыслом источника, хотя бы для музыкальных целей и пришлось соответственно изменить основной текст. Излишнее стремление к буквальному сохранению текста при музыкальном его воспроизведении также не имело никаких достаточных оснований, не вызывалось никакою художественною надобностью… И кто же лучше Даргомыжского сумел бы выдержать это реальное соответствие музыки с текстом, целесообразно сохраненным? Не дает ли нам самых блистательных доказательств такого гениального уменья хотя бы опера «Русалка»?
Мы не можем вдаваться здесь в более подробный разбор теоретических споров, которые в свое время велись между представителями реального направления в музыке и их противниками; в нашем изложении лишь кратко намечены важнейшие возражения крайнему музыкальному реализму. Подводя же итоги всем соображениям, какие вызывает произведение Даргомыжского, мы закончим наши отзывы о «Каменном госте» следующими общими выводами. В пределах задачи, какую композитор себе поставил в этой опере: воспроизвести музыкально весь текст Пушкина – цель его достигнута неслыханно блестящим образом. Замкнувшись в сфере одних только речитативов, он произвольно и напрасно ограничил средства оперной музыки, но и при этих ограниченных средствах силою своего необыкновенного дарования успел создать произведение вдохновенно прекрасное, вполне отвечающее его колоссальному таланту.
Опера «Каменный гость» была поставлена на сцене уже после смерти Даргомыжского. Композитор умер, не успев вполне довести до конца свою работу. Но недописанным оставалось очень немногое, и, по желанию Даргомыжского, выраженному перед смертью, опера была окончена Ц. А. Кюи. Инструментовку ее, согласно тому же желанию покойного автора, исполнил Н. А. Римский-Корсаков.
16 февраля 1872 года «Каменный гость» был впервые дан на сцене Мариинского театра, и, как и следовало ожидать, никакого особенного успеха опера не имела. Характер произведения был слишком необычный, небывалый, по выражению самого Даргомыжского, чтобы публика могла за этими небывалыми, ново-необычайными формами рассмотреть богатое внутреннее поэтическое содержание. Не находя в новом произведении никаких привычных оперных элементов, подлежащих ее оценке, публика не заметила в опере, по-видимому, и никаких достоинств. Ведь это были «только речитативы»! Возвышенная правда, глубокий драматизм этих речитативов и тонкая поэзия, разлитая по всему произведению, – все это осталось неоцененным, как и следовало ожидать. «Конечно, это произведение будет не для многих», – предсказывал Даргомыжский еще в 1868 году…