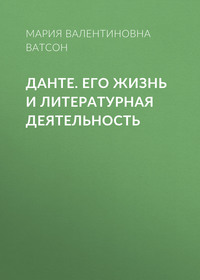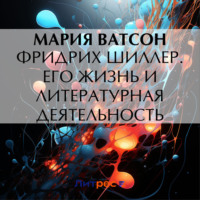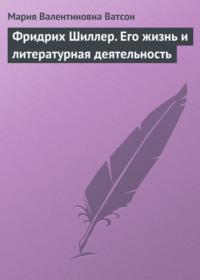полная версия
полная версияДанте. Его жизнь и литературная деятельность
Приверженцы Донати стали именоваться Черными, а приверженцы Черки – Белыми. Данте был на стороне Белых, потому что (по Боккаччо) эта партия больше уважала право и справедливость. Около этого времени, с 15 июня по 15 августа, как мы уже говорили, он исполнял должность приора. Выборы его проходили, по-видимому, очень бурно, на что указывают собственные слова поэта в отрывке письма, приводимом одним из его биографов, Леонардо Аретино, гласящие, что все страдания, все несчастия его имели началом и причиной собрание по выборам его в приоры. Когда обе враждебные партии, Белые и Черные, заняли угрожающую позицию, синьория для упрочения общественного спокойствия решила (23 июня 1300 года) наиболее выдающихся членов каждой из них удалить из Флоренции. Вследствие нездорового воздуха места их ссылки Белых вскоре возвратили, но Данте не был уже тогда приором. Черные тоже вернулись, только один Корсо Донати остался в Риме агитировать в пользу своей партии. После открытия заговора (в июне 1301 года) предводители Черных были снова изгнаны, и Белые получили перевес во Флоренции. В это бурное время Данте несколько раз появляется на общественной арене. Между прочим он настаивает в Совете ста (19 июня 1301 года), чтобы Флоренция отказала папе в требуемых им у общины ста солдатах вспомогательного войска. Мнение поэта не нашло поддержки и послужило впоследствии одним из пунктов обвинения против него. Между тем папа Бонифаций VIII, который покровительствовал втайне Черным, вероятно, по их просьбе и радуясь представившейся возможности усилить свою власть во Флоренции, решил послать в город так называемого «посредника мира» в лице Карла Валуа, брата французского короля Филиппа Красивого. Карл явился во Флоренцию 1 ноября, поклявшись перед тем уважать законы республики. Но он не сдержал своего слова и вскоре стал оказывать открытое предпочтение Черным, заботясь лишь об одном – всеми возможными средствами выжать для себя из Флоренции побольше денег. Рассказывают, что когда он затем явился в Рим и обратился с денежными требованиями к папе, Бонифаций воскликнул: «Но я же послал тебя во Флоренцию – к источнику золота!» Ответ этот рисует хорошо и того, и другого.
Корсо Донати ворвался со своими приверженцами в город, и несколько дней Черные опустошали его огнем и мечом. Последняя синьория, члены которой принадлежали к партии Белых, принуждена была до времени отказаться от власти. Вновь избранные приоры принадлежали к Черным, и —как всегда практиковалось при раздорах тогдашних итальянских общин – победоносная партия воспользовалась властью, попавшей в ее руки, для жестокого притеснения побежденной партии. В течение 1302 года из числа Белых около 600 человек были приговорены к смерти или к изгнанию. Их обвиняли в разных преступлениях, но, конечно, почти во всех случаях обвинения служили лишь предлогом, чтобы отделаться от противников. В числе многих постигла та же участь и Данте: декретом от 27 января он был обвинен во взяточничестве, утайке общественных сумм, подкупе, агитации против папы и Карла Валуа и присужден к уплате пяти тысяч флоринов, а если уплата эта не последует в течение трех дней, – к конфискации всего имущества и во всяком случае к изгнанию из Флоренции на два года, с лишением навсегда права занимать какую-либо общественную должность. Затем 10 марта появился новый декрет, гласящий, что так как Данте не заплатил денежного штрафа и не явился лично, то, если его удастся захватить флорентийским властям, он будет сожжен живым на костре.
Изгнание в те времена, когда человек ближе и теснее срастался с родной ему почвой, имело совсем другое значение, нежели теперь. Насильственная разлука со всем дорогим в жизни становилась решающим событием для всего дальнейшего существования. Изгнанные Белые соединились с высланными прежде из Флоренции гибеллинами, к которым они и раньше тяготели больше, чем Черные, и пытались произвести несколько вооруженных нападений на Флоренцию. Данте тоже вначале пристал к ним. По политическим своим убеждениям Данте, бывший гвельф, теперь становится ревностным гибеллином. Когда, собственно, произошел в нем этот переворот, нельзя указать с точностью. Вероятно, он подготовлялся уже давно. Происходя из гвельфского рода и воспитываясь в этих традициях, Данте придерживался взглядов своей партии, не вдумываясь еще в них самостоятельно. В период занятий философией он почувствовал потребность размыслить о политических вопросах, чтобы иметь и на этот счет свое суждение. Результатом было то, что он осознал несостоятельность гвельфства как политической системы; ему казалось, что своими бедствиями Италия была обязана преимущественно гвельфам, сошедшим с пути чести и добродетели. Данте сделался гибеллином и остался им до конца жизни. Вообще же говоря, он не был человеком партии в собственном смысле этого слова: всякая узкая партийность была ему крайне несимпатична. Он был слишком просвещенный патриот, слишком высокий гражданин, чтобы усвоить себе, соприкасаясь с партиями, мелкие и эгоистичные их интересы. В сущности, он не стоял ни за гвельфов, ни за гибеллинов, ни за Белых, ни за Черных, а просто был приверженцем и защитником идей, имевших в виду лишь одно: благосостояние отечества, – чего нельзя сказать об остальных, маскировавшихся той или другой вывеской для прикрытия личных целей.
В среде союзников, Белых и гибеллинов, проснулись вскоре раздоры, ревность, ссоры – все те нечистые страсти, которые так часто вызывает изгнание среди побежденных. Подобное общение не могло долго нравиться человеку с таким возвышенным духом, как у Данте. Видя, что его не понимают ни гвельфы, ни гибеллины, Данте сосредоточивается в самом себе и, как он сам гордо провозгласил, образует один свою партию, он – «союзник самого себя». Это случилось, вероятно, в 1303 году, когда поэт отправился в Верону, ко двору Бартоломео делла Скала. Белые предприняли еще несколько попыток силой или миром вернуться во Флоренцию, но усилия их оказались тщетными, и в 1307 году все надежды изгнанной партии рухнули. Данте вел скитальческую жизнь, испытывая лишения, принужденный обращаться к чужой помощи, для того чтобы поддерживать свое существование. В 1304 году в письме по поводу смерти Алессандро ди Ромена он пишет племянникам последнего, Оберто и Гвидо, что бедность препятствует ему явиться на похороны их дяди. Такому гордому человеку, как Данте, было, конечно, особенно тяжело обращаться к чужой милости, жить от подачек меценатов. Он поистине узнал, «как горек хлеб изгнания и как тяжело подниматься и спускаться просителем по чужим лестницам». Страдания Данте увеличивались еще тоской по родине. Хотя в нем были космополитические черты и он сам говорит про себя: «Для меня отечество – весь мир, как для рыб – море», все же при этом ярко горела в нем любовь к настоящему отечеству. Это видно из его постоянных заявлений в стихах, письмах и так далее, из слов его о сочувствии ко всем несчастным, «но более всего к тем, которые, томясь в изгнании, видят родину только во сне». Как трогательна жалоба поэта на первых страницах «Пира», написанного им между 1306 и 1309 годами. «Я скитаюсь как бедный странник, почти как нищий, – сетует здесь Данте, – по всем местностям, где говорят языком Италии, показывая всюду против воли рану, нанесенную мне судьбой. Поистине, я уподобляюсь лодке без парусов и руля, прибиваемой к разным гаваням и берегам сухим ветром, которым дышит скорбящая бедность». По форме «Пир» сходен с «Новой Жизнью»; это тоже сборник стихотворений и прозы, только в «Новой Жизни» главное – стихи, а здесь – наоборот. Сочинение это осталось неоконченным; существует лишь введение и три комментария к трем стихотворениям. Писал его Данте с целью популяризировать школьное знание, сделать доступным большинству «привилегированный хлеб науки». Это великое, достойное намерение, это сознательное желание просветить невежественный, темный народ – нечто необычайное и новое для тех времен. Другое нововведение Данте – язык: он пишет не по-латыни, а по-итальянски. Никто еще до него в ученых исследованиях, трактующих о метафизике, практической философии и естественной истории, не осмеливался употреблять народный язык. Сам Данте считает нужным оправдываться в этом и посвящает девять глав, то есть почти весь первый трактат, объяснению, почему он это делает. Со свойственной ему страстностью приступает он здесь к защите итальянского языка, нападая на тех, кто относится презрительно к родному языку и предпочитает ему чужие. Данте называет их «отвратительными», «низкими» и восклицает: «Стыд и вечный позор дурным итальянцам, которые восхваляют народный язык других стран, а унижают свой собственный».
«Пир» – нечто вроде философской энциклопедии; но философия Данте – философия схоластиков; она в подчинении у богословия. Тут масса знаний, но главный интерес сочинения не в научных взглядах Данте, – не это наиболее характерная сторона книги и ее значения. Отличительная черта поэта та, что он все чувствует необычайно горячо и сильно, все у него становится тотчас же аффектом, страстью. И знание не остается у него мертвым достоянием, накоплением ученых подробностей, как, например, у Брунетто Латини, но везде просвечивает и примешивается его могучая индивидуальность. Любовь его – идеализация; он смотрит на нее с философской точки зрения, но сама философия превращается у него в любовь; философия – «любящее общение с мудростью», как он ее определяет. И в научном мировоззрении Данте сохраняется уголок для фантазии, и здесь встречаются у него образы, полные красоты. Он и в науке находил поэтический элемент. Занятие наукой, по его словам, – «изучение известного предмета умом, влюбленным в этот предмет».
Всюду и везде, как бы он ни углублялся в отвлеченную область, действительность все-таки встает перед ним. Так, например, говоря в «Пире» о справедливости и образах правления, он восклицает: «О несчастная, несчастная моя родина, какое я чувствую к тебе сострадание, когда читаю и пишу о вопросах, касающихся государственного правления!»
Одной из блестящих и высших заслуг Данте останется навсегда то, что он сделал с целью дать перевес в Италии народному итальянскому языку над латинским. Как и в «Пире», то же стремление руководит поэтом и в другой его книге: «De eloquentia volgari» («O народном красноречии»), написанной неизвестно когда, – некоторые полагают, что в конце жизни, другие, что около 1308 года. Сочинение это должно было состоять из четырех частей, так как на четвертую часть несколько раз указывается заранее; но оно прерывается на четырнадцатой главе второй части и остается неоконченным по неведомым нам причинам. Данте начинает здесь с происхождения языков вообще и излагает свое учение о национальном языке. Быть может, в области языкознания, если мы взглянем на дело с теперешних позиций, Данте выказывает научную несостоятельность, делает ошибки. Но при этих недостатках сочинение Данте имеет большие достоинства, особенно с точки зрения установления единства в языке. К тому же сама мысль книги показывает нам смелость его ума. Он единственный из современников сумел подняться от употребления народного языка к теоретическому осознанию его духа. У него в первый раз читатель находит научное исследование тех вопросов, которые оставались совершенно неразработанными Средними веками. Сочинение это – один из важных источников по истории итальянского языка и национальной итальянской литературы. В нем – свидетельство того огромного значения, которое Данте всегда придавал национальному языку. Очевидно, при написании этой книги поэт руководствовался не только филологическими, научными целями, но и патриотическим чувством. Вот как выражается Витте по этому поводу: «Нигде Данте не проявляет своего патриотизма так великолепно, как в тех случаях, когда он, подобно сыну, защищающему мать, берет под свою защиту язык своего народа от презирающих его латинистов. Это было главнейшее благо, которое он мог дать и действительно дал своему народу, – именно единство национального языка и национальной литературы. Не его вина, конечно, что он не мог дать ему и единства политического».
Указать точно все города и пункты, где был Данте во время своего изгнания, совершенно невозможно; только кое-какие местности этого грустного скитальчества доподлинно известны из некоторых документов. Таковы, например, Падуя, Арно, Казентино и так далее.
В то время как Данте все еще предавался мечтам о возвращении во Флоренцию, перед ним неожиданно, совершенно с другой стороны, мелькнул луч надежды на освобождение Италии, на осуществление его идеала о всемирной монархии, с императором во главе светской власти и с папой – во главе духовной. На императорский престол вступил Генрих VII, граф Люксембургский, который проявил решимость возвратить императорской власти силу и величие, утраченные ею после падения Гогенштауфенов, и провозгласил первым и настоятельным условием этого благоденствие Италии, уничтожение всяких партий и восстановление общего мира.
Еще в «Пире», излагая философские истины, поэт высказал и свой политический символ веры, так как для него политика и философия не были обособлены, а сливались воедино. Чтобы человечество достигло еще на земле своего назначения, то есть счастья, оно нуждается в мире; но раздоры царят везде, если во главе правления не стоит единый всемирный монарх, который ничего не желает, так как все ему подчинены, и потому правит, руководствуясь справедливостью и поддерживая общий мир. Нечто, напоминающее идеал правления, созданный Платоном в его «Республике», воодушевляло, по-видимому, и Данте. В его глазах всемирный монарх есть существо, уже по природе своей склонное покровительствовать, а не порабощать. Он равен всем, потому что имеет одинаковую власть над всеми; он должен охранять справедливость и свободу, – эти основы человеческого счастья. В правильно устроенном государстве, как говорит Аристотель, хороший человек – вместе с тем хороший гражданин, а в дурно устроенном и хороший человек – дурной гражданин.
Политическая теория Данте, бывшая отвлеченным идеалом, как будто могла осуществиться, когда Генрих VII в октябре 1310 года перешел Альпы и явился с армией в Италию. И действительно, он имел самые благородные намерения: он желал учредить общий мир, согласие и благоденствие. Преисполненный радости, Данте спешит взглянуть собственными глазами на избранника Божьего, на политического мессию. Он не сомневается в успехе предприятия нового императора и, чтобы способствовать «святому делу», пишет латинское письмо к королю и народам Италии с надписью: «Всех и каждого: королей Сицилии и Неаполя, римский сенат, а равно герцогов, графов, марк-графов и народы Италии – смиренный итальянец Данте Алигьери из Флоренции, безвинно изгнанный из отечества, просит о мире». «Возрадуйся, Италия, – говорит поэт, – близок тот, кто освободит тебя из темницы нечестивых и отдаст свой виноградник в руки других рабочих, которые, когда придет час жатвы, соберут плоды правды и справедливости. Притесненные пусть надеются и верят, император будет равно справедлив и мягкосердечен ко всем».
Но враждующие непримиримые партии итальянских городов вовсе не желали равной для всех справедливости и мягкосердечия. Они продолжали свои распри, и в особенности Флоренция стала средоточием сил, противодействующих начинаниям Генриха VII. Тогда 31 марта 1311 года Данте пишет письмо к «нечестивым флорентийцам». Он доказывает им важность собственно Римской империи, необходимость и благо всемирной монархии. Он упрекает своих соотечественников в злоупотреблении свободой, которую они обращают в деспотизм, и предсказывает им страшное наказание за их нераскаянность. Конечно, флорентийцам не могло понравиться подобное письмо, и когда несколько месяцев спустя указом синьории многие изгнанники из партии Белых были возвращены во Флоренцию, Данте оказался среди тех, числом около тысячи, кого амнистия не коснулась. Чтобы побудить медлившего Генриха VII действовать энергичнее, Данте снова пишет ему, причем говорит, что на него «смотрят, как на новое солнце, появившееся, чтобы разогнать скопившиеся тучи». Поэт советует императору не медлить, описывает состояние Италии, сравнивая ее с мифической гидрой, которой недостаточно отрубить одну голову, а надо нанести удар в самый источник жизни, в сердце. Эта гидра – все непокорные итальянские города, а главное зло – Флоренция. Она – змея, жалящая свою мать, паршивая овца, заражающая все стадо, и так далее. Страстное участие Данте в этих политических событиях указывает на его горячую натуру. Он не колеблется, не сомневается, он такой же энтузиаст в своих политических убеждениях, как и в философских и богословских взглядах.
Генрих наконец действительно является в Среднюю Италию, получает в Риме римскую корону из рук папских легатов и затем осаждает Флоренцию, но безуспешно. Принужденный снять эту осаду, он удаляется в Буонконвенто, на юг от Сьены, и здесь 24 августа 1313 года вдруг умирает скоропостижно, прославленный Данте – поэт отводит ему в своем «Раю» одно из лучших мест – и оплаканный Чино да Пистойя, написавшим две канцоны на его смерть.
Глава III
«Божественная Комедия». – Письмо Данте к Кан Гранде, объясняющее название, значение и цель его произведения. – Мрачный лес и встреча с Вергилием. – Преддверие Ада: безразличные и бездействовавшие. – Девять кругов Ада. – Чистилище. – Катон Утический. – Четыре предварительные ступени. – Входная дверь в Чистилище и семь его кругов. – Земной Рай и разлука Данте с Вергилием. – Беатриче. – Десять сфер Рая. – Конец странствования.
Находясь в изгнании, Данте носил в груди своей гнев, желание мести, презрение, общественные и личные тревоги, все страсти, могущие волновать сердце человека. Но удары судьбы не сломили его мощного духа, и талант его только выиграл от жестокой школы испытаний. Дыхание бурной, тревожной жизни коснулось его поэзии; оторванный от активного участия в общественных делах, поэт ушел в себя, и все поэтические силы его развернулись еще пышнее и ярче. «Божественную Комедию», великую свою поэму, Данте написал именно в изгнании. Когда, собственно, были написаны первые песни «Божественной Комедии», нельзя точно определить. Основываясь на некоторых данных, предполагают, что, вероятно, около 1313 года, после окончания неудачного римского похода Генриха VII. Первые две части поэмы – «Ад» и «Чистилище» – были известны публике еще при жизни их творца, а «Рай» стал известен только после смерти Данте.
Обыкновенно идеи великих поэтических произведений не появляются внезапно и не осуществляются тотчас; мысль о них таится перед тем долго в душе поэта, развивается мало-помалу, пускает корни глубже и глубже, расширяется и преобразуется, пока наконец зрелый продукт долгой незримой внутренней работы не выступит на свет Божий. Так было и с «Божественной Комедией». Первая мысль о великой поэме зародилась, по-видимому, в уме Данте очень рано. Уже «Новая жизнь» служит как бы прелюдией к «Божественной Комедии».
В первой канцоне сборника «ангелы просят Бога вернуть им Беатриче, но Бог говорит им, чтобы они еще потерпели немного, пока она побудет на земле с тем, который, потеряв ее, скажет в Аду грешникам, что видел надежду блаженных». В этих словах ясное указание на путешествие Данте в Ад. И в конце «Новой жизни» Данте рассказывает о том, что он имел дивное видение, заставившее его решиться не говорить более о Беатриче, по крайней мере до тех пор, пока он не будет в состоянии сделать это более достойным ее образом. «Чтобы достигнуть этого, я занимаюсь наукой, сколько у меня хватает сил. И если Создатель всего сущего захочет продлить мою жизнь еще на несколько лет, то я надеюсь сказать о Беатриче то, что никогда еще не было сказано ни о какой другой женщине. И тогда да будет Ему, Богу милостивому, угодно допустить душу мою лицезреть славу своей владычицы». Так писал поэт еще в 1292 году.
Название «Комедия» дал своей поэме сам Данте, а эпитет «Божественная» был добавлен восхищенным потомством уже позже, в XVI столетии, не вследствие содержания поэмы, а как обозначение высочайшей степени совершенства великого произведения Данте. «Божественная Комедия» не принадлежит ни к какому определенному жанру: это совершенно своеобразная, единственная в своем роде смесь всех элементов различных направлений поэзии.
Сохранилось весьма интересное и довольно объемистое латинское письмо поэта, сопровождавшее посылку им «Рая» Кан Гранде делла Скала, где он сам объясняет значение и содержание своего произведения. Смысл его – разносторонний; прежде всего буквальный, затем аллегорический нравственный, то есть скрытый внутренний, и потому сама тема поэмы – двойная; первая – буквальная: состояние душ после смерти; вторая – аллегорическая: человек, смотря по тому, чему он подвержен вследствие своей свободной воли, награждается или казнится по справедливости. «Комедией» же Данте назвал свою поэму потому, что «по содержанию начало ее ужасно и печально (Ад), а конец прекрасен и радостен (Рай); как, наоборот, трагедией (Данте называл „Энеиду“ трагедией) называется то произведение, которое начинается спокойно и приятно, а кончается печально и ужасно. Точно так же и в способе выражения различаются они между собой тем, что трагедия – торжественна и величава, а комедия – смиренна и непритязательна; причем язык ее народный, „volgare“, на котором разговаривают друг с другом и женщины».
Цель поэмы – освободить живущих на земле от состояния греховности и привести на путь к блаженству.
Итак, «Комедия» Данте заключает в себе, в форме аллегорического видения загробной жизни, нравственно-религиозную мысль с поучительной целью. Эту же нравственно-религиозную мысль об освобождении души от греховности и земных уз встречаем мы в качестве основной мысли народной религиозной поэзии, предшествовавшей Данте. Народные поэты того времени: Фра Яко-поне, Джаколино и другие, – пробуждали души от суеты земной, обращали их к вечному, повествуя о чудесах, рассказывая легенды, описывая страшный суд, ужасы ада и блаженство рая. Это был самый действительный и популярный путь для достижения целей поучения и исправления. Великим вопросом того времени являлся вопрос о будущей жизни, которая начнется, когда кончится суетное земное существование, считавшееся лишь подготовлением к ней. Поэтому естественной формой литературы было видение, срывавшее покров с загробного мира и позволявшее человеческим взорам проникать в его тайны. Существовали легенды о видениях воскресшего Лазаря, апостола Павла и множество других, из которых самыми значительными и распространенными в ХII веке были три загробные видения ирландского происхождения: «Путешествие св. Прандануса с его монахами», «Чистилище св. Патриция» и «Видение Тундалуса». Со счастливым вдохновением гения в качестве внешней оболочки для своих отвлеченных идей, для «высокой фантазии», как он называет свою поэму, Данте выбрал изображения загробного мира именно из народной религиозной поэзии. Многочисленные сказания о загробных странствованиях, о видениях неба и ада нашли свое высшее художественное выражение в «Божественной Комедии». Данте внес систему в нестройное смешение образов; эта система навеяна учением церкви, а также учениями Аристотеля и Цицерона. Вообще в поэзии Данте видения играют большую роль. Первый его сонет заключал в себе видение; в прекрасной канцоне, где он говорит о своем предчувствии смерти Беатриче, – тоже видение; и, наконец, видение и в «Божественной Комедии». Но народ понимал такие легенды и предания в буквальном смысле: он думал, что душа расставалась с телом и действительно видела все то, о чем шел рассказ. Так народ понимал даже и поэму Данте, на что указывает, между прочим, анекдот Боккаччо о тех двух женщинах в Вероне, которые, заметив проходившего мимо них Данте, обменялись по этому поводу следующими словами: «Посмотри, – сказала одна, – вот тот, который спускается в ад и, возвращаясь оттуда, когда пожелает, приносит весть о пребывающих там грешниках». Другая ответила: «Должно быть, ты права: посмотри, как борода его курчава, и лицо его черно от дыма и копоти адского огня». Если народ и толковал так поэму, то намерение поэта, как мы знаем, было, конечно, иное. Для него нет истинной поэзии вне глубокого смысла, вне нравственного и философского содержания, скрытого за аллегорией. Истина, облеченная в красивые образы, – вот как Данте определяет поэзию. Он выступает в своей поэме реформатором, апостолом, учителем заблудившегося человечества, которое он желает вести к блаженству. Цель эта доказывается не только ярким изображением последствий пороков и добродетелей, но и несомненными декларациями; например, апостол Петр в 27-й песне «Рая», после пламенной речи против вырождения папства, поручает поэту при возвращении его на землю «отверзнуть уста и не скрыть ничего из того, что он от него не скрыл». Беатриче в «Чистилище» говорит поэту: «Наблюдай хорошенько и перескажи все виденное тобою людям, живущим тою жизнью, которая есть дорога к смерти». А в 17-й песне «Рая», когда предок поэта предсказывает ему изгнание и Данте говорит, что в таком случае вдвойне важно сообщить миру то, что он узнал во время своего загробного путешествия по трем царствам, так как многим высказанное им покажется весьма жестким, Каччагвида отвечает: «Все равно, расскажи все, что ты видел, и этим заставь людей почесать те места, где у них болячки. Если слова твои и покажутся сначала непереваримыми, содержащаяся в них пища, раз проглоченная, дарует жизненное питание… Крик, который ты испустишь, будет подобен ветру, поражающему самые высокие вершины».