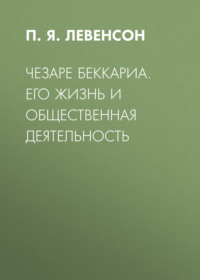полная версия
полная версияЧезаре Беккариа. Его жизнь и общественная деятельность
То и дело встречаются пламенные уверения в любви, в тоске по своей возлюбленной, в намерении скорее вернуться. Безумно влюбленный юноша вряд ли писал более страстные письма предмету своей скрываемой любви, нежели этот степенный философ, тяжелый на подъем домосед, серьезный мыслитель и получивший европейскую известность публицист. «Дорогая радость моя», «душа моя», «обожаемая супруга» – так и пестрят в любом письме. «Сохраните мне Вашу любовь, – пишет он ей из Эгбеля, – и в награду за мою любовь пишите мне ежедневно. Любовь сделала из меня, труса, человека деятельного. Вы, душа моя, совершили это чудо, мне утешительно писать Вам это».
В Турине Беккариа вручили золотую медаль, выбитую в его честь Бернским обществом экономистов.
В Париже молодых путников приняли не только восторженно – но просто «с обожанием», con adorazione, как писал Бери. Интересна характеристика знаменитостей парижского ученого мира, сделанная и Вери, и Беккариа. Мы ограничимся только последней. Гость положительно в восторге от приема своих друзей, с которыми он обедал у барона Гольбаха. «Мы в особенности восхищены, – пишет он жене, – Дидро, бароном Гольбахом и Д’Аламбером. Последний – человек выдающийся, и в то же время – сама простота. Энтузиазм и добродушие сквозят в манерах Дидро. Гельвеции и Бюффон еще в деревне, Мореллэ возится с нами…» И тут же прибавляет неизбежную фразу: «Помните, что я Вас нежно люблю, что всему на свете, целому Парижу с его удовольствиями предпочитаю мою дорогую супругу, моих детей, мою семью, моих миланских друзей, в особенности тебя. Я никогда не лгу, поэтому, радость моя, прими это за сущую правду, а не за любезность».
Несмотря на старание друзей, желавших сделать пребывание итальянских публицистов в Париже по возможности приятным и полезным, Беккариа не выдержал долгой разлуки со своей Терезой. Он сознается, что у самого рассудительного человека голова закружилась бы от почестей, приемов, празднеств и похвал, которые ему расточали величайшие умы века, – но тоска по семье грызла его, точила как червь. Вместо предполагавшегося шестимесячного пребывания в Париже он уже в ноябре был у себя в Милане, в кругу родных и друзей.
По возвращении домой Беккариа посетил Вольтера в Фернее. Хотя некоторые биографы отрицают этот факт, но то, что оба они желали лично познакомиться и, вероятно, познакомились, не подлежит сомнению. «Великий Вольтер, – пишет ему один общий знакомый, – был бы в восторге познакомиться с Вами лично. Вы будете удивлены, увидев, сколько сохранилось веселости и живости в этом скелете. Он сверкает, как огонь, его глаза говорят за него. Вам знакома кисть художника, неужели Вы не захотели бы познакомиться с самим художником?» «Каждый раз, когда я бываю в Фернее, – пишет другой знакомый, – великий Вольтер не перестает говорить о Вас с тем сердечным участием, которое Вы сумели возбудить в самых знаменитых людях…» «Угадайте, о чем мы вчера говорили у Вольтера за обедом, на котором был Д'Аламбер? – пишет ему некий восторженный юноша, Мацукелли, большой поклонник обоих философов. – О Вас, маркиз, о Вашей дивной философии. Простите, что я осмелился передать ему поклон от Вашего имени. „Ах, скажите господину Беккариа, – это его подлинные слова, – что я, бедный 77-летний старец, одною ногою стою в могиле; ничего не желаю, как только быть в Милане, чтобы видеть его, ближе узнать и удивляться, как я это делаю здесь. Поблагодарите его за любезность и скажите ему, что я никогда не перестану быть его поклонником“».
Глава V
Приглашение Беккариа в Петербург. – Отказ, вызванный интригами Д'Аламбера. – Принятие университетской кафедры. – Его труды. – Участие в законодательных комиссиях. – Влияние Беккариа на смягчение уголовных кар в Европе. – Его влияние на русское законодательство. – Закон 17 апреля 1863 года и «Судебные Уставы» 20 ноября 1864 годаСлух о необыкновенном чествовании Беккариа в Париже вскоре достиг и северных дворов, где к автору «Dei delitti e delie реne» относились с большим сочувствием. Императрица Екатерина II выразила желание видеть у себя человека, о котором Д’Аламбер писал ей такие лестные отзывы. Начались переговоры о приглашении Беккариа совсем поселиться в Петербурге, чтобы принять участие в трудах комиссии для составления уложения. Канту приводит любопытное письмо, полученное Беккариа в конце 1766 года от знаменитого хореографа Анджелини, управлявшего петербургским балетом. Балетмейстер передает ему поклон от имени статс-секретаря императрицы Елагина, большого поклонника Беккариа и противника практиковавшейся на его родине карательной системы, в силу которой сначала наказывают, а затем уже приступают к расследованию содеянного преступления: «Еще скажу Вам, что императрица уже читала Вашу книгу и всем сердцем сочувствует гуманности, которую Вы с такой энергией проповедуете и поддерживаете». Другой земляк Беккариа, некий синьор Маруцци, предложил даже свои услуги, чтобы облегчить ему переезд в Россию.
Такого закоренелого домоседа, как Беккариа, для которого даже поездка в Париж была невероятным подвигом, одна мысль об отдаленном путешествии в холодную и малоизвестную «Московию» наполняла ужасом. К тому же его жена начала прихварывать, ей советовали отправиться на воды в более теплый климат, на юг Италии. Взять с собою больную жену в Петербург, климат которого в те времена пользовался далеко не лестною репутацией, было просто немыслимо. А тут еще подоспели коварные советы нового друга Д’Аламбера, роль которого в этом деле была более чем странной. Никто так горячо не рекомендовал императрице миланского философа, как Д’Аламбер, он первый подал мысль пригласить его в Петербург. А когда дело уже наладилось, он же настойчиво ему отсоветовал отправиться в Россию… «Говорят, что Вы серьезно думаете о поездке в Россию, – писал он в июне 1767 года. – Не знаю, какими мотивами Вы руководствуетесь. Но прошу Вас, дорогой друг, хорошенько подумать еще об этом, прежде чем окончательно решитесь. Вспомните все, что я Вам раньше говорил по этому поводу. Вы променяете прекрасный климат для очень дурной страны, свободу на рабство…» и т. д. Советы такого друга, как Д’Аламбер, кичившегося тем, что, несмотря на дружеские отношения с императрицей, он предпочел остаться в своей Франции, на скудном пенсионе в 1700 франков и с конурой в виде казенной квартиры, отказавшись от выгодных предложений Екатерины II, подействовали на обленившегося и мягкого Беккариа. Предложение было отклонено, Беккариа остался в своем любезном родном городе.[7]
Австрийское правительство было очень радо, узнав, что предложение петербургского двора не было принято. Чтобы вознаградить Беккариа за добровольную потерю предложенной должности, министр Кауниц выхлопотал ему, на основании чрезвычайно лестного отзыва графа Фирмиани, новую кафедру политической экономии в местном университете с жалованьем в три тысячи лир. А для лучшего доказательства того, как правительство дорожит людьми науки, «прославившими свое имя не только на родине, но и за ее пределами», ему предложили место члена горного совета с содержанием тоже в три тысячи лир и должность члена совета народного просвещения.
Профессорская деятельность не была для него синекурой. Беккариа много поработал на этом поприще, он считался одним из выдающихся экономистов своего времени, как и другие однородные знаменитости вроде Филанджиери, Бентама и Росси, сумевшие совместить изучение уголовного права с основательным знанием политической экономии. Сэй ставил ему в заслугу, что он, будучи физиократом, «первый анализировал действительные функции производительных капиталов».
В период времени с 1762 по 1781 год Беккариа написал, кроме своего капитального труда, прославившего его имя, еще следующие сочинения: «О беспорядках в монетной системе миланской провинции», «О сущности слога», «Речь о торговле и администрации», «Проект о введении единообразных весов и мер». Популярность Беккариа росла в Италии не по дням, а по часам. Он имел случай убедиться в симпатии своих сограждан во время поездки в Тоскану, когда он отвез внезапно заболевшую жену на морские купанья в Пизу, в сопровождении доктора Маскати и маркиза Кальдерара. Он везде был предметом самых восторженных оваций. Один из близких друзей его, Висконти, писал ему из Венеции, что все жаждут его видеть, все в восторге от его книги, даже те, которые наложили на нее запрет. Все его любят, превозносят и удивляются ему. Никто не хочет верить, что ему только 30 лет. «Когда в обществе писателей говорят о защитнике и борце человечества, само собой подразумевается Беккариа».
Вюртембергский герцог Людвиг Евгений писал ему, что чтение его книги наполнило его сердце сладостным трепетом, который служит ответом чувствительных душ на призыв защитников человечества, любовью и удивлением к ее добродетельному автору. «Не знаю, готовит ли мне Провидение быть когда-либо вождем существ, мне подобных, я бы этого не желал… Но могу Вас уверить, что употреблю все средства, чтобы уничтожить варварские наказания, заставляющие содрогаться природу, против которых Вы ведете такую победоносную борьбу». Но все эти почести мало трогали робкого маркиза, который был так скромен, что, когда неаполитанский король приехал к нему с визитом, он велел сказать, что его нет дома».
Но не одними овациями и чествованиями исчерпывалось влияние Беккариа. Его идеи проникли в законодательные сферы соседних стран и принесли желанные плоды. После долгой борьбы и Австрия решилась на отмену пытки; колесование отошло в область преданий, осталась только виселица. Но всемогущий министр Кауниц разослал судам секретные инструкции о неприменении и этого наказания. Остались в силе следующие наказания: каторга, палки (bastonatura), пост и вечное изгнание. Смертная казнь была упразднена в 1782 году, но император Иосиф II оставил ее для румын, живущих в Венгрии и Трансильвании. Уголовное уложение, изданное в его царствование, отличалось замечательной мягкостью сравнительно с прежними законами, мягкостью, которою прониклось и законодательство государств, входивших в состав полунезависимой Италии.
О влиянии, произведенном идеями Беккариа на Екатерину II и высший слой тогдашней официальной и неофициальной России, мы скажем ниже. Желание не только смягчить жестокость уголовных кар, но и улучшить по возможности положение узников сделалось всеобщим в целой Европе. Англия первая устроила, в виде опыта, исправительные колонии в Ботанибее, в Австралии, в Вандименовой земле и на острове Норфолке. Призыв ее филантропов Джона Говарда, Бентама и других, воодушевленных проповедью миланского философа, не остался гласом вопиющего в пустыне. Нигде так часто не раздавалось имя Чезаре Беккариа, не приводились выдержки из его знаменитого «Трактата», как именно в законодательных собраниях Франции, переживавшей тогда бурную эпоху своей Великой революции. Влияние Беккариа сказалось и в таком законодательном акте первостепенной важности, как «Провозглашение прав человека и гражданина». Вся старина была ниспровергнута. Иные законы должны были действовать в обновленном общественном строе, и принципы этого нового законодательства, послужившего прототипом для остальной Европы, были впервые провозглашены в Милане. Позднейшие события революционной Франции, к сожалению, отодвинули решение вопроса об отмене смертной казни на неопределенное время. Смертная казнь, против которой так горячо и умело, ратовал Беккариа, и поныне не вычеркнута из французского уголовного кодекса.
Нам остается еще сказать несколько слов о влиянии Беккариа на русское законодательство в течение целого века, начиная с появления его трактата в 1764 году в Милане и кончая «Судебными Уставами» 20 ноября 1864 года. Пожелания, высказанные в Милане в 60-х годах прошлого века, ровно через сто лет получили силу закона в одной из лучших реформ, обессмертивших царствование Александра II. Предшествовавшие частичные улучшения в области уголовного права и процесса были лишь прелюдиями к величественному законодательному акту, провозгласившему необходимость для страны суда скорого, правого, милостивого, равного для всех, отделения судебной власти от законодательной и административной.
Под влиянием идей Беккариа и отчасти Монтескье, Екатерина II составила 30 июля 1767 года знаменитый «Наказ», данный «Комиссии о сочинении проекта нового уложения». Не в одном «Наказе» проглядывает влияние Беккариа, оно замечается и в позднейших законодательных актах императрицы, таких как, например, «Учреждение о губерниях», появившееся в 1775 году, по которому каждое сословие в государстве получало свой особый сословный суд, уголовный и гражданский. Это пересказ мысли Беккариа, что каждый должен быть судим себе равным. Дело, очевидно, идет о суде присяжных, очень мало похожем на сословные суды дореформенного периода.
Вся десятая глава «Наказа», озаглавленная «Об обряде криминального суда», состоит из перевода трактата Беккариа, которому посвящено 114 статей, хотя заимствования встречаются и в других главах. Перевод сделан, по Высочайшему повелению, Григорием Козицким, о чем свидетельствует собственноручная надпись Екатерины II, сделанная на рукописи «Наказа», хранящейся на видном месте, в серебряном ковчеге, под стеклом, в великолепном зале общих собраний Правительствующего сената, с правой стороны, возле обер-прокурорского стола. Интересно сопоставить статьи этой главы с соответствующими параграфами «Dei delitti e delie pene».
«Обвиняемый, – гласит 194-я статья „Наказа“, – терпящий пытку, не властен над собою в том, чтобы он мог говорить правду. Можно ли больше верить человеку, когда он бредит в горячке, нежели когда он при здравом рассудке и добром здоровье? Чувствование боли может возрасти до такой степени, что, совсем овладев всею душою, не оставит ей больше никакой свободы производить какое-либо ей приличное действие, кроме как в то же самое мгновение ока предпринять самый кратчайший путь, коим бы от той боли избавиться. Тогда и невинный закричит, что он виноват, лишь бы только мучить его перестали. И то же средство, употребленное для различения невиновных от виновных, истребит всю между ними разность, и судьи будут так же в неведении, виноватого ли они имеют перед собою или невинного, как и были до сего пристрастного допроса. Посему пытка есть надежное средство осудить невинного, имеющего слабое сложение, и оправдать беззаконного, на силу и крепость свою уповающего».
«Наказ» высказывается против смертной казни, которую он допускает лишь во время безначалия, когда сами беспорядки заступают место законов. Но в нормальное время, в стране, где «вся власть в руках Самодержца, в таком государстве не может в том быть никакой нужды, чтобы отнимать жизнь у гражданина».
Чем же объяснить это разительное несоответствие теории с практикой, этот вопиющий разлад между увлечением теориями Монтескье и Беккариа, с одной стороны, и терпимостью к разным Шешковским и его последователям? Покойный профессор А. Ф. Кистяковский уверяет, что в первое время законодательница искренно проникнута была духом этих творений и надеялась усвоить его России. Для этого она созвала депутатов от всех сословий целой империи. Намерение не осуществилось, новое уложение не было составлено – и большая часть высоких драгоценных мыслей, высказанных в «Наказе», осталась мертвой буквой. Кроме внешней причины – турецкой войны, – была другая, самая глубокая и основательная – умственная и нравственная неподготовленность русского народа и общества. «Это, – говорит он, – было состояние позолоченной грубости и неразвития, то состояние, которое было более благоприятно чрезмерному развитию крепостного права, чем осуществлению мыслей Беккариа и Монтескье, решительно несовместимых с таким состоянием народа».
Нельзя вполне согласиться с мнением покойного профессора, что весь екатерининский «Наказ» остался мертвой буквой. При составлении Свода Законов в 1832 году десятая глава «Наказа» послужила одним из источников третьей главы «Законов о судопроизводстве по делам о преступлениях и проступках», так что некоторые положения о предварительном заключении и силе доказательств существуют еще до сих пор в дореформенных окраинах империи. Благодаря этой санкции закона взгляд, высказанный Беккариа, что чем тяжелее преступление, тем совершеннее должны быть доказательства, сослужил большую службу делу правосудия, избавив многих подсудимых, вина которых не совсем была доказана, от незаслуженных кар. Это разумное правило помещено рядом с известным афоризмом Петра Великого, ошибочно приписанным Екатерине II, что «лучше освободить десять виновных, нежели осудить одного невинного», заимствованным из 9-й статьи «Воинского Устава» 1716 года.
Но лучшим и самым блестящим доказательством жизнеспособности учения Беккариа служит неопровержимый факт, что его книга была тем библейским огненным столбом, который освещал путь составителям «Судебных Уставов», когда они мучительно пробирались по безнадежной пустыне, окруженной тьмою дореформенного судопроизводства, чтобы выбраться на светлый путь нового суда, отменившего старую кривду.
Один из выдающихся деятелей судебной реформы, известный переводчик Данте, сенатор С. И. Зарудный, счел своим долгом познакомить русское общество с книгою Беккариа. Он желал, чтобы «в России был хороший перевод хорошего издания хорошего сочинения на хорошем русском языке. Если это совершится, то я буду убежден в том, что я сделал хорошее дело».
Никто не станет отрицать, что этим «хорошим делом» почтенный судебный деятель достойно завершил свою полезную общественную деятельность.
Глава VI
Смерть Терезы. – Безотрадное семейное положение. – Вторичная женитьба. – Смерть. – Равнодушное отношение сограждан. – ЗаключениеТихо и мирно текла жизнь Чезаре в его родном городе. Окруженный всеобщей любовью, преданный любимым занятиям на разных поприщах общественной деятельности, пользуясь всею полнотою семейного счастья, он достиг того, чего так жаждет истый эпикуреец, каким он отчасти и был. Он прожил бы беспечально весь свой век, если бы не катастрофа, разразившаяся над ним совершенно неожиданно! Великий гуманист потерял свою жену, свою нежно любимую Терезу, которую он отвез в Пизу на морские купанья. Несмотря на тщательный уход и усилия лучших представителей врачебной науки, смерть посетила Терезу в лучшие годы жизни. Ей было всего 29 лет.
После нее остались две дочери, из которых одна, Мария, умерла в молодых годах, незамужней, а другая, Джулия, выйдя впоследствии замуж за дона Пьетро Манцони, играла видную роль в парижском обществе и поддерживала блестящую репутацию отца и сына, известного писателя. С ней-то был в переписке граф Рёдерер, письмо которого мы передали в извлечении. Вскоре сошел в могилу и его престарелый отец, маркиз Джованни-Саверио, на 85-м году жизни.
Легко себе представить, как отразилось это семейное горе на впечатлительном Чезаре, так беззаветно любившем свою молодую подругу жизни. На первых порах казалось, что безутешный супруг не выдержит этого жестокого удара судьбы, лишившей его самого дорогого в жизни, теперь потерявшей для него всякое значение, подвинет его на какой-нибудь отчаянный поступок для насильственного сокращения опостылевшего существования, которое пришлось бы влачить в беспросветном одиночестве. На деле вышло, однако, совершенно иначе. Психологически неразрешимая загадка разрешилась таким сюрпризом, который менее всего можно было ожидать от такого любящего супруга, каким был Чезаре. Недолго продолжалось его вдовство, и 4 июня 1774 года он сочетался законным браком с дочерью графа Барнаба-Барбо, донной Анной. От этого брака родился сын Джулио, переживший свою сестру Джулию на десять лет. Он скончался в 1858 году. Со смертью этого последнего отпрыска Чезаре прекратился род Беккариа-Бонесана. Братья его не оставили никакого потомства.
Сохранилось любопытное письмо капитана де Бласко, брата покойной Терезы, к Беккариа. В этом письме капитан, оплакивая смерть дорогой сестры, одновременно выражает свое соболезнование неутешному супругу и поздравляет его… со вступлением в новый брак. «Такому человеку, – пишет он, – как Чезаре, посвятившему свою жизнь служению отчизне и человечеству, невозможно заниматься хозяйственными дрязгами, нянчить детей и т. д. Ему необходима помощница». Перестав быть его шурином, капитан просит его сохранить прежнюю дружбу и теплые отношения; это не только личная просьба капитана, но и желание всего семейства де Бласко – считать его по-прежнему родным. В заключение он низко кланяется маркизе, почтительно целует ее ручки и так далее.
Беккариа продолжал по-прежнему работать, но ничего выдающегося не вышло уже из-под его пера. Остаток его жизни прошел довольно бесцветно. Похвалы друзей и скрежет зубовный многочисленных врагов не интересовали его. Он ко всему относился довольно равнодушно, колоссальный успех не вскружил ему голову, нападки критиков на литературные недостатки его произведений, на неряшливость слога, на орфографические ошибки не возбуждали в нем ни горечи, ни желания оправдываться перед читающей публикой. Даже грандиозные политические перевороты последнего десятилетия прошлого века не производили на него того потрясающего впечатления, какое производили они на других его современников, содействовавших крушению старого режима. В своем юношеском произведении «Прелести воображения» он рисовал картину блаженного состояния честного эпикурейца, живущего в сфере совместной работы ума и воображения, сумевшего сохранить известную дозу индифферентизма в деловой жизни и в поисках истины умеренно распределять свои страсти, не слишком волноваться при виде того, как люди сражаются, надеются, умирают; бежать от греха, причиняющего угрызение совести, – но отказаться от химеры достигнуть совершенства, любить уединение, предпочитая городскому шуму деревню, горы, морской берег, где чувствуется «ничтожество наших дел и наших систем». Таким честным эпикурейцем был, конечно, и сам автор. В его характере было много черт, совсем не свойственных итальянцу, – даже северному, не чуждому влияния немецкой культуры. Во многих отношениях он был настоящим Обломовым, сам себя называл «лентяем», добродушным, скромным, даже робким, – только не в области мышления. Там он был богатырем и смелым бойцом. Он мало обращал внимания на внешность, был небрежен в одежде и в слоге, писал с крайней неохотой. А между тем не было грамотного человека в Италии, который бы не читал его трактата «Dei delitti». Даже люди, менее всего интересующиеся литературой, например кардиналы и прелаты, зачитывались его сочинениями. Не изяществом слога, не художественно отделанными периодами завоевал он всеобщие симпатии, а искренностью убеждения, силою вдохновенного слова, горячим желанием добра ближнему.
Точно крадучись, настигла его смерть – совершенно неожиданно. Беккариа всегда пользовался цветущим здоровьем, никогда почти не болел. Какое-то неясное предчувствие близкой катастрофы угнетало его в последние дни. Он всё упрашивал окружающих не оставлять его одного, одиночество пугало его, он его не мог выносить. Вскоре его нашли пораженным апоплексическим ударом. Будь подана своевременная помощь, его можно было бы спасти, но этой помощи не было, и Беккариа отошел в вечность 28 ноября 1794 года, имея 56 лет от роду. Смерть его прошла совершенно незаметной. Ни одна газета не поместила даже некролога, похороны были скромны, без венков и надгробных речей. Общественное мнение было тогда слишком занято грозными событиями, происходившими во Франции, готовившейся европейской войной, усиленной работой гильотины, рубившей головы граждан направо и налево, – не до скромного мыслителя, жившего и умершего философом, ему было дело. Совершенно верно замечает Канту, говоря о кончине этого «бесшумного философа», Filosofo senza strepito: «Едва Европа заметила, что Беккариа был великий человек, – он умолк». Зато потомство воздвигло ему в родном городе монумент[8] недалеко от чудесного Миланского собора, перед зданием окружного суда, члены которого, увы, не всегда следуют заветам этого доблестного гражданина.
Посмертная оценка сочинений доблестного «гражданина, дерзнувшего поднять свой голос в пользу человечества, против закоренелых предрассудков» – как гласит надпись на золотой медали, выбитой в его честь Бернским экономическим обществом, – отличается крайним разнообразием и пестротой суждений. Одни, например Вильмен, находят, что Беккариа обладал более чувствительным и великодушным сердцем, нежели проницательным и глубоким умом, что его трактат заслуживает вечной благодарности, но ничего гениального не заключает в себе. Другие утверждают, что Беккариа вовсе не был мыслителем. Он одинаково любил Гельвеция и Монтескье, не замечая разницы между этими писателями. Третьи говорят, что Беккариа писал в такое горячее время, когда научное знание уголовного права было излишне, когда, чтобы добиться реформы, талант заменял гений, а мужество – талант. Многие спрашивают, какое место занимает его трактат, что это такое: памфлет или серьезное творение? Да, это серьезное творение, в полном смысле слова. Беккариа не только разрушил обветшалое здание ненавистного законодательства, но составил план нового здания, подобрал подходящий материал, вырыл фундамент для этого здания. Его трактат не потерял своего значения и теперь. Не надо забывать его благородной и мужественной решимости провозгласить всенародно, что смертная казнь бесполезна, отрицать перед лицом всей истории, во имя человеческого сердца, прошлое, настоящее и холодный разум тех, кто желает быть представителями будущего… В области социальной философии XVIII века он не проложил новых путей, а шел по проторенной дорожке, и так далее.