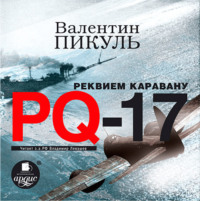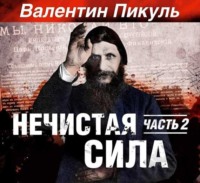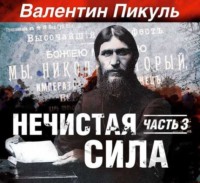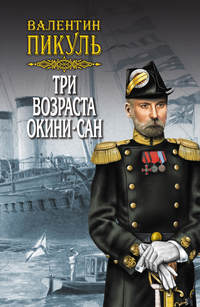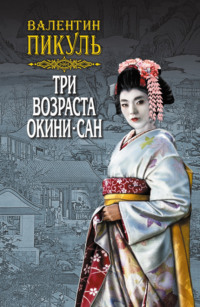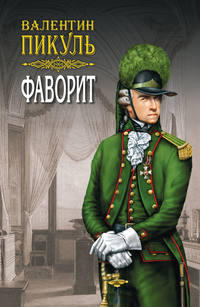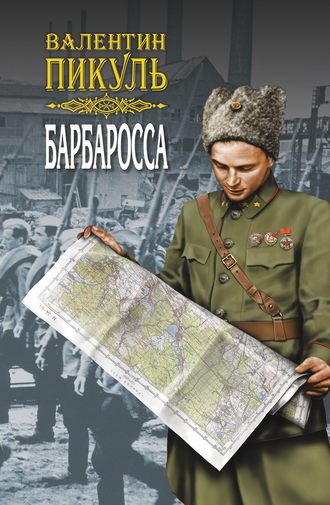
Полная версия
Барбаросса. Роман-размышление. Том 2
– Оладьи! С луковой или грибной подливкой… К сожалению, у меня строгая диета, а я должен оставаться в форме.
* * *Долго-долго тянулись от Барвенкова многотысячные колонны военнопленных, которых совсем не кормили. Потом, когда их загнали за колючую проволоку, всем дали – ешь, сколько влезет! – по миске круто сваренной баланды из могара. Наш художник Владимир Бондарец, угодивший в плен под Барвенковом, описал нам, каковы были последствия этой кормежки: «Многие сразу поняли весь ужас своего положения, перепуганно приуныли и целыми днями висели на краю зловонной ямы, пытаясь проволочной петлей извлечь из себя затвердевшую пищу. Но было уже поздно…» Тысячи, десятки тысяч трупов там и остались. Если бы Сталину рассказали об этом, он скорее всего ответил бы убежденно:
– А не надо было изменять родине…
Дикая мораль! По мнению Сталина, советский человек, если ему угрожает плен, обязан покончить с собой. Для «вождя народов» как бы не существовало многовековой военной истории, в которой всегда бывали пленные, но никакой тиран не требовал от своих верноподданных, чтобы они стрелялись, вешались, травились или резались. В самой идее Сталина было заложено безнравственное начало! Никогда не щадивший людей, он от людей и требовал невозможного – чтобы они тоже не щадили своих жизней.
Да, он умышленно не подписывал Женевскую конвенцию! Мне рассказывали люди, пережившие все ужасы гитлеровских концлагерей, что французы, англичане и прочие узники регулярно получали продовольственные посылки от Международного Красного Креста, и только наши бедолаги, взращенные «под солнцем сталинской Конституции», ничего не имели, умирая от голода. А немцы им говорили (и на этот раз, кажется, даже справедливо):
– Мы не виноваты, что вы доходяги! Надо было вашему усатому подписать женевские протоколы, тогда бы и вы не шатались от голода. А теперь – вон помойка! Иди и копайся в ней. Что найдешь – все твое будет…
Хочется эту тему продолжить. Англичане не меньше нас, русских, любят свою родину, но даже их традиционный «джингоизм» (ура-патриотизм) никогда не мешал им сдаваться в плен целыми гарнизонами, и в Англии их за это не клеймили позором, за решетку их не сажали. Но у нашего вождя было иное мнение о всех военнопленных, весьма далекое от примитивного гуманизма. Дело дошло до того, что однажды де Голль сообщил Сталину, что его люди проникли в тот концлагерь, где сидел его сын Яков Джугашвили, и разведка де Голля бралась вызволить его из неволи. Сталин на это предложение даже не ответил. Наверное, он и родного сыночка считал «изменником» (или «пропавшим без вести», как называли тогда всех, кто попал в плен).
…Прямо от стола гессенского зала «Фатерлянда», доев свои оладьи с подливкой, Паулюс вылетел на фронт. В полночь радист «юнкерса» принял из эфира депешу из канцелярии Геббельса, извещавшего Паулюса, что скоро пришлет в Харьков радиокомментатора Ганса Фриче, чтобы тот с места событий воспевал геройские подвиги его прославленной армии.
Паулюса на аэродроме в Харькове встречал верный Адам.
– Я уверен, – сказал ему Паулюс, – что фон Клюге, разыграв эту фальшивую операцию «Кремль», замаскировал внимание русских от наших южных направлений. Завтра мы и приступим…
Спал он очень мало, но рано утром в Красных Казармах Харькова, где когда-то размещались штабы Советской Армии, Паулюс сразу поднялся в оперативный отдел.
– Внимание! – распорядился он. – Прошу разложить карты большой излучины Дона, которая выгибается столь усердно, словно природа когда-то желала влить донские воды в Волгу.
Сразу засуетились десятки расторопных офицеров:
– В каком масштабе карты? В стратегическом?
– Нет. Сразу в оперативном. Уже в конце июля этого года мы должны быть в Сталинграде на Волге.
– Тогда прикажете готовить и карты Волги?
– Да, от Саратова до Астрахани. Я выбираюсь на черту, которую САМ и установил для вермахта два года назад… Внимание!
19. На пороге нашей победы
Итало Гарибольди, начернив усики и глядя на портрет Наполеона, с которым он не расставался с тех пор, как переболел триппером в Париже (еще до Первой мировой войны), уже входил в роль великого итальянского полководца. Проверив, как расположена на его груди гирлянда сверкающих орденов, он сказал:
– Такие вещи прощать нельзя! Затребуйте в Харьков выездную сессию военного трибунала, чтобы судить этого… как его? – Франческо Габриэли.
– Вот-вот! Этого негодяя надо расстрелять перед строем…
Вина берсальера Франческо была ужасна. Он сидел на завалинке избы в деревне Телепнево и ел огурец, украденный на ближайшем огороде, когда кто-то, проходя мимо, окликнул его:
– Опять жрешь. А сейчас твоего капитана Эболи шлепнули.
На это бравый берсальер встряхнул петушиным хвостом, украшавшим его каску, и, доедая огурец, изволил ответить:
– Ну и что? Одним меньше. Туда ему и дорога…
В бывшем клубе металлистов Харькова состоялся судебный процесс над Франческо Габриэли, где подсудимый оправдывался:
– Правда, ваша честь. Я не скрываю, что имел глупость произнести именно такие слова. Но как раз в этот момент я приканчивал огурец, и мой возглас «одним меньше» относился только к этому огурцу, а никак не к погибшему капитану Эболи, отдавшему жизнь за нашего короля и нашу славную партию.
– Вы тут не выкручивайтесь! – разъярились судьи. – Да, свидетели подтверждают, что вы ели огурец. Но после выражения «одним меньше» вы добавили слова «туда ему и дорога». Чем вы объясните свое предательское поведение?
– Правда, ваша честь, – сознался берсальер, начиная плакать. – Все так и было. Когда я увидел, что от огурца ничего уже не осталось, я сказал: «Туда ему и дорога!» При этом, ваша честь, я имел в виду свой ненасытный желудок, давно тоскующий по макаронам. Не мог же я запросы своего желудка сравнивать с геройской гибелью своего отважного капитана…
Суд вынес постановление: Франческо Габриэли намертво приковать к пулемету и посадить в обороне на самый опасный участок фронта, чтобы он отстреливался до последнего патрона. Ночью этот берсальер ушел к русским и утащил за собой пулемет. Там русские солдаты его расковали и накормили опять-таки огурцами, которых полно было тогда на брошенных огородах.
«Одним меньше!»
* * *А здесь – тоже суд, и нам уж не до юмора. На скамье подсудимых – жалкий, затравленный человек.
Но суд военного трибунала безжалостен:
– …гражданин П. А. Головченко, исполняя должность начальника вагонного депо сортировочной станции Сталинград-II, используя свое служебное положение, в первых числах мая сего года отцепил от воинского эшелона железнодорожную емкость-цистерну с авиационным спиртом, который и расходовал в корыстных целях. Исходя из законов военного времени гражданин П. А. Головченко приговаривается к высшей мере наказания – расстрелу! Подсудимого можно увести…
Чуянов ничего этого не знал, поглощенный повседневными заботами, которые обрушивались на него со всех сторон, требуя ежедневных, ежечасных, ежеминутных решений. Первые бомбежки Сталинграда (начались еще в апреле) не нарушили городского ритма, зенитным огнем отстояли цеха заводов от попаданий фугасок, но Рихтгофену удалось высыпать вороха зажигалок на жилые кварталы Рынка, на рабочие поселки СТЗ. Фронт надвигался. Из станицы Вешенской, где проживал М. А. Шолохов, сообщали, что их бомбят непрестанно.
Воронин удивлялся:
– За что так достается станице Вешенской?
– Как не понять? Популярность Шолохова исключительная, лишиться его сейчас – нанести рану всем нам, а заодно и порадовать Геббельса… Вот и сыпят осколочными! Я недавно видел Михаила Александровича, – сказал Чуянов, – он в ужасном состоянии и, подобно многим казакам, отказывается понимать, как это случилось, что немецкие танки уже вылезают к тихому Дону.
– Я тоже не понимаю, – сознался Воронин. – Черт его задери – этот Барвенковский выступ! С него-то все и началось. Как говорится, «пошли по шерсть, а вернулись сами стрижены…».
В это время у нас в стране с доставкой горючего все было более или менее в порядке, не хватало только высокооктановых сортов авиационного бензина (его поставляли нам союзники с караванами – через Мурманск). Москва постоянно требовала от Астрахани и Сталинграда энергичнее перекачивать в верховья Камы запасы жидкого топлива – судами «Волготанкер» или нефтеналивными баржами. С трудом, но справлялись! Сама цифра вывоза невольно ужасала – десять миллионов тонн, в первую очередь следовало спасать высокосортные нефтепродукты (бензин и лигроин). В низовьях Волги уже не знали, куда сливать запасы нефти, поступающие из Баку в немыслимых количествах. Емкостей для хранения не было.
Алексей Семенович срочно вылетел в Астрахань, где увидел гигантские нефтяные озера в искусственных ямах. «Немецко-фашистская авиаразведка, – писал он в дневнике, – непрерывно ищет эти склады… подняли на ноги всех пожарников. Всякое может быть – и бомба, и удар молнии в земляной склад, а тогда катастрофа неминуема». Чуянова порадовало скорое создание многопролетного моста через Волгу под Астраханью – мост позволял «протолкнуть» длиннейшие эшелоны, застрявшие на путях Кавказа.
Домой возвращался на попутном истребителе, который все время забирал в полете правее, в калмыцкие степи, чтобы не напороться на немцев; подлетая к сталинградской Бекетовке, издали видели шапки зенитных разрывов – это девушки-зенитчицы отстаивали от пиратов Рихтгофена элеватор, мясобойни и здание Сталгрэса.
Алексей Семенович выискивал скрытые резервы города.
– А что делают наши трамвайщики? – однажды спросил он.
– Как что? Людей возят. На работу и обратно.
– Бездельники! У них там свое депо, свои мастерские и старые рабочие кадры. Пусть наладят производство гранат…
Над столом Чуянова – плакат: «Все для фронта, все для победы!» Кирпичные заводы Сталинграда уже выдавали взрывчатку – динамон марки «О». Чуянов вспомнил, что в вагонном депо задержали сдачу бронепоезда фронту: не хватало спирта, нужного для обработки металла. На звонок в депо дежурная ответила, что инженера Головченко теперь у них нет:
– Под статью подвели. Наверное, давно ходанули.
– Головченко? – оторопел Чуянов. – Под статью? За что?
– Не знаем. Дело тут темное, а мы люди маленькие…
Воронин сообщил из НКВД, что тюрьма уже переполнена:
– Провели облавы по вокзалам и пристаням, в очередях. Взяли всех, кто без документов. Спекулянтов, дезертиров, хапуг, жуликов, паникеров. В донских станицах каждую ночь ловят диверсантов. Посылаю туда истребительный батальон.
– Стоп! Сначала доложи – что там с Головченко?
– Отцепил, гад, цистерну со спиртом и угнал к себе в депо.
– Спирт-то он пил?
– Нет. Все трезвые.
– Живой?
– Не знаю.
– Приостановить действие приговора…
– Постой! Он же ведь сам во всем сознался.
– К вам только попади, так сразу сознаешься, что это я велосипед изобрел… А я знаю Головченко, это честнейший человек, трудяга. Не спорю, что увел спирт. Просто он напоролся на нашу бюрократию. Дело в депо стояло, а под боком торчала на путях и эта цистерна со спиртом. Вот и пошел на преступление. Но ради дела общей победы… Головченко я не отдам! Буду жаловаться.
– Семеныч, да кому жаловаться-то?
– Лично товарищу Сталину. Если ты, начальник областного НКВД, однажды отыскал целый эшелон с пушками, то почему бы другому эшелону не потерять одну цистерну со спиртом? Понял? Или не дошло?
Воронин, уходя, оставил ему вражескую листовку. «Сталинградские дамочки, готовьте свои ямочки» – так и было написано.
– Во, заразы, – ругался Чуянов. – Хоть бы постыдились. И где они поэтов находят… однако все в рифму.
Чуянов, весь в запарке, уже издерганный, позвонил в Воронеж – секретарю тамошнего обкома партии Тищенко:
– Владимир Осипыч, как там справляешься?
– А… никак! – донеслось из Воронежа. – У меня в городе уже двадцать два госпиталя. Эвакуированные. С детишками. С мешками. Голодные. На вокзалах – стон стоит. По улицам гонят колхозные стада. Коровы ревут, их не успеваем выдаивать. Элеваторы забиты зерном. Молоть уже некогда. Зерно самовозгорается. А тушить – вода. Значит, зерно сгниет. В холодильниках всего навалом. Начиная со шпика и кончая банками с камчатскими крабами. Вывозить? Так нет транспорта. А есть транспорт, так нет бензина. Лимит, братец, лимит! Мне кричат из Москвы: «Вывози, такой-сякой-немазаный…» А как?
Чуянов выслушал коллегу, посочувствовал, ответил:
– Только не гони беженцев ко мне – Сталинград не резиновый. Со скотом тоже не знаю, как быть… Бомбят?
– Не очень. Уже привыкли.
– Ну, жди! Ты ближе. Западнее… Пока!
Только отговорил с Воронежем, звонок из Астрахани:
– Семеныч, это я – Голышев… Нас тут бомбами разнесли к чертям собачьим. В городе пожары. Деревяшки горят. Два часа без передыху садили по переправам. Водопровод не действует. Сидим без света. Но нефтехранилища уцелели… Мы тут сами диву даёмся: как немцы в самолетах сверху их не заметили?
Никак было не дозвониться в местный штаб ПВО, пришлось связаться с генералом Герасименко, начальником военного округа:
– Василий Филиппович, слышал ли? Астрахань уже разбомбили. Я на днях летел оттуда, так с высоты видел нефтяные ямы – они сверху как зеркала. Понимаю. Одеялом не закроешь. Но ты подумай сам: нужны ли над нефтехранилищами аэростаты? Что? Отпугивать врага? А может, наоборот, они привлекают? Эти «колбасы» и у нас в Сталинграде точно показывают немцам, где мы храним все свое горючее… Ладно. Ты зайди ко мне.
А потом думал: «Ну ладно – нефть. А как замаскировать от летчиков огненное зарево мартеновских печей? Ведь ночные бомбардировщики видят их пламя за многие мили и летят, как мухи на патоку… Чем тут закроешься?» Из Вешенской сообщили, что немецкая авиация недаром кружила над станицей: вчера бомба разорвалась как раз во дворе дома Шолохова:
– Мать писателя погибла. Михаил Александрович страшно переживает. Семью он потерял. Наверное, после похорон выедет к вам. Вы уж как-нибудь утешьте его… Ладно?
Вскоре Чуянова навестил командующий округом Герасименко:
– Жарко, Семеныч. А я к тебе… по важному делу.
– Садись. Я тоже замотан. Ну, что у тебя?
– Понимаешь, – начал Герасименко, прищелкнув пальцами для полноты впечатлений, – у нас в гарнизоне полно девах разных. По мобилизации. Ну, и добровольно. При зенитных батареях служат.
– Ну как же! Знаю. Уважаю.
– Уважения мало, – сказал командующий. – Их еще и одеть надо. У них там все по вещевому аттестату: гимнастерки, шапки, ватники… Все есть, сам понимаешь, но для девок этого мало.
– Так чего же им еще не хватает?
– А куда прикажешь титьки девать?
– Какие титьки? – совсем обалдел Чуянов.
– Самые обыкновенные. И нуждаются наши зенитные батареи как раз в том, что в вещевом аттестате солдату не предусмотрено.
– А что там?
– Нужны бюстгальтеры, а в наших магазинах, я уже пошукал, одни барометры для измерения атмосферного давления да еще вот такие громадные щипцы для завивки волос – и все!
– Слушай, дорогой, где я тебе бюстгальтеров наберу?
– Твое дело. Хоть тресни, а достань, – заявил Василий Филиппович. – Это еще не все: девка – организм сложный, на солдата мало похожий. Как хочешь, а каждый месяц ей по куску ваты давай… опять же в вещевом аттестате не предусмотрено, чтобы солдата ежемесячно ватой снабжали.
– Ну ладно, – сказал Чуянов. – Пошурую. Может, найду… Ах, Боже мой, какие мы, Филиппыч, все убогие да бедные. И ни хрена у нас нету. Чего ни коснись – все проблема…
Герасименко ушел. На пороге кабинета возник солдат штрафного батальона, бывший инженер вагонного депо П. А. Головченко:
– Пришел проститься перед отправкой… Спасибо, Алексей Семеныч, что не дали пропасть, как собаке. Штрафбат тоже не сахар, сами понимаете. Но тут хоть честно – до первой крови. А уж крови не пожалею. Войнища тут такая пошла…
Чуянов вышел из-за стола, обнял штрафника:
– Ты меня тоже прости. Если б мы умели работать как надо, тебе не пришлось бы воровать по ночам цистерны со спиртом… Хорошо, что зашел. Давай, брат, по стакану тяпнем перед разлукой. Так уж положено на святой Руси. Закуски, правда, нет, да и хрен с ней, рукавом утремся. – Выпили, утерлись, помолчали. – Куда ты теперь? Далеко ли? – спросил Чуянов.
– Да нет. Это раньше на войну далеко ходили… Вон Суворов аж в Италию забрался. А теперь… завтра уже буду в окопах!
Чуянов показал инженеру немецкую листовку: «Сталинградские дамочки, готовьте свои ямочки».
– Во какая поэзия у нас поехала. Хоть плачь, хоть смейся. Оказывается, Паулюс-то уже двадцать пятого июля обязан выйти к Волге, вот и нажимает на Дону. Но Сталинград не сдадим. Верю, что наш красноармейский ансамбль песни и пляски под управлением товарища Александрова еще споет и спляшет в Берлине…
– Я до Берлина не дойду… ухайдакают меня здесь, на пороге родного дома. Так что это хорошо, что мы выпили. В разлуку вечную. Ну ладно. Пора идти.
Головченко повернулся и ушел воевать – недалеко, здесь.
С улицы раздался трубный рев – это служители зоопарка повели к Волге купаться слониху Нелли.
* * *– Я надеялся, – говорил Паулюс, – что между сериями кратких блицкригов возникнут промежутки оперативных пауз, дающие нашей армии передышки. Но эти редкие паузы русские заполняют плотным сопротивлением, и потому война с Россией не даст нам времени, чтобы отдохнули наши кости и мышцы. Мне представляется, что урок, полученный Тимошенко под Харьковом, оказался внушительным, и сейчас Тимошенко ведет себя осторожнее, обращается с нами так, будто мы драгоценная хрустальная ваза.
Эти слова Паулюс высказал перед Иоахимом Видером, офицером его разведки; сын католического священника, он импонировал Паулюсу своей набожностью, считая себя на войне участником какого-то адского шабаша, в котором и сам он, Иоахим Видер, т о ж е повинен. Сейчас он, отвечая командующему, высказал мысль о том, что Тимошенко, давно загипнотизированный штурмом «линии Маннергейма», многому научился:
– У нас, у немцев! В боях под Харьковом маршал, кажется, хотел бы окружить нашу армию, используя те приемы «раковых клешней», что принесли вермахту успех в сорок первом… Но у русских явно не хватило нашего громадного опыта по окружению противника и нашей отличной организации.
Паулюс согласился с Видером, но не во всем:
– Пожалуй, Тимошенко стал осторожнее в обращении с нами, но я не заметил новизны в его тактике, сейчас он будет отступать, чтобы сберечь остатки того, что у него сохранилось…
В штабе его ждало письмо из Бухареста – от шурина Розетти-Солеску, пострадавшего за участие в заговоре против диктатуры Антонеску. Паулюс просил зятя не проговориться об этом:
– Жена очень любит своего брата, ее огорчит крах его камергерства при дворе короля Михая… Антонеску, между нами говоря, сущий спекулянт: он уже понял, что без его нефти в Плоешти нашему фюреру не разжечь даже примуса. И потому Бухарест набивает цену – на себя и на свою нефть… Конечно, пока мы не выбрались к промыслам Майкопа, мы будем всегда зависимы от этого пройдохи с повадками опереточного шулера!
– Но фюрер, – отвечал барон Кутченбах, – к Антонеску относится хорошо. Пожалуй, намного лучше, чем к Муссолини.
– Не спорю, – согласился Паулюс. – Но, будь в Италии залежи нефти, он бы облизывал под хвостом и Муссолини…
Этот разговор возник неспроста. Паулюс всегда интересовался румынскими делами, и не только потому, что был женат на румынке, но еще и по той причине, что румынские войска входили в подчинение его 6-й армии. Правда, немцы относились к союзникам пренебрежительно. «Макаронники хуже румын, – говорили они, – а кукурузники хуже макаронников». Как бы ни старался Антонеску угодить Гитлеру, поставляя ему по дешевке нефть и своих солдат, румыны всегда испытывали уважение не к немцам, а именно к русским, и эти чувства они переняли от своих дедов и прадедов, которые всегда видели в России свою защитницу, не раз выручавшую их в османской неволе. К своим офицерам румынские солдаты не питали особого почтения, а социальные перегородки сказывались даже в еде: если в германском вермахте солдаты и офицеры кормились из одного котла, то в армии Антонеску офицеры питались за особым столом, и этот стол был намного лучше солдатского. Может, по этой причине Паулюс неохотно посещал румынские части, чтобы не встречаться с недоверчивыми взглядами румынских солдат.
Паулюсу было известно, что говорили румынские солдаты: «Я боюсь сдаться в плен, русские посадят нас за колючую проволоку вместе с немцами, и тогда немцы отберут у нас последний кусок хлеба…»
Паулюс давно покинул тихую Полтаву и со всеми штабами армии переместился в Харьков, где на площади Дзержинского разместился с зятем в двухкомнатной квартирке. На кухне барон Кутченбах, скинув мундир эсэсовца и повязавшись передником, жарил на сковородке оладьи и варил кофе для своего тестя. Все это создавало обстановку некой семейственности. А по утрам зять брился перед зеркалом, тихонько мурлыча по-русски:
Утро красит нежным светомСтены древнего Кремля,Просыпается с рассветомВся советская земля…В постоянном общении с зятем Паулюс уже начал осваивать трудности русского языка; пусть даже коряво, но все же иногда он пытался вступить в разговоры с местными жителями. Между Паулюсом и зятем однажды возникла некоторая зловещая недоговоренность. Началось с пустякового вопроса Кутченбаха:
– Насколько вредны выхлопные газы танковых моторов?
– Не советую вдыхать. Это такая зараза, что любого из нас свалит в госпиталь с очень стойким отравлением легких.
– А куда списывают старые моторы танков, которые исчерпали свои технические ресурсы?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.