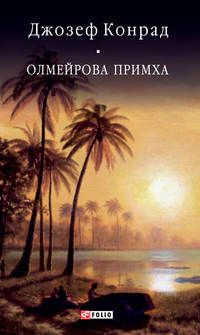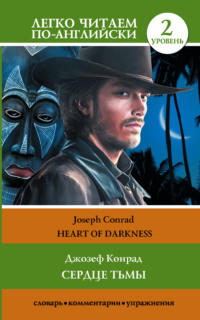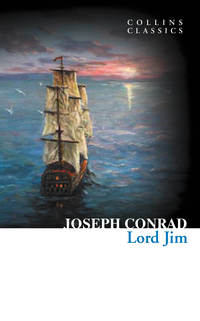Полная версия
Личное дело. Рассказы (сборник)

Джозеф Конрад
Личное дело
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2019
Личное дело
Предисловие без церемоний
Нас редко приходится уговаривать, чтоб мы рассказали о себе. Однако эта книжка появилась в результате дружеского предложения и даже некоторого не менее благожелательного давления. Я слегка поотпирался, но все тот же благожелательный голос со свойственной ему настойчивостью повторил: «Ну ты же знаешь, это надо написать».
Это, конечно, не довод, но я немедленно сдался. Надо так надо!
Все мы во власти слова. Кто хочет быть убедительным, должен вескому аргументу предпочесть меткое слово. Звук всегда доходчивее смысла. Я вовсе не умаляю значение смысла, но восприимчивость лучше раздумий. Раздумья не породили ничего великого – великого в смысле влияния на судьбы человечества. С другой стороны, невозможно игнорировать силу простых слов, таких, например, как Слава или Сострадание. Но – продолжать не стану. За примерами далеко ходить не надо. Произнесенные громко, настойчиво, уверенно и страстно, одним своим звучанием эти слова приводили в движение целые народы и взрывали сухую, жесткую твердь, на которой покоится вся наша социальная структура. А возьмите «добродетель»!.. Конечно, нужно позаботиться и об интонации. Правильной интонации. Она очень важна. Вместительные легкие, зычный глас или нежные трели. Да что там Архимед с его рычагом. Человек, поглощенный своими математическими размышлениями. Математиков я всемерно уважаю, но механизмы мне ни к чему. Дайте мне правильное слово и интонацию, и я переверну землю!
Вот мечта, достойная сочинителя! Ибо и у написанных слов есть своя интонация. Именно! Дайте только найти нужное слово! Наверняка оно лежит где-нибудь среди обрывков причитаний и ликующих возгласов, что людские уста исторгают с того самого дня, когда надежда, неугасимая и вечная, сошла на эту землю. Оно там, это слово – затерянное, неразличимое, совсем близко, – только протяни руку. Но тщетно. Нет, я верю, что есть те, кто способен легко найти иголку в стоге сена. Однако я не из таких счастливчиков. А ведь есть еще интонация. Еще одна загвоздка. Кто станет утверждать, верна ли интонация, пока слово не прозвучит, и не развеется, неуслышанное, по ветру, так никого и не тронув? Давным-давно жил император. Он слыл мудрецом и был не чужд сочинительства. На дощечках слоновой кости записывал он мысли, изречения, замечания, по счастью сохранившиеся в назидание потомкам. Среди других изречений – я цитирую по памяти – вспоминается одно торжественное напутствие: «Пусть высокая истина звучит во всех твоих словах». Высокая истина! Звучит! Все это здорово, но легко же было суровому императору строчить претенциозные советы. В этом мире в ходу приземленные, а не высокие истины; и были времена в истории человечества, когда произносивший высокие истины вызывал лишь насмешку.
Едва ли читатель рассчитывает найти под обложкой этой небольшой книги слова необыкновенной мощи или героические интонации. Как бы ни задевало это мое самолюбие, должен признаться, что советы Марка Аврелия не для меня. Они больше подходят моралисту, чем творцу. Все, что я могу вам обещать, – это далекая от героизма правда и абсолютная искренность. Та драгоценная искренность, что, оставляя человека безоружным перед врагами, может поссорить его и с друзьями.
«Поссорить», наверное, слишком сильно сказано. Сложно представить, что у кого-то из моих врагов или друзей нет других дел, как затевать со мной ссору. Лучше сказать «может расстроить друзей». С тех пор как я стал сочинять, большинство, если не все мои дружеские отношения завязались благодаря книгам; и я знаю, что писатель живет своей работой. Он погружен в нее, как единственный реальный персонаж созданного им мира, среди воображаемых вещей, происшествий и людей. О чем бы он ни писал – все это о себе. Но се же раскрывается он не полностью. Он как будто прячется за шторой; о его присутствии можно только догадываться, расслышав голос или уловив движение за складками повествования. В этих записях мне не за что прятаться. Мне все время приходит на ум фраза из трактата «О подражании Христу», где автор – монах, глубоко постигший жизнь, говорит, что «высоко ценимые люди, раскрывая себя, могут запятнать свое доброе имя». Именно этой опасности подвергает себя писатель, решивший говорить о себе открыто.
Пока главы этих воспоминаний выходили в прессе, меня нередко упрекали в расточительности. Будто бы я по собственной прихоти транжирю материал для будущих книг. Возможно, дело в том, что я не литератор до мозга костей. Ведь человек, который до тридцати шести лет не написал ни строчки для печати, не способен заставить себя воспринимать свой жизненный опыт, все умозаключения, ощущения и эмоции, воспоминания и сожаления, весь багаж собственного прошлого лишь как материал для работы. Года три назад, когда я опубликовал «Зеркало морей» – собрание впечатлений и воспоминаний, я получал схожие замечания. Практического толка. Но, по правде говоря, я никогда не понимал, что именно мне советовали приберечь. Я хотел отдать дань морю, кораблям и людям, которым обязан столь многим, которые сделали меня таким, какой я есть. Мне казалось, что только так я мог выразить свою благодарность минувшему. Относительно формы у меня сомнений не было. Возможно, эконом из меня и вправду никудышный, но это уже не исправить.
Я возмужал в особых условиях морской жизни и испытываю глубокое благоговение перед тем временем: впечатления от него были яркими, обаяние непосредственным, а требования – соразмерны нерастраченным силам и юношескому пылу. В них не было ничего, что могло бы смутить неокрепший ум. Я вырвался из родных пенатов под шквалом упреков от всякого, кто считал себя хоть сколько-нибудь вправе высказать свое мнение, и, очутившись на огромном расстоянии от естественных привязанностей, которые у меня еще оставались, был отчужден от них совершенно непостижимым характером той жизни, что таинственным образом заставила меня забыть свои корни. Сейчас я без преувеличения могу сказать, что в силу слепой воли обстоятельств морю суждено было заменить мне весь мир, а торговому флоту – стать моим единственным домом на долгие годы. Неудивительно, что в двух моих сугубо морских книгах – «Негре с Нарцисса» и «Зеркале морей» (и в нескольких морских рассказах, таких как «Юность» и «Тайфун»), – я попытался с почти сыновьим почтением передать биение жизни в огромной стихии воды, в сердцах простых мужчин, которые веками бороздят эту пустыню, и тот дух, что обитает на корабле – творении их рук, предмете их заботы.
Литературе часто приходится подпитываться воспоминаниями и возвращаться к беседам с призраками прошлого, если только автор не решил посвятить себя обличению человеческих грехов или восхвалению его мнимых добродетелей, а попросту – нравоучениям. Но я не изобличитель, не льстец и не ментор, поэтому все это не про меня, и я готов смириться со скромной ролью, отведенной тем, кто предпочитает не выпячивать своего мнения. Но смирение не есть безразличие. И я бы не хотел оставаться простым наблюдателем на берегу великого потока, увлекающего столько жизней. Я бы хотел обладать той степенью проницательности, что может быть выражена в словах сочувствия и сострадания.
Думается, что по крайней мере в одном авторитетном кругу критиков меня подозревают в некой бесстрастности, в мрачном безучастии – в том, что французы назвали бы sécheresse du coeur [1]. Пятнадцать лет непрерывного молчания, а затем множество как хвалебных, так и нелестных отзывов сформировали наконец мое отношение к критике, этому прекрасному цветку субъективности в саду литературы. Но подозрение это в большей степени касается именно человека – того, кто скрывается за текстом, и потому его уместно будет обсудить в книге, которая представляет собой личные записи на полях общей истории. Не то чтоб это меня хоть как-то задевает. Обвинения – если их вообще можно так назвать – предъявлены в самых взвешенных выражениях и весьма сочувствующим тоном.
Моя позиция состоит в том, что если всякий роман содержит элемент автобиографии – а это трудно отрицать, поскольку только в творчестве автор может отразить собственные переживания, – то непосредственное выражение собственных чувств для некоторых из нас просто невыносимо.
Я бы не стал чрезмерно превозносить способность к самообладанию. Чаще это вопрос темперамента. Но это не всегда признак равнодушия. Это может быть гордость. Для автора нет ничего унизительнее, чем пустить стрелу эмоции и промахнуться, не вызвав ни смеха, ни слез. Ничего более унизительного! И все потому, что выстрел мимо цели, когда открытая демонстрация чувств не трогает читателя, вызывает лишь отвращение или презрение. Не стоит упрекать художника, когда он втягивает голову от страха перед вызовом, который с радостью принимает лишь глупец и лишь гений осмелится не заметить. В работе, суть которой – в более или менее откровенном обнажении души, внимание к приличиям, пусть даже ценой успеха, является желанием сохранить достоинство человека, которое неразрывно связано с достоинством его произведений.
И потом, невозможно жить на этой земле в неомрачаемой радости или непрерывной печали. Комичное, когда речь о человеке, часто оборачивается страданием; да и беды наши (только некоторые, не все, поскольку именно способность к страданию возвеличивает человека в глазах других) – следствие слабостей, которые нужно встречать с участливой улыбкой, поскольку все мы не без греха. Радость и печаль в этом мире перетекают друг в друга, смешивая черты и голоса в сумерках жизни, непостижимой, как океан в тени облаков, когда ослепительно-яркий свет самых высоких надежд, пленительный и неподвижный, горит на самом краю горизонта.
Да! Я бы тоже хотел иметь волшебную палочку, чтобы повелевать смехом и слезами, ведь это признается высшим достижением художественной литературы. Только чтобы стать великим фокусником, нужно отдаться силам мистическим и безответственным либо в помыслах, либо в реальности. Все мы слышали о простаках, за любовь или власть продающих душу какому-нибудь карикатурному дьяволу. Даже самый заурядный ум без долгих размышлений поймет, что в такой сделке ничего не выиграешь. Потому и мое недоверие к подобным аферам не является признаком какой-то особой мудрости. Возможно, мое морское воспитание наложилось на естественную склонность держаться за то единственное, что принадлежит мне по-настоящему, – но правда в том, что я определенно страшусь пусть даже на одно мгновение утратить полную власть над собой – самообладание, которое является обязательным условием хорошей службы. А представление о хорошей службе я сохранил и в своей новой ипостаси. Я, никогда не искавший в письменном слове ничего, кроме воплощения Красоты, – перенес этот догмат веры с корабельных палуб в более тесное пространство рабочего стола и поэтому, полагаю, стал навечно ущербным в глазах не называемой вслух компании строгих эстетов.
Как в политической, так и в литературной жизни человек приобретает друзей благодаря силе своих предубеждений и последовательной узости взглядов. Но я никогда не мог полюбить то, что не вызывает любви, или возненавидеть то, что не вызывает ненависти, из одних только принципиальных соображений. Сочтете ли вы это признание смелым или нет, я не знаю. Когда половина жизненного пути уже пройдена, и опасности, и радости мы встречаем без особого волнения. Поэтому, ступая с миром, я продолжаю утверждать, что в стремлении нагнетать эмоции я всегда видел лишь проявление все обесценивающей неискренности. Чтобы по-настоящему тронуть, мы умышленно позволяем себе выйти за рамки обычного восприятия – почти невинно, по необходимости, подобно актеру, который со сцены говорит громче, чем в обычном разговоре, – но все же пересекать эту грань нам приходится. И большого греха в этом нет. Но опасность в том, что писатель становится жертвой собственных гипербол, теряет верную тональность искренности и доходит до того, что презирает уже саму правду – слишком холодна, слишком груба для него правда, – уж не чета она его ярким чувствам. От смеха и слез легко скатиться до нытья и подхихикивания.
Такие рассуждения могут показаться эгоистичными; но нельзя же, будучи в здравом уме, осуждать человека за заботу о собственной целостности. Это его прямая обязанность. И менее всего можно осуждать художника, как бы робко и небезупречно он ни преследовал свою творческую цель. В этом внутреннем мире, где его мысли и чувства бродят в поисках воображаемых приключений, нет ни полиции, ни закона, ни давления обстоятельств, ни страха перед чужим мнением, которые удерживали бы его в рамках. Кто ж тогда скажет «нет!» искушениям, если не собственная совесть?
А кроме того – здесь и сейчас, не забывайте, разговор идет начистоту, – я думаю, что любые устремления допустимы, кроме тех, что заставляют идти по головам, пользуясь человеческой доверчивостью и страданиями. Позволительны также любые интеллектуальные и художественные амбиции в пределах здравого смысла и даже за его пределами. Они неспособны никому навредить. Если они безумны, тем хуже для художника. В самом деле, подобно всякой добродетели, честолюбивое устремление – награда сама по себе. Разве это настолько безумно – верить в безграничную власть искусства, искать новые средства, новые способы утверждения этой веры, все глубже погружаясь в суть вещей? Желание проникнуть глубже не есть жестокосердие. Летописец сердец – не есть летописец чувств, он идет дальше, как бы ни был труден путь, ведь его цель – достичь самого источника смеха и слез. Жизнь человеческая достойна восхищения и жалости. Заслуживает она и уважения. И не жестокосерден тот, кто, наблюдая за ее коллизиями, откликнется сдержанным вздохом, но не рыданием, улыбкой, но не ухмылкой. Смирение, не религиозное и отрешенное, но осознанное и подкрепленное любовью, – вот единственное человеческое чувство, которое невозможно подделать.
Не то чтобы я думал, что смирение – это последнее слово мудрости. Я все-таки дитя своей эпохи. Но я полагаю, что истинная мудрость заключается в том, чтобы принимать волю богов, не зная точно, в чем она состоит и есть ли вообще у них воля. И в жизни, и в искусстве для счастья важно не Почему, но Как. Как говорят французы: «Il y a toujours la manière». Как это верно. Да. Всегда есть манера: и в смехе, и в слезах, в иронии, возмущении, энтузиазме, в суждениях и даже в любви. Манера, в которой, как в чертах и особенностях человеческого лица для тех, кто умеет смотреть на себе подобных, скрыта внутренняя сущность.
Читателю известны мои убеждения: мир, бренный мир людей, покоится на нескольких очень простых истинах, простых и древних, как он сам. Среди прочего он опирается на идею Постоянства. Во времена, когда только нечто революционное может рассчитывать на широкое внимание, я своими текстами не стремлюсь произвести революцию. Революционный дух чрезвычайно удобен тем, что освобождает от всех моральных принципов в угоду идеологии. Его непоколебимый, тотальный оптимизм отвращает мой разум, поскольку таит в себе угрозу фанатизма и нетерпимости. Подобные размышления, безусловно, могут вызвать лишь улыбку, но, не слишком преуспев в эстетике, я недалеко ушел и в философии.
Всякое притязание на исключительную правоту вызывает во мне насмешку и чувство опасности, не свойственное человеку с философским складом ума…
Боюсь, что, желая говорить понятнее, я начинаю излагать слишком сбивчиво, перескакивая с одного на другое. Мне так и не удалось освоить искусство беседы, искусство, которое, как я полагаю, теперь утрачено. Мое детство – время, когда формируются характер и привычки, – было наполнено часами долгого безмолвия. Голоса, его нарушавшие, к разговорам отнюдь не приглашали. Нет у меня привычки к разговорам. Однако сбивчивость эта в определенной степени даже уместна для последующего рассказа. Рассказ получился сбивчивый в результате пренебрежения хронологией (что само по себе преступление) и несоответствия принятым литературным формам (что выходит уже за всякие рамки). Меня всерьез предупреждали, что публика будет недовольна неформальным тоном воспоминаний. «Увы! – мягко возражал я. – Прикажете начать сакраментальным „Я родился тогда-то и там-то“? Моя родина слишком далека, чтобы вызвать интерес у читателя. Удивительные приключения не преследовали меня изо дня в день. Не было среди моих знакомых замечательных людей, о которых я мог бы припомнить забавный анекдот. Я не был замешан в известных или скандальных историях. Это своего рода психологическая летопись, но даже в ней я не желаю навязывать собственные умозаключения».
Но мой критик не унимался. «К чему оправдываться в том, что уже написано, если имелись серьезные основания не писать вовсе», – говорил он.
Допускаю, что все, почти все на свете может послужить весомым аргументом в пользу решения – не писать. Но раз уж воспоминания написаны, мне остается сказать в их защиту одно: составленные без оглядки на общепринятые правила, эти мемуары – не беспорядочное словесное извержение. В них есть надежда и цель. Надежда, что по прочтении этих страниц может сложиться представление о личности человека, стоящего за столь разными книгами, как, скажем, «Причуда Олмейера» и «Тайный агент», и все же человека неслучайного и последовательного как в мотивах, так и в поступках. Это – надежда. Непосредственная же цель созвучна надежде и состоит в том, чтобы записать личные воспоминания и правдиво передать чувства и переживания, связанные с рождением моей первой книги и первым знакомством с морем.
В совместном звучании двух этих натянутых струн дружеский слух, надеюсь, различит некую гармонию.
Дж. К. К.
Примечание автора
Переиздание этой книги, строго говоря, не требует нового предисловия. Но, коль скоро лучшего места для личных замечаний не найти, я воспользуюсь возможностью в этой части обратиться к двум темам, которые, как я заметил, последнее время часто обсуждаются, когда речь заходит обо мне в печати. Первая из них затрагивает вопрос языка. Я всегда ощущал, что на меня смотрят как на некий феномен, – и такое суждение вряд ли можно назвать завидным, если только вы не выступаете на арене цирка. Нужно быть человеком особого склада, чтобы получать удовлетворение от возможности намеренно совершать нелепые поступки из чистого самолюбования. Тот факт, что я пишу не на родном языке, конечно же, обсуждался почти в каждой заметке, обзоре и более пространных критических статьях, посвященных различным моим произведениям. Полагаю, это неизбежно; нет сомнений в том, что эти комментарии могли бы польстить авторскому самолюбию. Но только не моему: в этом вопросе я лишен его совершенно. Да и взяться ему неоткуда. Первая задача этого предисловия – убедить читателя, что осознанный выбор языка не является заслугой.
Распространено представление, будто я вынужден был выбирать между двумя неродными для меня языками – французским и английским. Это представление ошибочно. Я вижу его истоки в статье, написанной сэром Хью Клиффордом и опубликованной в 1898-м году минувшего века. Немногим ранее сэр Клиффорд нанес мне визит. Он был если не первым, то вторым моим другом, обретенным благодаря работе (вторым был мистер Каннингем-Грэм [2], которого, что характерно, покорил мой рассказ «Форпост прогресса»). Эти дружеские отношения, выстоявшие до сего дня, я отношу к самым драгоценным своим достояниям.
Мистер Хью Клиффорд (в то время он еще не был удостоен рыцарства) только что опубликовал первый том своих малайских записок. Я был искренне рад его видеть и бесконечно благодарен за теплые отзывы о моих первых книгах и нескольких ранних рассказах, действие которых происходило на Малайском архипелаге. Я помню, что после всех добрых слов, от которых я должен был покраснеть до корней волос, произнесенных им с возмутительной сдержанностью, он с непреклонной и в то же время доброжелательной настойчивостью человека, привыкшего говорить нелицеприятную правду даже восточным властителям (для их же, конечно, пользы), заметил, что я не имею ни малейшего представления о малайцах. Я и сам прекрасно это понимал. Я никогда не претендовал на это знание, и взволнованно парировал (и по сей день я поражаюсь своей наглости): «Конечно, я ничего не знаю о малайцах. Если бы я знал о них хоть сотую долю того, что знаете вы и Франк Светтенхам, от моих книг было бы не оторваться». Он некоторое время доброжелательно, но строго смотрел на меня, пока мы не расхохотались. В ту памятную для меня встречу двадцатилетней давности мы успели поговорить о многом; среди прочего – о характерных особенностях разных языков, и именно в тот день у моего друга сложилось представление, что я сделал осознанный выбор между французским и английским. Позже, когда дружеские чувства (совсем не пустой для него звук) сподвигли его написать заметку о Джозефе Конраде в «Норт Американ Ревью», он поделился этим представлением с публикой.
Ответственность за недоразумение, а это было не что иное, безусловно лежит на мне. Должно быть, в ходе дружеской и доверительной беседы, когда собеседники не слишком тщательно подбирают слова, я недостаточно ясно выразился. Помнится, я хотел сказать, что если бы мне пришлось выбирать между языками, я не решился бы на попытку самовыражения на таком «кристаллизованном» языке, как французский, – хотя и говорю на нем достаточно хорошо с самого детства. «Кристаллизованный» – уверен, я употребил именно это слово. А затем мы перешли к другим темам. Мне пришлось немного рассказать о себе, его же рассказы о работе на Востоке, о том особенном, его личном Востоке, о котором у меня были лишь обрывочные, весьма туманные представления, полностью меня поглотили. Возможно, нынешний губернатор [3] Нигерии запомнил эту беседу не так хорошо, как я, и он вряд ли станет возражать против того, чтобы я, как говорят дипломаты, «ректифицировал» [4] заявление малоизвестного писателя, которого, следуя порыву щедрой души, он нашел и сделал своим другом.
А правда в том, что мое умение писать по-английски – такая же природная способность, как любые другие врожденные данные. У меня есть странное чувство непреодолимой силы, что английский – всегда был неотъемлемой частью меня. Это никогда не было вопросом выбора или овладевания. У меня даже мысли не было выбирать. Что касается овладевания – да, оно случилось. Но это не я, а гений языка овладел мной; гений, который, не успел я толком научиться складывать слова, захватил меня настолько, что его обороты – и в этом я убежден – отразились на моем нраве и повлияли на мой до сих пор пластичный характер. Это было очень интимное действо и потому слишком загадочное, чтобы пытаться его растолковать. Задача невыполнимая – это как пытаться объяснить любовь с первого взгляда. То был восторг единения, почти физическое узнавание друг друга, та же душевная уступчивость, та же гордость обладания – и все это скреплено уверенностью, что никто никогда еще не испытывал ничего подобного, что ты первым ступил на эту землю. И чувство это не омрачала и тень того гнетущего сомнения, что осеняет предмет нашей недолговечной страсти, даже когда она сияет в самом зените.
У первооткрывателя меньше прав, чем у законного наследника, и оттого обретенное имеет для него куда большую ценность и накладывает пожизненное обязательство – оставаться достойным своей великой удачи. Но вот я и пустился в объяснения, хотя совсем недавно объявил это невозможным. Если в процессе активного действия мы можем с трепетом наблюдать, как Невозможное отступает перед неукротимостью человеческого духа, то Невозможность отрефлексировать, подвергнуть анализу – всегда проявится так или иначе. Все, на что я могу претендовать после долгих лет прилежной практики, каждый день которой прибавлял мучительных сомнений, несовершенств и колебаний – это право заявить, не представляя доказательств, что если бы я не писал на английском, я не писал бы вовсе.
У меня есть еще одно уточнение – тоже своего рода «ректификация», хоть и менее прямолинейная. Оно не имеет ни малейшего отношения к средствам выражения и касается моего писательства в другом смысле. Мне ли критиковать моих судей, тем более что я всегда полагал их самыми справедливыми и даже сверх того. И все-таки мне кажется, что они, несмотря на неизменный интерес и симпатию, слишком многое из того, что присуще лично мне, относили на счет национального и исторического влияния. Так называемая в литературных кругах «славянская душа» предельно чужда польскому характеру с его традиционной сдержанностью, галантной нравственностью и даже чрезмерным уважением к правам личности. Не говоря уже о том важном факте, что сам польский менталитет, западный по духу, сформировался под влиянием Италии и Франции и исторически всегда оставался, даже в религиозных вопросах, в согласии с наиболее либеральными течениями европейской мысли. Непредвзятый взгляд на род людской во всем его великолепии и убогости в сочетании с особым вниманием к правам угнетенных, не из религиозных соображений, но из чувства товарищества и бескорыстной взаимопомощи – вот основная черта интеллектуальной и нравственной атмосферы тех домов, что стали убежищем моему тревожному детству. Все это на основании спокойного и глубокого убеждения – неизменного и последовательного, бесконечно далекого от того человеколюбия, которое есть не более чем следствие расшатанных нервов или нечистой совести.