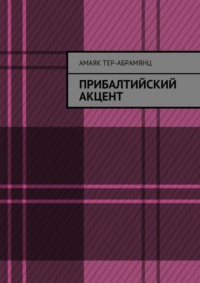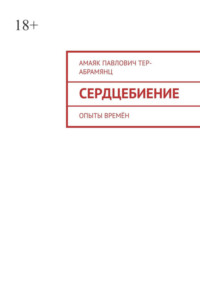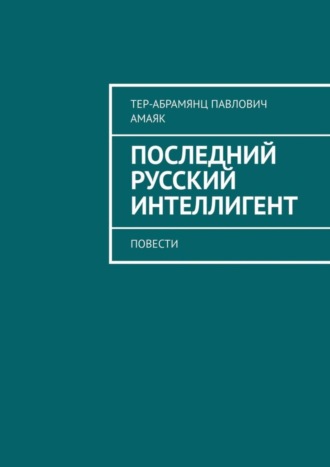
Полная версия
Последний русский интеллигент. Повести
В романе «Желтое облако» хитрые правители Луны уничтожали прибывшие космические корабли специальным разрушающим железо желтым газом, но это, конечно же, им не помогло, ибо законы Маркса действуют не только на Земле, но и во всей Вселенной.
Но общим для всех этих рассказов, повестей и романов, и наших, и зарубежных – была мечта о существовании на Луне жизни! Надежда эта, с получением все новых данных и фотографий поверхности Луны от беспилотных аппаратов все более уменьшалась и окончательно рассеялась, когда на Луну шагнул первый человек, американец Нейл Армстронг. Луна оказалась всего лишь космической пустыней. Не обнаружена была жизнь ни на Марсе, ни под облаками загадочной Венеры, и чем дальше человечество продвигается во Вселенную, тем все более раскрывается беспредельность его одиночества.
8.Водолаз
Это случилось летом. Наверное, в воскресенье. Я помню людей, стоящих, с лицами, обращенными к Семипалатинке, и повторяемое везде: «Утонул… Утонул…». Из слов окружающих стало ясно, что произошло. Компания мальчишек отправилась на реку без родителей. Они плавали и ныряли. Один не вынырнул. Его товарищ вышел на берег, сел рядом с вещами и, глядя на реку, тихо и растерянно повторял: «…А Коля утонул… А Коля утонул…» Загоравшие рядом взрослые наконец обратили внимание на его слова, спросили, что случилось. Кто-то помчался на спасательную станцию. «Где родители? Где родители? – раздавались женские голоса. – Позовите родителей!…»
На место происшествия прибыл катер с водолазом. В моем представлении водолаз был кем-то необыкновенным, кровно связанным с морем, затонувшими кораблями, схватками с гигантскими осьминогами, и вот довелось увидеть его занимающимся таким невеселым страшным трудом.!… Все как на картинках – резиновый костюм, металлическая круглая голова с круглым окошком… Казалось, это особое существо, которое и ест и спит в этом виде. Вот он исчез под водой в том месте, где показал мальчик. Весь берег ждал, затаив дыханье.
Наконец, прокатилось шепотом и криком: «Вот… вот… вот… Смотри!…»
Показался водолаз с чем-то длинным, телесно блестящим в лапах. Из-за плеч и спин я увидел лежащего на борту спасательного катера мальчика, которому зачем-то сгибали и разгибали руки и ноги.
– Искусственное дыханье, – пояснил отец. – Уже бесполезно…
Я не очень верил: мальчик ничем не отличался от живых, разве тело было бледнее: ну что ему стоит встать и пойти!…
– Коряга… коряга… нырнул и застрял в коряге… – повторяли вокруг.
Родители собрали вещи, и мы невесело двинулись домой.
Когда переходили мост, навстречу нам по крутому голому берегу спускался человек. Держался он неестественно прямо, а склон ускорял его шаг до бега. Все смотрели на него.
– Отец, – тихо сказала мама, – это его отец… бледный, как полотно!
До сих пор помню этого человека – в белом кителе, широких белых парусиновых брюках, лет тридцати – невысокий, коренастый, русоволосый, с открытым лбом… Его красивое застывшее лицо все же не было «белым, как полотно» – сквозь его смуглоту просвечивала некая восковость.
9. Папиросный дым.
Были – красные пачки папирос «Прима», были – коробки «Казбека» с лихо скачущим всадником в папахе и бурке на фоне снеговой горы, пачки «Памира» – вооруженный альпенштоком восходитель стоит перед вершинами, но чаще всего, вытеснившая потом всех новинка – пачки сигарет «Беломорканал» с картой схемой – синяя нитка канала через розовое прстранство страны от Москвы до Белого моря.
Сразу же после окончания первого ленинградского медицинского института отца мобилизовали в первую дивизию НКВД, несшую охрану канала. Про канал этот бытовал мрачный и недалекий от истины анекдот: на одной стороне его копали те, кто рассказывал политические анекдоты, на другой – те, кто их слушал.
Нет, то не была ностальгия, просто сигареты эти нравились ему больше других, и благодаря длинным полым бумажным гильзам крошки табака не попадали в рот, как это бывало с «Примой».
В среде воинов НКВД процветало взаимное доносительство, то и дело кого-то арестовывали и объявляли «врагом народа» за неосторожное слово. Слова как никогда явили свою смертоносную силу, и люди старались вообще избегать их: однажды ему пришлось целые сутки ехать из Ленинграда в одном купе с офицером НКВД и целые сутки они молчали! Поговорка «Слово – серебро, молчание – золото», устарела: слово не было серебром, оно пахло смертью.
– Никогда я не говорил о политике, ни с кем, слышу кто-то начинает, встаю и сразу ухожу, а наутро в спецотдел вызывают, и у тех, кто говорил спрашивают, он присутствовал? – нет… Только потому и выжил. А однажды все же приехали арестовывать, но в тот день стало известно, что арестовали Ежова, и все отменилось!
Обстановка была тягостной, и отец постоянно подавал прошения о переводе его в Ленинград, где жили жена и дочь. Перевели перед самой войной. Так он и попал в Ленинградскую Блокаду. Но даже во фронтовых блиндажах и землянках морально было легче: в обычных строевых частях люди не боялись многое говорить, здесь были надежные друзья, которым можно было верить, которые не побегут тебя продавать.
А до Блокады, до лагерей Беломорканала, были годы сиротских скитаний, ранняя гибель родителей, страшные картины геноцида армян и унижение все потерявших беженцев. Но обо всем этом говорить было нельзя: Турция почти дружественное государство, расскажешь о лагерях – сам туда попадешь, а если о войне, то только о подвигах, а не о страданиях и неисчислимых бессмысленных жертвах…
Зато можно было курить «Беломор», и он курил и курил, будто пытался сжечь в табаке тоску невысказанности. И все беды, потери, страдания обращались в дым, в упрямое неверие никому и ни во что. И в комнате часто стояли эти синие облака, расползались, струились, волокнились, растворялись, и я вдыхал этот жестокий дым неверия, ибо в медицине еще не существовало понятия «пассивный курильщик».
Пепельница наполнялась смятыми пустыми гильзами до краев, дым уходил, однако оставляя в сердце боль, и тогда он брался за грудь и говорил, что здешний казахский климат слишком тяжел для него.
– А ты брось курить, – советовала мама.
– Никогда!…
10. Наши песни
А песня лилась и разливалась из радиоприемника: « Широка страна моя родная / много в ней лесов полей и рек/ Я другой такой страны не знаю/, где так вольно дышит человек!…» Песня в общем-то замечательная, какой-то особенной щедростью легко ложащаяся на душу и музыкой, и словами. Песня служила власти, как обманутая чистая красавица служит на потеху Соловью-Разбойнику, воображая в нем доброго витязя.
Одно было бесспорно в ней, что страна необычайно громадна и широка, и кому как не моим родителям было это не знать! «С южных гор до северных морей»! … – Видел ее отец от армянских гор до лагерей в болотах Карелии, знал, что подавляющее большинство людей попадало туда за случайно обороненное слово, истолкованное затем как антисоветская агитация, а то и просто по навету соседа по коммуналке, которому, к примеру, могло не понравиться, что ты носишь очки и выглядишь слишком умным и гордым.
Его всегда изумляло, когда он читал в наших газетах о «нарастающей борьбе людей труда в странах капитала». Неужели там можно критиковать правительство? Неужели за слово там не расстреливают и не ссылают в лагеря?… – Нет, значит, они не прошли еще нашего, значит, у них все впереди!…
Нет, он не мог петь эту песню с дядей Борей за одним столом, хотя из их голосов получился бы неплохой дуэт, – язык, видно, не поворачивался на словах: «Я другой, такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!»…
И мама проехала страну от Украины до Ташкента, «от Москвы до самых, до окраин», до Дальнего Востока по дороге в Корею и Китай, где работала два года в экспедиции чумологов. И в дальней дороге в поезде Москва-Владивосток распевала с подругами и соседями по вагону, моряками и летчиками, эту и другие популярные тогда песни: «Мы летим ковыляем во тьме, мы летим на подбитом крыле…», «Три танкиста, три веселых друга – экипаж машины боевой!», «Броня крепка и танки наши быстры…». Но помнила, помнила, глубоко хороня от других, иную песню – из иной жизни, из разоренного детства: «Соловки, Соловки, дальняя дорога/ В сердце грусть и тоска, на душе тревога!…»
Пешком прошли сто километров до города Бобринец мать с младшей двенадцатилетней дочерью, спасаясь от этих Соловков, бежали в одночасье из родного хутора Устиновка. И, умирая от голода, мать своей дочке завещала никогда никому, ни даже будущему мужу, ни даже будущим детям, не рассказывать кто ее родители и откуда она, чтобы не висело всю жизнь на дочери клеймо «раскулаченные», а значит, классового врага: только имя знаю, а дальше – ничего не помню… Впрочем, тогда это не могло показаться странным: миллионы беспризорников, не помнивших своих родителей, бродили по стране.
Чудом сохранилась фотография моего украинского деда Сергея на паспарту: в солдатской форме, вместе с двумя такими же дружками солдатиками – стоит слева: высокий лобастый хохол с пронзительными смешливыми глазами и вздернутой левой бровью. На заднем фоне фото – складки портьеры и какая-то эллинистическая ваза. Фото, очевидно, сделано перед отправкой на фронты Первой Мировой.
После распада русского фронта и возвращения служил в Красной армии, очевидно, по мобилизации, а брат родной его в то время – у белых офицером!
Дед Сергей недолго прожил после гражданской: умер от какой-то болезни, судя по рассказам, рака кишечника, успев, однако, народить с женой Полиной четырех дочерей, младшая из которых была моя мама.
Младшенькая, в отличие от старших сестер к ведению обширного хозяйства особенной любви не проявляла: строптивая и сообразительная, резкая на язык, то гоняла с соседскими мальчишками, то могла вдруг уйти от всех, лечь на траву и мечтать, глядя на облака и воображая себе какую-то иную, необычайную жизнь. За это, наверное, и дразнили ее мальчишки «аристократкой».
А однажды вскочила на необъезженного жеребца и поскакала, и едва не убил он ее, сбросив на камень: на всю жизнь остался с тех пор крохотный шрамик над левой бровью.
«Учительницей будет!» – определил ее будущее отец семейства, будто почувствовав душу, которой тесна будет крестьянская доля, – из всех дочек ей и намечено было дать образование.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.