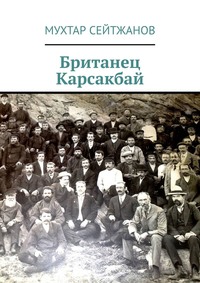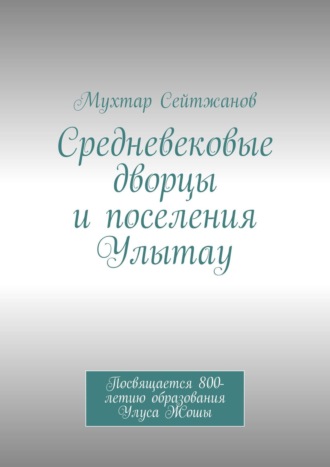
Полная версия
Средневековые дворцы и поселения Улытау. Посвящается 800-летию образования Улуса Жошы
В начале VIII века огузы в союзе с карлуками и кимеками, в результате продолжительных войн, вытеснили кангаро-печенежский союз и захватили низовья Сырдарьи и Приуралья, тем самым открыв свободный доступ к бассейну реки Сарысу и металлургическим поселениям Жезказгана. В конце IX века, в союзе с хазарами, огузы нанесли поражение печенегам и захватили междуречье Волги и Урала.
Длительные военные действия сформировали консолидированное государственное объединение всех тюркских племен Сырдарьи и арало-каспийских степей, а также кочевников Жетысу и Сибири. Основной племенной состав Огузского государства состоял из племен халадж, жагр, чарук, карлук, имур, баяндур, кай и т. д. Всего, по Махмуду Кашгари в государстве Огузов насчитывалось 24 племени, которые делились на бузуков и учуков по 12 племен в каждой партии.
В Х веке, под влиянием кимеков и кыпчаков, огузская держава раскололась на две части. Восточная часть состояла из «сегиз огузов» (найманы) и «тогуз огузов» (кереи), которые во время засухи Х века были вынуждены уйти в Алтайские горы и леса северо-западной части Прибайкалья. В XI веке, между Алтаем и Тарбагатаем они создали свое независимое ханство и приняли христианство несторианского толка. Западные огузы были вытеснены в современный Туркменистан, от которых позже откололись сельджуки, откочевавшие в Малую Азию.
Феодальная верхушка огузов, состоявшая из главы государства «джабгу», его заместителей кюль-еркинов и предводителей племен во главе с сюбаши, уже в VII – VIII веках окончательно решила для себя находиться в степи круглый год и, с этой целью, на берегах горных рек Улытау начала возводить вполне комфортабельные для того времени резиденции. В бассейне реки Сарысу один за другим появились дворцы, укрепленные глинобитными стенами, с характерными фланкирующими башнями и углами, направленными по четырем сторонам света. В таких крепостях Западной Сары-Арки, как Аяккамыр, Баскамыр, Хан ордасы (Аксай) были построены цитадели, что и доказывает факт применения этих дворцов круглогодично. Об этом также свидетельствует наличие древних следов пашен, которые обеспечивали жителей поселений земледельческой продукцией.
Стороннему наблюдателю за историческими процессами в Великой степи может показаться, что отсутствие на карте больших городов есть результат скудности водных ресурсов, что приводило лишь ограниченной утилизации ресурсов степи кочевыми хозяйствами. Если Торгайское плато лучше обводнено ручьями и притоками Тобола и Ишима, то скудность воды и травостоя в степях Улытау компенсировали металлургические центры Жезказган, Талдысай и другие.
Наряду с сезонным пастбищным скотоводством у огузов была высоко развита городская культура, которая в степной части основывалась на металлургии. Жезказганские рудокопы, металлурги, ремесленники и ювелиры производили продукцию, которая была основной в вопросе пополнения государственной казны.
Следы добычи золота были обнаружены К. Сатбаевым при обследовании месторождений Мык, Алтыншокы и Обалы. При исследовании месторождений древних горняков К. Сатбаев приводил первые расчёты об объёмах добытой руды и процентном содержании металла в отвалах изучаемых объектов. Этому способствовали изученные главным геологом Карсакбайского медеплавильного комбината работы английских геологов Уэста и Гарвэя.37

Древние рудокопы-металлурги. (Фото автора с экспозиционной диорамы Музея истории горного и плавильного дела посёлка Жезды).
Алькей Маргулан отмечает наиболее крупные поселения Жезказгана, как Мыйлыкудык, Айнаколь, Соркудык, Кресто-Воздвиженское (Кресто), Златоуст. Эти поселения были расположены в цепочку, с интервалом в 3—8 км, вдоль притоков рек Кенгир и Жезды. Поселения были обнаружены в виде группы ям со скоплением фрагментов керамики и орудий горного дела.
Главным и самым крупным из этих исторических памятников Жезказгана является Мыйлыкудык или, как его называло тогда местное население, Елюкудык, то есть «пятьдесят колодцев», из-за наличия здесь многочисленных остатков медеплавильных печей в виде колодезных ям. Площадь поселения и следы производственной деятельности достигали более 10 га, состоящая из следов жилищ-полуземлянок, хозяйственных и складских помещений, а также мастерских по производству орудий труда и металлических изделий. Производственный процесс на Мыйлыкудык продолжался до позднего средневековья.
Об этом свидетельствует Абу-л Газы, который, рассказывая о территории государства огузов, пишет: «На восток юрты огузского эля простирались до Иссык-Куля и Алмалыка, на юг – до Сайрама и гор Казыгурт-таг и Караджык-таг, на север – до гор Улуг-таг и Кичик-таг, в которых медь добывают». Учитывая то, что «Родословную туркмен» Абу-л Газы написал в XVII веке, можно с уверенностью закрепить за источником роль документального свидетельства о добыче меди в Жезказгане в этот период, так как о добыче меди летописец пишет в настоящем времени.
Следующим по значимости является поселение Айнаколь, расположенное в 5 км к востоку от рудника Кресто-Центр, недалеко от Никольского участка. Площадь поселения составляет около 2 га. Нижний культурный слой отражает период позднего неолита. Здесь установлены остатки восьми полуземлянок в виде прямоугольных ям, выявлены такие же остатки водосборных ям, ям кладовых, колодцев, обложенных камнями, мест разработки и обогащения руды, медеплавильных печей, как и в Мыйлыкудыке.
Не менее значимым после Мыйлыкудыка является поселение Соркудык, расположенное в 15 км севернее от поселка Жезказган и впервые исследованное А. В. Кузнецовым и Н. В. Валукинским в 1945 году. На обширной территории расположились памятники эпохи бронзы и средневековья, что свидетельствует о существовании здесь металлургии вплоть до прекращения функционирования Великого Шелкового пути. Поселению характерны сложная система водозабора с каналами и плотиной, тамбурообразные жилища с мощными каменными стенами более позднего периода. В полутора километрах от Соркудыка была обнаружена еще одна стоянка древних металлургов Таскудык.38

Полуземлянки металлургических поселений Улытау. (Фото автора с экспозиции Музея истории горного и плавильного дела посёлка Жезды).
Металлургические поселения Жезказгана имеют некоторые особенные отличия от памятников Центрального Казахстана. Огромные проходки здесь достигали 750 метров в длину и 25 метров в ширину, что говорило о многовековой добыче медной руды. Поселения отличались сложной системой промышленного цикла переработки и плавления меди.
Кроме того, исторические источники говорят о наличии у огузских правителей Жезказгана большого количества золота и серебра. Это говорит об умении средневековых жезказганских металлургов расщеплять драгоценные металлы от медной руды, то есть они умели применять методы плавления меди, которые отрабатывались на Карсакбайском медеплавильном заводе в ХХ веке. В то же время древние насельники знали закономерности залегания золотых жил в кварцевых отложениях вокруг Улытауских гор, то есть владели геологическими методами, применяемыми в современной науке.
В то же время, жезказганские поселения имеют много общего с другими районами Сары-Арки. Им характерно наличие таких особенностей, как мощные каменные стены полуземлянок, большие погребальные поля, шахты большой глубины и внушительного диаметра, выработки и карьеры, разносы и отвалы, большое количество медеплавильных печей, образующих, по мнению Н. Валукинского, в Мыйлыкудыке целый средневековый завод. К тому же, на поселениях ЦКАЭ обнаружило скопление шлаков, орудий труда рудокопов, плавильщиков и ремесленников.
Жезказганским поселениям характерно наличие фрагментов многочисленных хозяйственных и ирригационных сооружений, водонакопительных плотин, образующих искусственные водоёмы, которые являлись прародителями нынешних Кумолинского, Кенгирского, Жездинского водохранилищ. В комплексе Жезказганских металлургических поселений археологами выявлено большое количество ям-кладовых и водоносных колодцев.
Уже по прибытии в Жезказган Алькей Хаканович обнаружил, что такие поселения, как Кресто и Златоуст были полностью перекрыты новостройками. Дело в том, что до Второй мировой войны ни англичан, ни большевиков, во время рассмотрения вопроса о проектировании жилищного строительства, не заботила проблема сохранения археологических памятников.
Тем не менее, в целях изучения объемов медных залежей, еще до революции в Мыйлыкудыке была заложена траншея, когда были обнаружены отвал переработанной руды и горные орудия. С целью определения объемов обогащенной руды на Мыйлыкудыке, по инициативе К. И. Сатбаева, в 1939 году были заложены широкие и глубокие траншеи. Во время строительства железной дороги между нынешним поселком Весовая и ЧКМ обнаружились культурные слои этого поселения. (Маргулан А. 2011, с. 57).
Металлургические поселения были доминирующими субъектами в экономике региона и являлись главным фактором торговых взаимоотношений местных государственных образований с другими. Они были главной опорой в вопросе пополнения государственной казны. Поэтому, производство меди и торговля ею были важным объектом внимания в регионе на протяжении средневековья. По расчётам К. Сатбаева, в Жезказгане, за всё время функционирования поселений, металлургами было добыто около 1 миллиона тонн руды и выплавлено 100 тысяч тонн меди. Мастера и ремесленники отливали кинжалы, наконечники стрел и копий, предметы конской упряжи, украшения. Для отливки изделий использовались различные формы, изготовленные из камня и глины.

Теректы аулие. Шахта древних рудокопов. (Фото автора).
Торговую артерию Сарысу, которая начиналась с берегов Сырдарьи и вела в Улытау, в VIIІ веке взяли под свое управление огузы. Аристократия огузских тюрков расположилась в Улытау и построила себе дворцы, откуда они управляли скотоводческими хозяйствами и торговыми путями, за что получали щедрое вознаграждение в виде налоговых поступлений от купцов. Концентрация крупной казны в руках военной аристократии позволяло тюркам содержать боеспособную, сильную конницу, снабжая их всем необходимым для военных походов. Это усилило огузов и они, в ІХ веке, в союзе с карлуками и кимеками, смогли разгромить кангаро-печенежский союз, что позволило им установить контроль над степями Приаралья.39
В общей сложности, занимая большую часть современной казахской степи, огузы концентрировались в среднем и нижнем течении реки Сырдарья со столицей в городе Янгикент, где расположился ябгу40. Хотя географ раннего средневековья аль-Идриси описывает города более раннего периода истории огузов без упоминания Янгикента как нового города, именно его данные о городах Улытау дали весомую почву для изысканий современных исследователей.
Кроме этого, территория огузского эля тянулась в степях между Каспийским и Аральским морями, хотя есть мнение о том, что эти моря в те времена составляли единый бассейн и являлись одним целым. Восточная часть огузского государства полностью охватывала Улытауский край и весь бассейн реки Сарысу, доходя на востоке до ее верховьев в горах Бугылы.
Жили ли огузские джабгу в Улытау или нет мы не можем знать из-за отсутствия таких сведений в средневековых летописях. Но аль-Бируни писал о том, что «огузы в осенние месяцы кочевали в предгорьях Улытау». Это говорит о том, что летние кочевья огузов могли достигать предгорьев Урала и юга Западной Сибири. Но средневековые источники, в основном, засвидетельствовали присутствие огузов на их постоянных зимних поселениях и городах на берегах реки Сырдарья.
В исторической науке особо известны дворцы и города огузских джабгу в предгорьях Улытау, которые позже были унаследованы кыпчаками и чингизидами. В «Сочинениях» Алькея Маргулана (Том 8, Глава III, с. 270) насчитаны «более десяти укрепленных крепостей, поселений и неукрепленных городов на р. Сарысу (Караагаш, Маулимберды, Карасакал, Жубан-Ана, Каип-Ата, Талмас-Ата, Аит-булак, Торткулак-Корган, Жаман-Корган, Белен-Ана, Ататеги и др.), десять в долине р. Кенгир, четыре на р. Жезды (Баскамыр, Аяккамыр, Талдысай, Жезказган), десять – у подножия гор Улытау, одно в барханах Жетыконура (Талды-Кент)».
Картографическое сопоставление огузских городов выявил некоторое прояснение в вопросе географического расположения дворцов западного бассейна реки Сарысу. Время функционирования ставок относится к VIII – XI векам, согласно культурного слоя.
С. Г. Агаджанов и А. Х. Маргулан локализуют огузские городища, основываясь на географическом труде аль-Идриси. Причем Агаджанов, дешифровав текст и карту аль-Идриси, относит территорию огузских племен Х века от южного Прибалхашья до низовьев Волги (Агаджанов С. 1969, с. 50). Маргулан связывает данные аль-Идриси с Улытауским регионом, бассейном Торгая и низовьями реки Сарысу (Маргулан А. 1978, с. 8).
Ж. Е. Смаилов отождествляет огузские города по результатам археологических раскопок, приводя доводы источниковедческого, географического, топонимического характера. Так, город Хиам по Смаилову отождествляется с городищем Баскамыр, города Нуджах и Бадагах – с городищами Ногербек дарасы и Хан ордасы (Аксай), а город Дарку – с городищем Домбагул.
Главными предпосылками образования дворцов и замков в раннем средневековье является расширение территории тюркской империи и формирование новой тюркской культуры. Централизация власти тюркских каганов на огромных пространствах Евразии дала большие возможности для накопления материальных ресурсов региональным правителям, что, в свою очередь, усилило центробежные силы и раскол империи на отдельные государства. В результате, произошло обособление печенегов, а потом огузов от центра и создание своего политического центра в Улытау.
Полная самостоятельность и суверенное распределение казны дали толчок для строительства степной аристократией дворцов и замков, ставших сегодня объектами нашего повествования.
Таким образом, на территории Улытауского региона сформировалась городская культура, особенностью которой является её предназначение в качестве ставок-орд степной аристократии. Но, прежде чем переходить к их описанию, рассмотрим природу и климат края и их влияние на хозяйственную деятельность человека.
Глава ІІ. Природно-климатические условия для развития хозяйственной деятельности человека в Улытауском крае
В этой главе мы немного отойдем от темы, чтобы читатель, который не знаком с географическими особенностями Улытау, мог получить общее представление о характере природы, быта и хозяйственных особенностях в повествовании о дворцах и поселениях средневековья.
Улытауский регион в природно-климатическом аспекте представлен степным ареалом из маргинальных зон, которые по своему реагируют и влияют на хозяйственную жизнь человека, трансформируя его деятельность по потребностям в суровых условиях жизни. Резко континентальный климат края отличается амплитудой температуры воздуха, которая достигает 80°С. Морозные арктические антициклоны временами могут стоят от 10 до 40 дней в зимние месяцы, достигая температуры до минус 40ºС, а Атлантический теплый циклон заметает и сметает все на своем пути в течении от 3-х до 10 дней за раз, периодически, на протяжении всего года, вызывая снежные бураны зимой, с характерной нулевой видимостью, и пыльные песчаные бури летом. Все эти природно-климатические условия на всей территории Евразии не претерпели своих изменений со времен галоцена41.
Мы не будем участвовать в дискуссии между исследователями по проблеме эволюционного изменения климатических условий в казахской степи, а лишь признаем закономерность цикличности колебаний увеличения и уменьшения количества осадков, потепления климата и его похолодания, влажности и засушливости, высокого травостоя и исчезновения многих видов трав. Когда и как происходили эти колебания довольно широко исследовано в научной среде, поэтому мы ограничились в нашей работе археологическими и историографическими данными.
Однако гипотеза Л. Н. Гумилева о периодичности смещения атлантических циклонов с севера на юг и обратно вполне может служить объяснением периодической цикличности смены одних государственных и этнических образований другими. Речь идет о вековой засухе, которая наступала примерно каждые шесть веков и приводила к исчезновению кочевых государств на территории современного Казахстана.
Л. Н. Гумилев это объясняет перемещением осадков в бассейн реки Волга и обратно – в бассейны рек Сырдарьи, Амударьи и Семиречья. В первом случае в степи происходит засуха и наполнение Каспия, а во втором – плодородие и повышение уровня Арала и Балхаша. Во время засухи, в результате долгих и изнурительных войн, в степи исчезала полноценная жизнь, а во время возвращения плодородия создавались мощные государственные объединения, такие, как сакский, тюркский, огузский, кыпчакский и монгольский империи.
Колебания погодных условий в степи имели как вековую и ежегодную, так и сезонную цикличность, влиявшей на образ жизни номадов. Приспособляемость насельников к этим колебаниям происходил на протяжении многих веков, начиная со времён Бронзового века. Духовная и материальная культура кочевников – это результат приспособления к элементам резко континентального климата: колебаниям температуры воздуха, направлениям ветра, сезонам метелей и половодья, а также влияния выпадения осадков и произрастания травостоя.
Если оседлые цивилизации больше зависели от катаклизмов, возникавших вследствие межгосударственных войн, то кочевничество находилось в постоянной зависимости от природно-климатических изменений как сезонного, так и многовекового характера. Поэтому подвижность номадов всегда антонировало неподвижности осёдлых этносов. Изучение такого состояния кочевников привело к оформлению Л. Н. Гумилёвым новой научной дисциплины как «Историческая география».
Высокая солнечная радиация, сильный перегрев почвы и скудность осадков в летнее время, а также резко-континентальность климата исключали возможность развития на широких просторах Улытау нескотоводческих видов хозяйства, за исключением небольших очагов земледелия вокруг ставок-орд властной верхушки социума и поселений металлургов на берегах рек Улькен Жезды и Жыланды. На небольших земледельческих участках выращивали твердые сорта зерна пшеницы, ржи и ячменя, а металлурги добывали медь, железо, марганец, олово, свинец и занимались их переработкой и плавкой, расщепляли из меди золото и серебро.
Скотоводческие хозяйства располагались на всем протяжении степных просторов Улытауского края, достигая бассейна реки Есиль и южных лесов Западной Сибири, преимущественно мигрирую с апреля по конец ноября. Зимний выпас скота был возможен только в южных отрогах гор Кишитау, а севернее тех мест, где толщина снега превышала 30 см, выпас скота был невозможен, так как овцы могут самостоятельно тебеневать лишь на глубине снега в 10—20 см, а лошади – 30—40 см. (Масанов Н., 1995). Хозяйства максимально использовали ресурсы скота в производстве и переработке мясо-молочных изделий, шерсти, а также использования в качестве тяглового транспорта. «Кочевничество – одно из наиболее рациональных способов природопользования и утилизации скудных ресурсов засушливых регионов, занимающих почти четверть всей земной поверхности».42.

Профессор Масанов Н. Э. (Фото: kz. expert).
Основная часть Улытауской степи в зимнее время пустела, за исключением поселений металлургов и дворцов властной элиты, которые круглый год находились на стационарном положении и занимались придомным скотоводством вблизи ставок-орд. Зимой здесь оставляли небольшое количество скота на пропитание, а остальные стада отгоняли на южные просторы Улытау – в пески Каракума и Бетпак-Далы. Содержание скота в загонах поселений в зимнее время было возможным лишь с обеспечением работ по заготовке сена и кормов.
Трансформация материальной культуры вынуждала политические центры возводить дворцы и поселения для концентрации в них нетранспортабельных для кочевания предметов, как металл, керамика, стекло. Все эти предметы были обиходом этих поселений в то время, как «специалисты» кочёвок по пастбищам избавлялись от всего этого, постепенно заменяя предметы первой необходимости легкими материалами из кожи, шерсти, дерева, удобных для навьючивания на лошадь или верблюда и поддающихся быстрой сборке и разборке, такие как юрта, мебель и кожаная посуда.
По сравнению с Монголией, где кочевание происходит круглый год из-за возвышенности монгольских степей в 1500 м над уровнем моря, плотное и равномерное залегание снега не позволяло скотоводам Улытау пасти скот круглогодично. Поэтому, хозяйства локализовались в стойбищах или в южных просторах, где концентрировались постоянные зимовки.
Что касается маршрутов сезонного кочевания, то следует отметить закономерную аналогичность миграции диких животных, таких, как сайгаков, джейранов, куланов, диких лошадей и т.д., с передвижением скотоводческих хозяйств по сезонным маршрутам. Доказательством данному факту может служить меридиональное направления основных кочевий. (Масанов Н. 1995). Поэтому, можно однозначно отметить важную роль охоты и ее влияния на переход степных пастушеских хозяйств времен андроновской культуры к кочевому скотоводству. Кочевые маршруты Улытау формировались по путям миграции диких животных, что в последующем приводило к их физическому вытеснению, освобождая пастбищные угодья для домашнего скота. Дикие животные могли спастись только в тех местах, где отсутствовали кочевые хозяйства.
Тем не менее отношение к диким животным в средневековье кардинально отличалось от современных реалий. В Улытау уже нет того изобилия дичи, которое описывает Хафиз-и Таныш Бухари в «Книге шахской славы», в главе «Прибытие воинственного хакана на берег реки Сарык-Су»: «Повелитель [«Абдаллах-хан], величественный, как небо, поднялся на вершину той горы и окинул взором бескрайний простор, длину и ширину которого знает [только] господь. [Хан] стоял [здесь] в тот день до полуденного намаза и направил свои помыслы на то, чтобы воины собрали много камней и построили в этой высокой величественной местности высокую мечеть, чтобы на страницах времени запечатлелась память о высоких деяниях и славных делах того могущественного падишаха, подобно тому, как государь, чье место в раю, полюс мира и веры Эмир Тимур-курэкан, милость и благословение над ним, во время похода против Тохтамыша-хана дошел до Улуг-Тага, в течение одного дня на вершине его поднимал знамя стоянки и приказал славному войску собрать много камней с окраин и воздвигнуть сооружение, напоминающее минарет. Каменотесы начертали [на нем] дату пребывания его величества в этой местности.43
В это время в благословенном сердце могущественного государя возникло желание насладиться охотой. Хакан, властный, как небо, охраняемый милостью и помощью творца, отправился на охоту…
Короче говоря, в этих степях было убито [букв, «собрано»] столько дичи, что мусульманское войско при скудности пищи отобрало только жирную, оставив нежирную. Среди разных видов газелей [воины] обнаружили [здесь] таких газелей, которые ростом больше буйвола. Монголы (могул) называют их кандагай, а жители Дашта именуют булан [т. е. лось]. Победоносное войско получило большое удовольствие от мяса дичи.»

Сцена охоты. Нарсайские петроглифы. (Фото автора).
Как видно из текста, средневековые охотники тоже не отличались рациональностью, но наличие таких диких животных, как лось, говорит о кардинальном изменении в их поголовье в современный период. Тем не менее, процесс вытеснения животноводством диких животных из их среды обитания начался с возникновением кочевого скотоводства. По мере увеличения поголовья скота уменьшалась и численность дичи.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Арганаты – горная цепь на севере Улытау, протяженностью в 80 км с севера на юг, шириной в 20—25 км. Самая высокая точка – гора Домбагул (757 м). Из склонов Арганаты берут начало реки Караторгай, Сарыторгай, Каракенгир, Терисаккан, Бозай, Кайынды и множество их притоков. Среди возвышенностей гор расположены озера Косколь, Камыстыколь, Баракколь, Курколь, Басбайтал. Горы богаты большим количеством родников и оазисами березовых и тополиных рощ. В горах Мык, Домбагул, Айыршокы сохранились каменные изваяния тюрков и их курганы, золотые прииски древних рудокопов. В южной части Арганаты на горе Ешкиольмес имеются большие запасы асбеста.