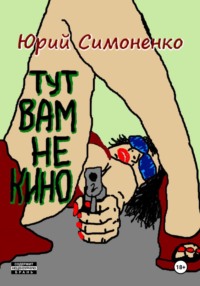Полная версия
Стройотряд
Войдя в палатку Надежды, Сергей застал мёртвую женщину за работой.
Палыч с виноватым и оттого немного комичным выражением лица (виноватость делала его сходство с медведем ещё сильнее) смирно лежал на операционном столе в одних трусах и без очков, а Надежда водила ультразвуковым датчиком по его правому колену и сосредоточенно рассматривала изображение на экране УЗИ-аппарата.
– Ну, что там у него? – спросил Сергей.
– Как я и говорила – трещина… Маленькая. Но, что живому человеку – мелочь, потому, что ткани восстанавливаются, то мертвецу – кирдык. – Надежда посмотрела в виноватые глаза пациента. – Ты это понимаешь, Палыч?
– Угу.
– Это ему очень повезло, что трещина небольшая, – продолжила мёртвая женщина, повернувшись к Сергею. – Не успел мениск раздавить… Сейчас загоню в неё хрящевой клей, два часа спокойно полежит под нагревателем, потом будет разрабатывать сустав без нагрузки… Как на велосипеде, – объяснила она Палычу, открывшему было рот, чтобы что-то спросить, – только лёжа. До вечера. На сегодня выписываю тебе, Палыч, – она снова посмотрела на больного мертвеца, – больничный!
– Совестно, – сказал на это Палыч. – Все работают, а я тут…
– Ничего, потерпишь…
– А отец Никифор? – спросил Сергей.
– А отца Никифора присылай ко мне часика через три. Я как раз этого совестливого чинить закончу.
***В этот день работы велись на северной окраине города, за третьим кольцом, где был отрыт глубокий котлован – будущее городское водохранилище, вода в которое будет подаваться из заполненного льдом ударного кратера, – его пологий вал возвышался в двух с половиной километрах к северу. По сути то было замёрзшее кратерное озеро диаметром в шестнадцать километров. Толщина льда в этом ледяном озере достигала местами сотни метров. В будущем мертвецам предстояло пробурить тоннель в кольцевом вале кратера и проложить от него закрытый канал к водохранилищу, чтобы обеспечить город водой. А пока, вот уже пятьдесят восьмой по счёту день, они готовили резервуар.
Вначале, как и при строительстве траншей-улиц, мертвецы взрывали породу, потом вынимали её экскаватором и вывозили к возводимому в двух километрах юго-западнее города рукотворному валу. Для перевозки использовали вездеход и сделанный из грузовых контейнеров десятитонный прицеп (по марсианским, разумеется, меркам десятитонный; на Земле грузоподъёмность такого прицепа – чуть более трёх с половиной тонн). Потом выравнивали стенки котлована и снова вывозили лишнее.
Работали, разумеется, не кирками и кувалдами, а пневматическими и электроинструментами – отбойными молотками, камнерезками. Когда нельзя было использовать экскаватор, применяли конвейерный перегружатель. Тогда, конечно, махали лопатами.
На сороковой день котлован был полностью отрыт, и теперь мертвецы укрепляли его стены и дно стеклополимером, произведённым здесь же, на упомянутом выше мини-заводе.
Для нанесения полимера использовались разработанные и изготовленные российскими учёными специально для применения в условиях разреженной марсианской атмосферы инструменты – теплушки (у инструментов этих имелось и другое, правильное и весьма заковыристое название, но мертвецы – народ простой – прозвали инструменты эти просто и незатейливо: «тепловыми пушками», или коротко: «теплушками»). Теплушка нагревала обрабатываемую поверхность и набрасывала на неё расплавленный полимер, который застывая, превращался в подобие керамики. Получалось сплошное керамическое покрытие без стыков и щелей.
Учитывая, что и без нанесения полимера каменная плита, в которую мертвецы вгрызались вот уже десятый год, была прочна как гранит, можно уверенно полагать, что город, который они обязательно построят, будет настоящей крепостью и простоит тысячи лет.
Андрей Ильич, Лёха, Вован и Майор методично наносили слои полимера на грубо выровненную каменную стену, двигаясь слева направо по смонтированным вдоль стены алюминиевым лесам, каждый по своему уровню, а Кац с отцом Никифором обеспечивали бесперебойное питание их теплушек, поднося в больших как бочки металлических вёдрах похожее на комочки сильно пористого керамзита вещество из стоявшего наверху возле котлована прицепа. Они без суеты и спешки, но довольно резво спускались по примыкавшей с одного края лесов лестничной клетке сначала на один уровень, потом на другой, где опорожняли вёдра в объёмные пластиковые ранцы за спинами товарищей – по ведру в ранец, после чего столь же резво взбирались наверх за новыми порциями полимера.
Двигались мертвецы бодро и деловито, движения их были чётки, выверены, – не как у киношных роботов, а как у живых людей, которые только что приступили к работе, перед тем хорошенько отдохнув.
Вот только мертвецы не отдыхали. Никогда. Мёртвые не устают; им не требуется сон, пища, воздух… (они вдыхают его только для того, чтобы говорить). Они могли бы работать без перерыва, круглые сутки, если бы видели в темноте, как какие-нибудь вурдалаки. Но глаза их были те же, что и при жизни – никаких сверхъестественных свойств они после смерти не приобрели. У некоторых зрение даже немного ухудшилось. И это несмотря на консерванты! (По мнению Надежды, у живого человека без защиты для глаз, которую ещё предстояло разработать, от яркого как электросварка марсианского солнца уже через месяц гарантированно разовьётся катаракта.) Бывало, они работали ночью, когда можно было работать с искусственным освещением без увеличения риска получить травму, но в последнее время необходимости в такой работе не было, поэтому работали днём, а на ночь отправлялись в палатки, где предавались разговорам, игре в карты или шахматы, или лёжа без сна на обычных солдатских раскладушках молча дожидались нового дня.
Тахир контролировал весь процесс: постоянно перемещаясь с яруса на ярус, проверял качество работы (иногда, чтобы не возвращать далеко ушедшего товарища, сам устранял мелкие недостатки, для чего имел при себе малую теплушку), следил за безопасностью. Время от времени он прочищал засоры в гофрированных шлангах, через которые полимер подавался из ранца за спиной в приёмник теплушки, что самим работавшим с этим инструментом мертвецам делать было неудобно (нужно снимать ранец и скидывать ременно-плечевую разгрузку, на которой подвешивались тяжёлый даже по марсианским меркам аккумулятор и сама теплушка – штука довольно громоздкая).
Поскольку слышимость на Марсе – так себе, все разговоры во время работ велись исключительно по радио с использованием гарнитуры. Так все друг друга слышали, и это существенно повышало слаженность действий и, следовательно, эффективность трудового коллектива. Главное – не уходить слишком далеко из зоны прямой видимости.
Пустая болтовня в эфире, понятное дело, не приветствовалась, но и прямо не запрещалась. Мертвецы – народ не особо разговорчивый. Но если кто-то из мертвецов делился с товарищами интересной мыслью или просто шутил без вреда для общего дела, Тахир таких не одёргивал. Мог и сам поддержать разговор.
– А хотите анекдот? – как обычно, ни с того ни с сего спросил Лёха.
Некоторое время в эфире было тихо, потом прозвучало басовитое:
– Н-ну?.. – это Вован – бывший боксёр-тяжеловес не утерпел. Он любил анекдоты.
– Хоронят, значит, старого еврея… – начал рассказывать Лёха, продолжая сосредоточенно поливать скалу из теплушки. – А перед смертью он наказал родственникам положить на похоронах ему в гроб по шекелю…
– Лёша! – перебил его Кац, заправлявший в это время ранец Майора двумя уровнями ниже. – Этот анекдот отрастил бороду, пейсы и шляпу задолго до знакомства обеих твоих бабушек с инициативными молодыми людьми, что стали впоследствии твоими дедушками… Там ведь дальше раввин говорит, что можно чек в гроб положить?..
– Не-е, то другой анекдот… – объявил Лёха.
– А я слышал вариант, где один из родственников забрал из гроба шекели, оставив расписку на взятую сумму плюс один шекель сверху… – подал сверху голос Андрей Ильич.
– И тот – другой! – отмёл бывший бизнесмен и уголовник Лёха разоблачения бывшего мента-оперативника. – Андрей Ильич, ну не перебивай, а!
– Ладно, пусть расскажет! – в наушниках у мертвецов снова раздался бас Вована.
– Во! Слушайте! Прощаются, значит, евреи с покойным, кладут в гроб каждый по шекелю… А потом в конце к гробу выходит адвокат Либерман…
– И говорит, что покойник был ему должен?
– Нет, Леонид Натаныч, нет! Зачитывает завещание.
– И чего там, в завещании? – интересуется Вован.
– Все шекели из гроба еврей завещал отнести в сберкассу и положить на депозит на его имя до востребования…
– Но зачем? – наверху возле прицепа на секунду недоуменно замер Кац с лопатой в руках. Он насыпáл композит из прицепа в пустые вёдра. – Зачем мёртвому счёт в сберкассе?
– Так в гробу проценты не капают, – объяснил Лёха. – На случай, если прав окажется поп, а не раввин… «Вдруг воскресну, – говорил еврей адвокату, – а у меня в сберкассе капитал…»
В наушниках послышались глухие хмыканья, но никто не рассмеялся.
– Не тот это капитал… – негромко проговорил отец Никифор, но все мертвецы его услышали, – да и не там…
– Понятное дело, на небесах надо было еврею сокровища собирать, – присоединился к разговору Майор. – Читал я про это в Библии, ещё когда живой был…
Гвардии майор Сергей Коваленко, вопреки расхожим стереотипам о десантниках (как то, склонность к пьяному мордобитию и купанию в городских фонтанах) и часто располагающей лично с ним незнакомых граждан верить этим стереотипам внешности, – был он квадратен, кулакаст и мордаст, имел тяжёлый подбородок, перебитый нос и шрамы на лице, – человек был весьма и весьма образованный. Несмотря на богатый боевой опыт с множеством командировок «за ленточку»[8], – где он получил множество боевых наград и боевых же ранений, но, тем не менее, вопреки стараниям врагов, умер своей смертью от инфаркта в возрасте тридцати девяти лет, – Сергей Юрьевич всегда находил время и для самообразования и просто для чтения самой разной литературы, от художественной до научной, и от философской до религиозной.
– А вот скажи, отец Никифор, – продолжал Майор, – мне – атеисту, да ещё и мёртвому, хотя и крещённому в детстве, возможно капиталец там, на небесах в смысле, сколотить?
– Отчего же нет? Ты его всю жизнь сколачивал, пусть даже и неосознанно… и теперь продолжаешь… Всем по делам зачтётся.
– Так я же это… мёртвый…
– У Бога все живы, Майор… Ты же здесь дело делаешь. А что атеист и в него не веришь, так то ему без разницы. Он-то в тебя верит.
– Хм… Вроде как прижизненные дела в счёт должны идти… Или я чего не понимаю, батюшка?
Отец Никифор ответил не сразу.
– Понимаешь, Майор, – произнёс он, помолчав. Мертвецы продолжали слажено работать, не замедляя темпа. Мёртвый монах, говоря это, спустился по лестнице на второй сверху уровень лесов и шагал с полными вёдрами к Лёхе, у которого полимер в ранце уже заканчивался. – По учению церковному оно всё так: пока живой, можешь, и нагрешить, и покаяться, и дел правильных сотворить немало, а после смерти – мытáрства… ну, то есть следствие, и суд… Суд первый, индивидуальный… А потом, в конце времени – всеобщее воскресение и суд последний, окончательный и потому называемый ещё Страшным… – Отец Никифор снова помолчал. – Вот ты умер, а потом тебя учёные оживили. Отмечу особо, не воскресили, а оживили, потому, что воскресшие перед Страшным судом будут иные, не такие как мы с тобой… Так вот, оживили тебя для дела, потому, что дело это не по силам живым. И ты сознательно действуешь, пусть в тебе и силы физической прибавилось, и обычные страсти человеческие тебя оставили. Пусть другой ты стал, но себя-то ты осознаёшь и отчёт действиям своим отдаёшь… То есть можешь осознанно сотворить доброе или злое деяние… И почему же Господь должен эти твои деяния игнорировать, как бюрократ какой-то, только лишь из-за того, что тело твоё мертво?..
Прозвучавший вопрос был риторическим, и в эфире на минуту повисло молчание, которое прервал Лёха:
– Вот я как помер… – так как уснул, и всё! А потом очухался на операционном столе: трубки всякие в руках и ногах торчат, в заднице шланг… живот зашит-перешит и в груди форточка… Был живой, потом этот козёл с пистолетом… «бабах!», занавес, потом снова как живой, только мёртвый… Не помню я, чтобы меня по мы́тарствам этим твоим кто таскал, или на суд вызывал… Ты уж извини, отец…
– А зачем тебя на следствие дёргать, Алексей, зачем на суд призывать, если Господь тебе определил ещё на Марс лететь? – спросил отец Никифор, заглянув с верхнего яруса, куда успел подняться, пока говорил, чтобы там заправить ранец Андрея Ильича. Мёртвый монах оказался как раз над Лёхой.
– То есть как… Ну, это же не по-божески… Когда люди вместо него покойников оживляют… – Лёха на секунду замер, глядя в мертвенно-бледное бородатое лицо в привычных защитных очках.
– А когда люди людей на войне убивают, обрывая внезапно жизни тех, кто мог бы ещё покаяться, или наоборот – нагрешить? Это по-божески? – возразил ему вопросом на вопрос отец Никифор, и не давая ответить, продолжил: – Неисповедимы пути Господни, Алексей… то есть нельзя их человеку просчитать. Бóльши сея́ любвé никтóже и́мать, да кто душу свою положи́т за дрýги своя́…[9] – произнёс он, очевидно цитируя священный текст. – То есть отдать жизнь за друзей, за близких, за страну и народ – это не против Господа, не самоуправство. И война, что бы там ни говорили всякие пацифисты, бывает справедливая и богоугодная, хотя на войне и приходится убивать, а убийство – грех… Просто солдат не из гордыни убивает, незаконно присваивая себе божье право, не из зависти или садистской жестокости… если он на правой стороне, конечно, если не фашист, не изувер… Он – орудие божье. И он не только убивает врага, но и сам иногда гибнет – за дрýги своя́.
Отец Никифор закончил с заправкой ранца Андрея Ильича и пошагал обратно к лестнице.
– А касательно твоих слов, Алексей, о том, что не по-божески это, покойников оживлять, я скажу так: если цель благая и богоугодная, то и греха в том нет… Тем более, что, как я уже сказал Майору, учёные – не Господь, они только оживляют на время, но воскресить не могут и никогда не смогут… Мы все здесь во благо страны – нашей России, мы здесь, чтобы подготовить место живым, чтобы эта планета с её богатствами стала русской. Страна на нас надеется. В эту самую минуту в разных её городах – в Москве, в Питере, во Владивостоке, Новосибирске, Краснодаре, в Одессе и Киеве – наши братья и сёстры трудятся, чтобы очередной корабль с грузом отправился сюда вовремя, чтобы не сорвался план… А мы здесь – мы как те солдаты, делаем то, что в обычное мирное время человеку делать не подобает – будучи мёртвыми, делаем дело ради живых. У нас отсрочка.
Дошагав до конца яруса, мёртвый монах быстро поднялся по алюминиевым ступеням на пролёт выше и по перекинутому с лесов широкому трапу с перилами выбрался из котлована. Стоявший наверху у трапа с раскрытым планшетом и карандашом в руке Тахир заметил:
– Это ты хорошо сказал, Никифор, правильно.
Монах в ответ только коротко кивнул и пошёл к прицепу. В его походке, осанке, в широких покатых плечах было что-то едва уловимое, что выдавало в нём священнослужителя. Умерев, он никогда более не надевал мантии и клобука, не облачался в священнические ризы, но синий рабочий комбез, точно такой же, как и у других мертвецов, странным образом смотрелся на нём монашеским облачением.
Споро накидав совковой лопатой оба ведра, отец Никифор подхватил их и пошёл обратно к трапу, но его остановил прозвучавший в наушнике голос начальника отряда:
– Отче, ставь вёдра! Покури пока!
Мёртвый монах послушно выполнил приказание и обернулся. Метрах в пятидесяти по укатанной вездеходами и багги окружной грунтовке со стороны лагеря пылил мотоцикл.
– Курить – здоровью вредить! – добродушно заметил Отец Никифор, когда мотоциклист выехал на пятачок перед прицепом и остановился, расставив ноги в стороны.
Тахир, стоявший на прежнем месте, закончил писать, убрал карандаш в нагрудный карман и закрыл планшет. Обернулся.
– А где Палыч? – спросил он, видя, что начальник приехал один.
– Сегодня у него выходной. Надежда ему колено заклеила. Лежит теперь, совестью мучимый.
– Пускай лежит, – Тахир подошёл к мотоциклу. – Мы пока без него справляемся. Ты за Никифором?
– Да. Отец Никифор, – Сергей перевёл взгляд на монаха, – давай, садись на коня, – он слез с мотоцикла и, легко приподняв его, развернул на месте, – и поезжай к Надежде! Она тебя ждёт.
– А сам? – спросил его Тахир.
– А я с вами, поработаю. Отче, седлай коня!.. Только сильно не гоняй! Если светило наше научное тебя отпустит, на нём обратно и приезжай.
– Как скажешь, Сергей, – ответил отец Никифор, принимая мотоцикл и перекидывая ногу через седло. – Ну, поеду я…
– Давай, отче, давай. Только по МКАДу езжай! По бездорожью не гоняй!
Мёртвый монах крутанул гашетку, электродвигатели глухо загудели и обутые в литую резину с крупным протектором колёса, синхронно провернувшись и, выбросив назад облачка пыли с мелкими камешками, бросили «железного коня» вперёд. Отец Никифор уверенно выровнял мотоцикл, направив его к дороге и, выехав на неё, прибавил газу. Поднимая позади себя быстро оседающий шлейф рыжевато-серой пыли, мотоцикл на миг скрылся из виду за невысоким холмиком, вскоре появившись с другой его стороны, и умчался по дороге в направлении лагеря.
Дорога эта, называемая мертвецами в шутку «МКАДом», появилась сама собой в ходе строительства города, и с годами превратилась в чётко выделявшийся среди хаотичного марсианского пейзажа просёлок. Дорога местами петляла среди холмиков и крупных камней, то опускаясь в низинки, то взбираясь на пологие подъёмы, местами тянулась почти прямо; со временем, кое-где в стороны от неё потянулись разной степени укатанности ответвления, ведущие к оврагам, холмам и барханам, куда мертвецы ездили за нужными в строительстве материалами или, наоборот, вывозили породу, насыпая валы́ и терриконы.
– Отче! – сказал с улыбкой Сергей, глядя вслед удаляющемуся мотоциклисту. – Не гони!
– Спаси Господь, Серёжа, я самую малость газку прикрутил, только чтобы набок не свалиться… – послышалось у мертвецов в наушниках.
Любил отец Никифор прокатиться с ветерком, была у него при жизни такая слабость.
– Ты – летящий вда-аль, вда-а-аль анге-ел…[10] – безбожно фальшивя и пустив в конце петуха, пропел вдруг Лёха – помимо анекдотов и баек, большой любитель и знаток великого множества песен. Лёха не видел, как уехал мёртвый монах, а только слышал разговоры.
Сразу после этого эфир глухо захрюкал сухими смешками. Лёхе наконец удалось рассмешить мертвецов.
***Работа продолжалась. Теперь место отца Никифора занял Сергей, решивший подменить мёртвого монаха. Тем более что дел у главного инженера и начальника стройотряда до вечера всё равно не было.
Сергей часто так присоединялся к рабочим, махал лопатой, таскал вёдра и носилки, садился за руль вездехода и вывозил породу. Мертвецы воспринимали это спокойно и бесстрастно: он – начальник, ему виднее. В отряде вообще все всё спокойно воспринимали.
Мёртвые ведь только с виду такие же, как и живые: ходят, работают, управляют транспортом и применяют сложные приборы и инструменты, при том ведут размеренные беседы, иногда шутят, иногда даже смеются, после работы играют в карты. На самом же деле они принципиально другие. Мертвецы стабильны, неизменны.
Каким был на момент своей смерти тридцатисемилетний подполковник Сергей Никитин, имевший два высших образования, первое из которых – горно-инженерное, имевший семью: жену и двух дочек, таким и остался. Ничего в нём не изменилось за семнадцать земных лет, что минули со дня, когда сердце его перестало биться.
Мертвецы не просто законсервированы, – их тела не испаряются, не сохнут, но и не регенерируют, раны не заживают и кости не срастаются; и их мозги такие же, какими были в последний момент жизни, им не грозит старческая деменция, но и умнее они уже не станут, – они как бы застыли во времени. Нет, они, конечно, различают ход времени вне себя, но их внутреннее время остановилось в момент их смерти. Поэтому мертвецы не страдают от разлуки с близкими, хотя и понимают их боль утраты; поэтому не надоедают друг другу; поэтому не страдают от скуки; поэтому не амбициозны; поэтому не тщеславны; поэтому обращаются друг к другу просто: Лёха, Вован, Палыч, Серёга… Они всего достигли, что им отмерила жизнь, или Бог; они всё доказали, что могли. Поэтому мёртвые равнодушны к чинам и званиям, к политесу и церемониалам. Мертвецы просты, но не тупы и не глупы. Они делают здесь, на Марсе, своё дело и тем довольны. Они продолжают по-своему любить живых, помнят мёртвых, которых уже никто не оживит, по крайней мере, до Страшного суда, но они не страдают, не срываются, они всегда спокойны.
Вооружившись бочкоподобными вёдрами, Сергей на пару с Кацем опустошал прицеп с композитом, заправляя ранцы товарищей. Время от времени кто-то из мертвецов сообщал: «Я пустой», или: «Я забился», и тогда Тахир коротко командовал: «Кац – на второй ярус!», «Сергей – на четвёртый!», или говорил: «Иду» и шёл чистить забившийся гофр.
Полностью обработав закрываемый лесами участок стены, мертвецы сноровисто разобрали их и снова собрали на новом месте. Начали обрабатывать новый участок. Ничего не обсуждали, Лёха больше не рассказывал анекдотов. Не то чтобы рабочие как-то стеснялись своего начальника, просто такие они, мертвецы, малоразговорчивые. Но и не настолько молчуны, чтобы молчать весь день.
– Я вчера письмо от жены получил, – сказал вдруг Вован, занявший на новом участке третий ярус лесов. – Пишет, дочь внука родила. Владимиром назвали… в честь меня. А ведь когда я помер ей и пяти не было… Надьке-то, жене моей, самой уже пятьдесят три… а мне, выходит, шестьдесят один…
Вован при жизни был профессиональным спортсменом – нокаутировал немало народу на ринге, за что имел медали и кубки, и некоторое количество вне оного, в частном, так сказать, порядке, за что имел условный срок. Силой живой Вован обладал неимоверной, а померев на сорок втором году от сердечной недостаточности и будучи оживлён, стал силён поистине чудовищно. Не окажись Владимир Безбородько в числе участников Проекта освоения Марса, покоился бы в сырой земле без малого восемнадцать лет; поставили бы ему гранитный памятник в Подмосковье, а рядом посадили берёзу или липу – уже бы большая выросла, но так сложилось, что по всем параметрам – физическим и, что ещё важнее, психическим – сгодился покойный спортсмен для дела государственной важности. Как и у других мертвецов, за исключением, разве что, отца Никифора и Лёхи, осталась у Вована на Земле семья.
После слов Вована все некоторое время молчали, потом Лёха, теперь поливавший стену из теплушки на самом верхнем четвёртом ярусе, посмотрел вниз вправо, где трудился Вован, и весело заметил:
– А ты хорошо сохранился, дедуль! Мужчина-то хоть куда… мёртвый только.
И, напустив в голос дворово-босяцких приблатнённых интонаций, как в старом кино, залихватски пропел, на этот раз вполне неплохо:
– А он мужчина хоть куда, он служил в ПэВэО…
– Ого! – тотчас заметил Кац. – Вы таки помните Гарика, молодой человек! Уважаю!
– А чего мне его не помнить? Я же с детства люблю всякое такое… Высоцкий, Цой, Кипелов, Сукачёв… Это же классика! Отец любил послушать… Он у Гарика даже на концерте был, и Кипелова и Арию тоже вживую видел…
– А давай «За окошком месяц май» споём! – предложил тогда Кац.
– А давай!
И мертвецы в два голоса запели:
– А за окошком месяц май,
Месяц май, месяц май.
А в белой кружке чёрный чай,
Чёрный чай, чёрный чай.
А в доминошне мужички,
Мужички, мужички.
Да по асфальту каблучки,
Каблучки, каблучки…[11]
Лёха умер молодым парнем, в двадцать восемь. Потому и выглядел он моложе других мертвецов, хотя и было ему от рождения уже сорок пять. Широкий, высокий, с симпатичным простоватым лицом с крупными чертами; голубоглазый и с большими как у телёнка ресницами, белобрысый, – таких любят женщины. С таких, как Лёха, в Советском Союзе рисовали плакаты хлеборобов и ваяли памятники матросам.
Жизнь у Лёхи сложилась, мягко сказать, трагически. В раннем детстве всё у него было хорошо – оба родителя, достаток в семье, в школе учился на твёрдые четвёрки… А потом авария на трассе Тамбов – Сталинград сделала Лёху круглым сиротой. И оказался Лёха в детдоме, в десять лет. В шестнадцать, прямо из детдома, переселился Лёха на «малолетку», а в восемнадцать, выйдя на волю, оказался он натуральным бомжом, потому как в квартире, оставшейся от покойных родителей, проживали теперь чужие люди, законно владевшие этой самой квартирой. Быстро выяснилось, что двоюродный брат матери – его, стало быть, Лёхи, двоюродный дядька, вскоре после смерти сестры подделал документы и продал квартиру. В последующие затем восемь лет квартира продавалась ещё трижды, и не пустивший Лёху на порог угрюмый мужик оказался самым что ни на есть законопослушным гражданином, ни к каким мошенничествам с недвижимостью непричастным. Недолгое правдоискательство вчерашнего зэ́ка положительных результатов не принесло: чиновники, полиция, адвокаты – все только разводили руками. Тогда Лёха сделал единственное, на что был способен в той ситуации: отыскал родственника и нанёс ему тяжкие телесные, за что снова сел, на три года. Пока отбывал срок, сошёлся с авторитетными уголовниками, и когда снова вышел, перед ним открылись определённые перспективы, которыми Лёха не преминул воспользоваться.