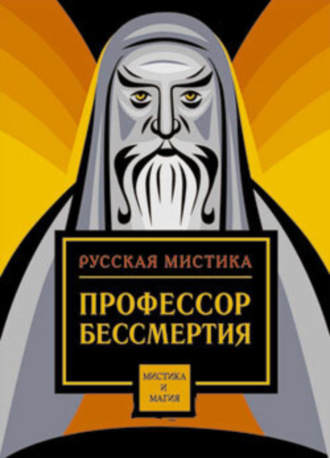 полная версия
полная версияНевидимые волны
Благоустройство Пятигорска, куда ввезли Василия Алексеевича в его дормезе, было в те времена очень примитивно. Мостовых в городе не было. Дома были маленькие, больше деревянные; каменных зданий в Пятигорске было немного – все они были, как говорится, наперечет. Между ними выдавались грандиозностью Казенная гостиница и Николаевские ванны. Здание Казенной гостиницы, к которой подъехал сухоруковский дормез, удивило Василия Алексеевича красивостью и выдержанностью стиля. Хоть бы в Петербурге быть такому зданию! Оно было увенчано фронтоном, поддерживаемым шестью колоннами.
На счастье, в гостинице оказалось место для остановки. Как только Василий Алексеевич устроился в этой гостинице, он поспешил послать человека с запиской к главному врачу при горячих источниках, господину Гефту. Записку эту Василий Алексеевич написал не без труда; он только недавно научился писать левой рукой, которая у него не была парализована. Василий Алексеевич извещал господина Гефта, что он к нему обращается по совету московского доктора Овера. Он просил Гефта приехать в Казенную гостиницу и указать ему, Сухорукову, порядок лечения в Пятигорске.
Гефт не заставил себя долго ждать. Он прибыл в тот же день, осмотрел больного и дал ему надлежащие советы насчет ванн. Кроме этого, он прописал Сухорукову ежедневное питье серной воды из Елизаветинского источника. В то время пятигорские доктора верили в целебное действие от питья серной воды. Они заставляли больных пить эту воду, несмотря на ее отвратительный вкус. Только потом медициной было выяснено, что подобное лечение в сущности совершенно бесполезно.
Василий Алексеевич горячо взялся за лечение, указанное Гефтом. Доктор Гефт обещал Сухорукову, что он поставит его на ноги через месяц.
ХПосле приезда Сухорукова в Пятигорск совершилось событие, которое оставило свой след на больном. Василий Алексеевич увидался с Лермонтовым. Михнев не ошибся, сказав больному, что Лермонтов у него будет. Ко времени приезда Сухорукова Лермонтов не уезжал еще из Пятигорска. Когда он узнал, что Сухоруков остановился в Казенной гостинице, он решил навестить старого приятеля. Лермонтов пришел к Василию Алексеевичу не один, а со своим другом Алексеем Столыпиным, который тоже знал по пансиону нашего больного.
– Вот он где, цыган Сухоруков, сидит! – проговорил Лермонтов, входя в комнату к Василию Алексеевичу, который в это время старательно выводил за письменным столом буквы и слова послания своего к отцу о благополучном прибытии в Пятигорск. – Вот где наша забубённая голова приютилась! Мы пришли на тебя, Сухоруков, посмотреть – каким Сухоруков теперь выглядит…
Сухоруков оторвался от письма. Узнав Лермонтова, он ему обрадовался чрезвычайно. Глаза заблестели, улыбка озарила лицо.
– Лермонтов! Ты пришел!.. Какое счастье! – Сухоруков не верил глазам, что у него сам Лермонтов.
– Подожди радоваться, – улыбнулся Лермонтов. – Радости наши плохие… Нет, ты погляди, Столыпин, как Сухоруков переменился! – сказал он своему другу.
– Если бы ты знал, какое мне счастье видеть тебя! – продолжал изливать свои восторги Василий Алексеевич. – Я всегда чувствовал, Михаил Юрьевич, твою силу и обаяние… Я чувствовал тебя, когда еще наши тебя не понимали. Только теперь все начинают признавать тебя. Теперь все признают поэта Лермонтова, прямого наследника великого Пушкина!
– Ты недурно начинаешь беседу, – сказал шутливо Лермонтов. – Начинаешь ты, что называется, за здравие… Это очень хорошо! Как бы только не свести нам разговоры за упокой… Я тебя буду расхолаживать.
– Оставь, Лермонтов! – вмешался Столыпин. – Довольно уж мы киснем и злимся… Видишь, Сухоруков ожил от твоего прихода… Не порть ему настроение…
– Что делать, Столыпин!.. Такое уж мое призвание – портить у всех настроение, – проговорил Лермонтов. – Что делать, мой друг! Это моя страсть – смущать веселость даже тех, кого я люблю, хотя бы вот веселость Сухорукова. Он, былое время, тешил меня своей гитарой и песнями, а теперь он этого делать не может, ибо это ему запрещено милым провидением и запрещено это ему совершенно так же, как мне запрещено начальством печатать мои песни. Мы с ним в одном и том же дурацком положении.
– Опять началось! – с неудовольствием произнес Столыпин. – Скучно это, Лермонтов.
– И скучай, голубчик!.. Так надо. Я вот сегодняшней ночью стишки о скуке набросал и знаю, что Сухоруков эти стихи мои почувствует, и они ему понравятся, потому что он такой же, как я, повязанный, умом голодный и сердцем усталый… А ты вот сытый… и душа твоя светла, как у младенца… Так тебе стихи мои, конечно, будут не по нутру…
– И неверно это, – возразил Столыпин. – Ты знаешь, что я твои стихи люблю…
Приятели начали просить Лермонтова прочитать эти стихи.
Лермонтов вынул из кармана сложенный вчетверо листок почтовой бумаги, развернул его и прочел:
И скучно, и грустно, и некому руку податьВ минуту душевной невзгоды…Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..А годы проходят – все лучшие годы!Любить… но кого же?.. На время – не стоит труда,А вечно любить невозможно.В себя ли заглянешь, – там прошлого нет и следа;И радость, и муки, и все там ничтожно…Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недугИсчезнет при слове рассудка;И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, —Такая пустая и глупая шутка…– Кто может подумать, – сказал с досадой Столыпин, выслушав прочитанное Лермонтовым, – что написал все это безотрадное юный офицер, сам большой повеса, полный здоровья и энергии, у которого в крови огонь кипит, которому едва стукнуло двадцать шесть лет… Это совершенно невероятные стихи, Лермонтов!..
– Я знал, – отвечал поэт, – что стихи эти тебе не понравятся… Поэтому я и не хотел их тебе читать…
– Дай мне эти стихи, Михаил Юрьевич, – сказал вдруг Сухоруков. – Я их себе спишу… Стихи эти поразительны по силе и правде…
– Хоть совсем можешь их взять, – проговорил Лермонтов. Он протянул Сухорукову листок. – Я эти стихи и без бумажки вспомню.
Сухоруков с благоговением принял эту драгоценность из рук Михаила Юрьевича, он бережно взял ее левой рукой, дрожавшей от волнения.
Не без печали во взоре смотрел поэт на Сухорукова, смотрел, как тот медленно складывал листок дрожащей рукой и старался получше его запрятать в свой бювар, и по лицу Лермонтова скользнула жалость к старому приятелю.
– Скажи ты мне, забубённый мой цыган, – проговорил Лермонтов, – что это с тобой сделалось? Что это за болезнь? Отчего все это приключилось?
– Отчего приключилось? – повторил Сухоруков. – Да от диавола все… От твоего демона, – произнес он с усмешкой. – От того и приключилось… Он ко мне прикоснулся…
– Я тебя серьезно спрашиваю, – сказал Лермонтов.
– И я серьезно отвечаю, – проговорил Сухоруков. – Можешь мне верить или не верить, – начал он совсем уж серьезно, – но я тебе всю правду скажу. От злой силы все это произошло… И эта злая сила существует вот так же, как и ты, и я существуем, и, может быть, она, зта злая сила, сейчас здесь, в этой комнате, вместе с нами…
– А Бог существует? – не без иронии прервал Сухорукова Лермонтов.
– Не знаю, существует ли Бог, – отвечал Сухоруков, – но знаю, что диавол живет, и живет он не только в твоем воображении, а живет реально, сам по себе. В этом я убедился и постоянно убеждаюсь…
– Ого! Да он – мистик… это интересно! – воскликнул Лермонтов. – Послушай, Монго,[2] – обратился он к Столыпину, – как ты Сухорукова находишь? Не правда ли, он интересен, наш милый цыган?.. Будь у меня время, я бы с ним об этих сюжетах поговорил всерьез. Беда только, что нам со Столыпиным спешить надо и что сегодня я должен ехать в полк… – Лермонтов посмотрел на часы. – Да! Мне вот сейчас надо собираться, и я не могу опаздывать. Прощай, Сухоруков, не поминай нас лихом… Столыпин, двигаемся!..
Лермонтов и Столыпин встали, чтобы уходить.
Сухоруков протянул руку друзьям.
– Прощай, Лермонтов! Прощайте, Столыпин, – грустно сказал он. – Увидимся ли еще?..
– Не знаю, как ты, – отвечал Лермонтов, – а я все сделаю, чтобы уменьшить вероятность нашего следующего свидания… Я, во всяком случае, постараюсь жить как можно короче, постараюсь, милый друг, найти благодетеля, который избавит меня от тягости жизни…
– И что с ним сегодня! – проговорил Столыпин, – какой-то он словно отчаянный. Не слушайте его, Сухоруков. Это он только сегодня такой!.. Сегодня он с левой ноги встал…
Они вышли.
Сухоруков остался один в комнате. Он сидел несколько минут неподвижно в глубокой задумчивости, сидел, словно в каком-то гипнозе, навеянном на него речами Лермонтова. Наконец он очнулся, схватил со стола бювар и стал искать автограф, который оставил поэт. Ему захотелось вновь перечитать эти поразившие его стихи, захотелось выучить их наизусть. «Любить? но кого же? – перечитал он еще раз в этих стихах. – На время – не стоит труда, а вечно любить невозможно…»
– Да, это именно так!.. И все мое как бы проснувшееся чувство к Ордынцевой, весь этот голод любви есть в сущности мираж, как и все в нашей жизни, – подумалось ему. – И я с этими моими мечтами только смешон… Воистину, все эти любовные миражи труда нашего не стоят, а вечно любить невозможно… Да, страшно правдив Лермонтов! Одного только он не знает – не знает он, кто над нами в жизни шутит… И от кого человеку приходится отшучиваться. Ему чудится, что его демон – его воображение, а между тем мы в когтях реальной злой силы, которая нас мучает, и мы барахтаемся с ней, бессильные…
XIМы выше говорили, что Сухоруков горячо принялся за лечение, указанное ему доктором Гефтом. Лечение это заключалось в том, что каждое утро в определенные часы Василия Алексеевича приносили из Казенной гостиницы в Николаевские ванны, которые находились тут же невдалеке, и затем его выдерживали в горячей серной ванне по десять минут. Но вот больной принял уже много таких ванн, а они вовсе не оказывали действия на его парализованные ноги и не развязывали его скованной руки. Не помогла Сухорукову и серная вода из Елизаветинского источника, которую он ежедневно пил. Вкус этой воды был отвратительный, и она привела лишь к тому, что аппетит Василия Алексеевича, и без того слабый, был совсем потерян.
Доктор Гефт, навещавший каждый день больного, внимательно его осматривал, выстукивал, выслушивал, заставлял больного становиться на ноги с помощью костылей, заставлял его двигаться с помощью людей, исследовал при этом его мускулы. Казалось, что каждый раз, при каждом своем визите, доктор ждал начала улучшения, ждал, что вот-вот мускулы ног больного оживут, что ноги его получат волю и движение, но дни проходили, и положение больного не улучшалось. В таком безрезультатном лечении прошел целый месяц.
Василий Алексеевич начинал разочаровываться в лечении доктора Гефта. Очевидно, Гефт не понимал болезни Сухорукова, подводя ее под шаблон ревматиков и паралитиков, которых он до сих пор успешно пользовал в Пятигорске. Очевидно, основы болезни Василия Алексеевича крылись в иных причинах, которых не понимал доктор, не понимал он того, что эти причины могли исходить из особой, так называемой подсознательной сферы, на которую господа специалисты только в последнее время начинают обращать внимание.
Молодой Сухоруков при своей болезни не ощущал в парализованных ногах и скованной правой руке какой-либо боли; он чувствовал их как бы онемевшими, поэтому физических страданий у него не было. Но охватывающая его в иные дни тупая тоска была мучительнее физического недомогания.
Василий Алексеевич переносил в Пятигорске смертельную скуку. Ведь надо же было ему чем-нибудь жить в течение тех часов, когда он не лечился и не предавался сну. Библиотеки в Казенной пятигорской гостинице не было, тогда как в Отрадном в этом отношении было полное богатство. В Отрадном были и другие интересы, которыми больной мог все-таки наполнять свое время. Там ежедневно навещал Сухорукова отец, человек живой и остроумный, развлекавший сына, как только мог. Отца своего Василий Алексеевич любил. Хотя молодой Сухоруков и не был к нему особенно близок, близок настолько, чтобы делиться с ним задушевными своими мыслями, но все-таки каждое свидание с отцом будило его ум. Иногда отец расшевеливал его до веселого смеха. Затем наезжали в Отрадное гости, дававшие пищу хотя бы для их осуждения. Наконец, были там и компаньоны вроде Лампи, который был недурной музыкант. Здесь же, в Пятигорске, все, кого ни встречал Василий Алексеевич, были ему совершенно чужды. Встреча с Лермонтовым и Столыпиным явилась единственным исключением на фоне его одиночества. Лермонтов и Столыпин блеснули для Сухорукова, как метеоры, и сейчас же исчезли. Не пришлось видеть Сухорукову и Михнева. Тот, оказывается, как и другие военные, уехал в горы. Там тогда затевалась большая экспедиция против непокорных чеченцев. Между тем, новых знакомых в Пятигорске Василий Алексеевич не заводил. За время своей болезни он совершенно потерял способность завязывать отношения с людьми. Ему казалось, что он стал для других неинтересен, что он может только стеснять своим знакомством, и это делало его нелюдимым. Да и вправду, кому он теперь был нужен со своим унылым видом и скрюченной рукой, расслабленный, которого иногда выносили из номера в общую обеденную залу гостиницы, сажали за особый стол и кормили, как ребенка… Других таких тяжелых больных в гостинице не было.
Иногда в общей зале гостиницы, игравшей в те времена роль клуба, собиралось по вечерам общество, собиралась молодежь. Устраивались танцы, играли в карты; оттуда в комнату Василия Алексеевича доносились звуки музыки и шум веселящихся. Но его не тянуло посещать эти собрания. Шум из зала и общее там оживление не действовали на Василия Алексеевича развлекающим образом. Наоборот, это веселье и шум только усиливали его раздражение. «Вот они там наслаждаются жизнью, – думалось ему, – а я должен пребывать в сознании, что жизнь отравлена для меня… Надежда на исцеление стала меня оставлять… и просвета в моем положении я не вижу, несмотря на всяческие ободрения доктора Гефта…»
Здесь надо сказать, что на безотрадное настроение нашего больного оказало немалое влияние свидание его с Лермонтовым, которое мы описали выше, свидание, к которому Сухоруков так стремился. Его сильно тянуло к Лермонтову, к этому гиганту мысли. Сухоруков думал найти в нем умственный для себя просвет… И что же он нашел в этом человеке? Лермонтов своими тирадами только укрепил Сухорукова в его отчаянии, ибо что могло быть безотраднее мысли, что жизнь есть пустая и глупая шутка… Фраза эта начинала делаться навязчивой идеей больного. Она парализовала порывы к религии, проснувшиеся было у Василия Алексеевича. Сердце его теперь словно окаменело, и все ему казалось противным и скучным…
Прошло полтора месяца проживания Василия Алексеевича в Пятигорске. На жалобы больного о неуспешности лечения доктор Гефт только пожимал плечами и высказывал удивление, что болезнь так упорна. Впрочем, он старался, как только мог, утешать больного. По его мнению, надо будет непременно повторить курс лечения в будущем году, и после повторения курса лечения Василий Алексеевич непременно поправится.
XIIПодходил август месяц. Василий Алексеевич думал об отъезде из Пятигорска. На этом настаивал и камердинер Захар, совершенно возненавидевший Пятигорск и доктора Гефта. «Они только вас, барин, обманывают, эти доктора, – говорил он Василию Алексеевичу, – и деньги с вас даром берут… Бросьте вы это ихнее лечение. Посмотрите вы, сударь, на себя… Какие вы здесь, в Пятигорске, стали… Куда лучше у нас в Отрадном!.. Там вольготно, и для вас там все удобства… Болезнь ваша, коли Богу угодно будет, сама без доктора пройдет… Ведь вы еще молоды, сударь!.. Прикажете-ка наш дормез в дорогу излаживать да почтовых лошадей брать».
И вот, несмотря на то, что Гефт посылал Василия Алексеевича еще в Кисловодск для завершения курса лечения на питье знаменитого нарзана, наш больной не послушался – влияние Захара оказалось сильнее. В один прекрасный день Сухоруков выехал из Пятигорска прямо к себе в Отрадное.
Невеселый сидел Василий Алексеевич в своем дормезе, совершая обратный путь по той же дороге, по которой он ехал сюда, полный надежд на выздоровление. Он уныло смотрел по сторонам дороги, смотрел на бесконечную ровную степь с пасущимися кое-где стадами, с проносившимися мимо редкими селениями и вкрапленными в степь обработанными полями. Казалось, теперь дорога эта тянулась бесконечно… Но вот остановка… Вот перепряжка лошадей на станции, руготня Захара с ямщиками, разговоры со смотрителем и опять дальше и дальше… Затем ночевка при страшной усталости, и так без конца… «Жизнь есть пустая и глупая шутка», – повторял не раз Василий Алексеевич во время своей дороги, и в душе его, выражаясь словами того же поэта, «царил какой-то холод тайный», и все казавшиеся ему ранее радости в его глазах таяли. Они превращались в горькие воспоминания. Все его эротические забавы: завладения им крепостными девками, кончая грустной историей с Машурой, все эти бессмысленные его анекдоты со светскими дамами и, наконец, гадкая история с Еленой Ордынцевой… А жизнь в полку! Если ее вспомнить, что это такое было?.. Разврат, чувственность и пьяное веселье… Бахвальство и хвастовство перед товарищами… Презрение к солдатам как к существам низшим… Битье по зубам, когда разыгрывалось злое сердце, никем и ничем не сдерживаемое… У них же, у этих людей – рабская покорность, безропотность и полная потеря человеческого достоинства… – и это жизнь!.. И это не пустая и не бессмысленная шутка!.. И хорошо еще, если бы жизнь эта была только глупой шуткой, а шутка эта еще вдобавок и злая. Болезнь, которая его, бывшего год назад полным сил, теперь так измучила, разве это не злая, ужасная шутка!..
Бесконечно, казалось, тянулось путешествие нашего больного. Так, усталый и измученный, сделал Василий Алексеевич уже более тысячи верст.
Но вот недалеко от Воронежа, лежавшего на пути Сухорукова в Отрадное, верстах в двадцати не доезжая этого города, произошло маленькое событие, задержавшее путешествие больного.
В дормезе Василия Алексеевича лопнула рессора. Событие это, очень незначительное само по себе, запомнилось Василию Алексеевичу, потому что при последовавшей остановке в пути ему пришлось пережить памятную ночь, пришлось пережить нечто для него очень важное и значительное. Об этой ночи и о том, что произошло после нее, Василий Алексеевич вспоминал всегда с большим волнением.
Поломка экипажа случилась, когда дормез проезжал через большое селение, где оказалась отвратительная дорога от пронесшегося недавно ливня и от больших выбоин, наделанных прошедшим через селение обозом. Ехать дальше в сломанном экипаже было нельзя. Пришлось задержаться в этом селении. На счастье Василия Алексеевича, здесь нашелся кузнец, который взялся сварить и укрепить сломанную рессору. И вот с этой задержкой Василию Алексеевичу пришлось ночевать в селении вместо той ночевки, которую он предполагал сделать в Воронеже. В селении оказался постоялый двор. На этом постоялом дворе Василий Алексеевич и решил основать свое временное пристанище, пока его дормез не будет исправлен.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
IКогда люди внесли Сухорукова в комнату постоялого двора, он не мог не обратить внимание на предмет, находившийся в этой комнате и резко выделявшийся из всей ее обстановки. Взор Сухорукова остановился на образе, висевшем в углу комнаты прямо против входа. Образ был ясно виден и показался интересным Василию Алексеевичу. Он был довольно большой и похож скорее на портрет, чем на икону. Живопись была свежа; в ней чувствовался некоторый талант. Писал его, надо полагать, какой-нибудь местный даровитый самоучка. Изображал образ седого, как лунь, старика с выразительными чертами лица, державшего в правой руке архиерейский посох. Голова старика была покрыта черным покрывалом, сливавшимся с мантией, в которую он был облечен. На покрывале, на лбу святого был вышит белый восьмиконечный крест.
– Что это за икона? – спросил Сухоруков у хозяйки постоялого двора, хлопотавшей тут же вместе с сухоруковскими людьми над устройством комнаты для постояльца.
– Да это Митрофания икона, – отвечала хозяйка. – Разве вы, барин, не узнали? У нас в Воронеже в соборе такой же его образ висит.
– Это которого не так давно мощи открывали? – проговорил Сухоруков.
– Его самого, батюшка, его самого. Нам в Воронеже один живописец эту икону за пятнадцать рублей отдал. Уж такая-то она хорошая!..
Сухоруков еще раз посмотрел на икону. «Какие в самом деле таланты между доморощенными живописцами попадаются», – подумал он.
Между тем люди Сухорукова приводили горницу в порядок. Скоро она преобразилась. Многое было вынесено, мебель переставлена. Захар знал вкусы своего барина. В одном из углов комнаты было настлано свежее сено. Там Василию Алексеевичу приготовили чистую постель. У противоположной стены на столе кипел самовар. Захар, как и всегда, был за хозяйку. Василия Алексеевича усадили к окну, которое было открыто, подали трубку.
Когда все было устроено, хозяйка остановилась у двери. Она была словоохотлива. Ей хотелось поговорить с барином. Это было ее развлечение – занимать разговорами постояльцев.
– Вы, барин, надо полагать, из дальних будете? – начала она. – В Воронеже-то еще не бывали… Вот увидите там собор наш, где Митрофаний лежит. Уж такой-то собор большой, и сколько там народу… И какие там чудеса бывают!..
– В городе мы останавливаться не будем, – сказал Сухоруков. – Мы мимо поедем, только лошадей переменим.
– Вишь ты! – удивилась хозяйка. – Спешите вы, значит, куда в другое место, а я думала, вы к угоднику…
В это время Захар, который подавал барину чай, остановился перед Василием Алексеевичем и тихо проговорил:
– Заехать-то к угоднику нам надо бы, сударь… очень бы это надо!.. – Он покачал головой. – Как так, сударь, мимо такого места проезжать… Когда в Пятигорск ехали – не заезжали… и теперь мимо хотите…
Сухоруков сердито взглянул на слугу. Ему было очень не по себе, а тут Захар лезет с непрошеными советами. Он решил оборвать Захара:
– Ты мне надоел, – сказал он, – не лезь и делай свое дело!.. Мне и без тебя тошно…
Захар поставил перед барином стакан с чаем и отошел в сторону. Но он, как видно, не мог уняться, стал вздыхать глубоко и громко. Наконец не вытерпел и проговорил:
– Господи! Да вразуми же Ты его! Господи, спаси нас и помилуй! – Захар перекрестился.
– Убирайся вон со своими вздохами, – вспылил внезапно Василий Алексеевич. – Ты много себе позволяешь, Захар, и это может для тебя плохо кончиться…
– Что ж, прогоните? – с горечью проговорил слуга.
– Коли будешь лезть со своими непрошеными советами, так и прогоню.
– Это меня-то прогоните, который вас на руках нянчил!.. Бога вы, сударь, совсем потеряли, вот что!..
– Захар, уйди! – закричал уже вне себя Сухоруков. – Слышишь, убирайся!..
Старый слуга вышел. Испуганная, вышла за ним и хозяйка, невольная свидетельница этой сцены.
Сухоруков остался один, рассерженный. Нервы его были не в порядке, а тут еще этот дурак полез так некстати… «Что за мученье! – роптал Сухоруков. – Когда только эта отвратительная жизнь кончится!..»
Наступил вечер, стало темнеть. Василий Алексеевич был рад, что день близится к концу. «Авось ночью засну, – думалось ему, – забудусь хотя во сне…»
IIНаконец желанная ночь пришла. Сухорукова уложили в постель на полу комнаты. Долго вертелся он на импровизированном ложе. Долго ему не спалось. Тихо было в комнате, тихо было и на улице. Стояла темная ночь.
Неотвязчивые тяжелые мысли роились в голове больного, и в голову его стала внедряться злая идея, что если жизнь его имеет ценность отрицательную, как «глупая и пустая шутка», то не лучше ли было бы вовсе избавиться от нее, от этой жизни… Ведь та единственная добрая сила, в которую он верил, его мать, оставила его. Да и не мираж ли все это воображение о матери, в которую он там уверовал? Не злая ли сила подшутила тогда над ним в ее видении? И не царствует ли в этом мире один только диавол?.. Один он нераздельно властвует и мучает людей…
И с каким-то словно облегчением для своей тоски стал мечтать Василий Алексеевич о том, как было бы хорошо, если бы он, теперь заснув, никогда не просыпался.
Мучимый тяжелыми думами, Василий Алексеевич забылся, наконец, в охватившем его сне.
И вдруг он видит в этом сне, что в окружающей его темноте стал светиться перед ним лик какого-то старика с нависшими седыми бровями и с черными глазами, которые пристально на него смотрели. Лицо и вся фигура старика делались все ясней и ясней. Старик этот ничего не говорил, а только упорно смотрел на него. И вдруг движением правой руки перекрестил его, Сухорукова, широким крестом совершенно так, как крестила его когда-то мать, укладывая в постель и читая ему молитвы. Потом видение исчезло. «Как это странно, – думал в забытье Василий Алексеевич, – я никогда раньше не видел этого старика». Но вот еще новый сон охватил больного. Он видит икону Митрофания – ту самую, которая висит на постоялом дворе, и перед ней его Захар молится. Но икона эта точно выросла, сделалась больше, и ее освещает целый ряд висящих перед ней лампад. «Барин, дорогой мой, – говорит Захар, – приложись к угоднику! Он тебя исцелит». Затем и эта картина сна исчезла… И Василий Алексеевич проснулся.

