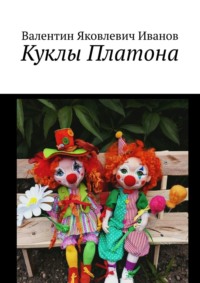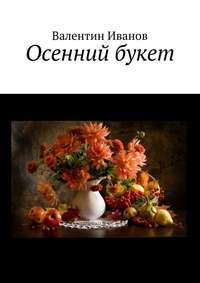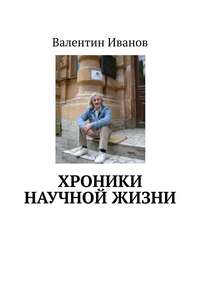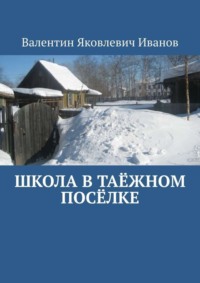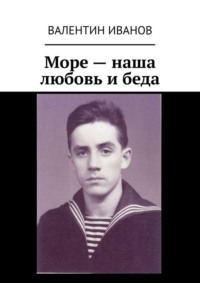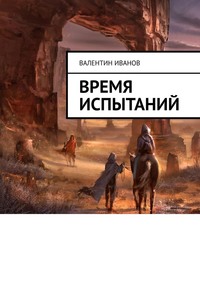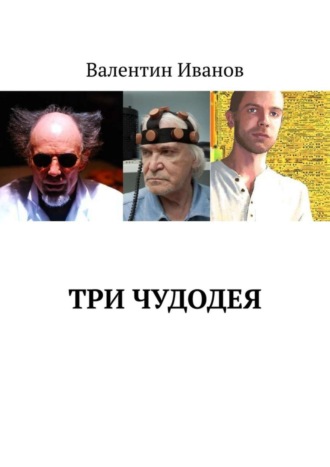
Полная версия
Три чудодея
Будущая книга имела предварительное название «Математические основы естествознания». Новым в ней было то, что в первом томе рассматривались непрерывные эйдосы, а во второй предполагалось включить дискретные. Это позволяло построить фундамент математики – теорию чисел и теорию множеств на новой основе. Элементарных кирпичиков не может быть много. Минимальное их число – два. Чтобы не путать их с элементами двоичной системы – нулём и единицей – их можно назвать белым и чёрным эйдосами. Гораздо более сложные и продуктивные конструкции можно образовывать, если наделить эти эйдосы другим свойством, ортогональным первому. Например, назвать их мужскими и женскими. Тогда имеем всего четыре кирпичика: мужской-белый, мужской-чёрный, женский-белый и женский-чёрный. Следующим шагом нужно определить операции над эйдосами – сложение и умножение, что позволит построить алгебру эйдосов. По замыслу Гуриваныча, построенный таким образом язык описания позволить по-новому представить не только математику, но теорию музыки, генетику, лингвистику, заменить язык химических формул и многие другие, частные и специальные языки, выработанные человечеством для представления результатов интеллектуальной деятельности.
Сказано-сделано. Веня трудился над написанием этой книги около полугода. Предварительные результаты он опубликовал в соавторстве с Светлаковым в журнале «Метафизика», где анонсировал появление будущей книги. Но, чем далее он продвигался на этом пути, тем более смущали его, казалось бы, мелкие детали, число которых возрастало по экспоненте. В первой главе он сделал обзор достижений человеческой цивилизации до настоящего времени – от Евклида и Демокрита до Эйнштейна, Шрёдингера, Гейзенберга, Дирака и других великих учёных современности. Он считал, что при освещении принципиально новых идей такие обзоры обязательны, поскольку они позволяют чётко представить читателю, что же именно нового содержат эти идеи в сравнении с тем, что было сделано ранее.
Гуриваныч полагал, что книга должны быть написана таким ясным языком, чтобы её идеи должны быть понятны даже домохозяйкам. Вене это было слышать странно. Он вспомнил слова Владимира Ленина о построении государства нового типа, которым могла бы управлять любая кухарка: «Сделать это – наша задача». Он хорошо помнил, что построенным таким образом государством могли управлять только несгибаемые большевики и созданный ими репрессивный аппарат ВЧК, а создать бездефицитную экономику и им так и не удалось. Однако, понимая свою роль инструмента, пишущего чужую книгу, он решил дипломатично помолчать, только спросил:
– Как же написать такую книгу, какими словами?
– Этот метод мы назовём условно «Уроки танцев», – ответил Светлаков. – Суть в том, чтобы разбить изложение новых идей на элементарные «па». Каждый мелкий шажок должен быть настолько простым, чтобы был понятен даже идиоту.
– Если хорошо постараться, это можно сделать, – размышлял вслух Веня. – Проблема, однако, в другом. Насколько я представляю мировоззрение домохозяйки, она заинтересуется эйдосами лишь в том случае, если они помогут ей быстрее, дешевле приготовить обед и сделать его вкуснее, чем без знания эйдосов.
– Сделать это – наша задача! – воскликнул Гуриваныч в совершенном восторге.
Через некоторое время, прочитав венин обзор, он сказал:
– Всё это не нужно, следует выбросить.
– Почему? – изумился Веня, который затратил на написание обзора три недели напряжённого труда.
– Во-первых, это очевидно, а во-вторых, известно всем. Зачем повторять то, что описано стократ?
– Э, нет, уважаемый Гуриваныч. О любви писали тысячи лет до Шекспира и сотни лет после него. И далее будут писать, пока человечество живо. Всё дело не в том, о чём писать, а в том, как писать. Я как-то совсем не уверен, что любая домохозяйка знает, что именно написал Демокрит в своих книгах об атомах и о тех крючочках, которыми они зацепляются один за другой. Если мы начнём книгу с первой страницы об эйдосах, боюсь, домохозяйка не дойдёт в своём чтении до второй страницы.
Приговор мэтра был окончательным, и Веня выбросил обзор из Ведения книги. Однако, сам он считал, что обзор написан им весьма свежо и оригинально. Он может послужить неплохим материалом для чтения лекций об истории естествознания, поэтому Веня сохранил его в своих архивах и позднее не раз использовал для такого рода лекций.
Сложность вениной работы заключалась в том, что по мере написания книги у Гуриваныча появлялись всё новые и новые идеи. Хорошо бы, если эти идеи только дополняли содержание книги, но они, к сожалению, требовали переписать книгу заново, изменив её парадигму.
Второй вариант книги Светлаков решил назвать «Флора и фауна». Под флорой он подразумевал непрерывные эйдосы, а фауной считал дискретные. Теперь содержание книги выстраивалось по-иному, поскольку в неё нужно было включить главы, ранее представленные в первом томе Теории Всего, причём включить органично, не повторяя дословно то, что уже опубликовано. В этом варианте, который Веня мысленно назвал сельскохозяйственным, построение арифметики Гуриваныч решил сделать по способу организации садово-огородного кооператива, в котором грядки соответствуют разрядам в представлении чисел с помощью эйдосов.
Когда стали проступать контуры второго варианта книги, Мастер решил, что это никуда не годится, и книгу следует назвать «Концерт для фортепиано с оркестром», и структуру её перестроить совершенно по-новому. Веня уже начинал понимать Светлакова с полуслова. Он догадался, что дирижёр – это сам автор теории, деление инструментов оркестра на струнные, духовые и ударные – это чёрные, белые и бесцветные эйдосы, а деление духовых на деревянные и медные, струнных на смычковые и клавишные – это мужские и женские типы эйдосов. Светлакова всегда привлекали яркие метафоры. К этому моменту Веня уже осознавал, что он никак не хочет ставить свою фамилию в качестве соавтора книги, потому что у главного автора после инсульта не всё в голове пришло в норму, и соавторство будет лишь дискредитировать Веню.
Перед ним сидел старик с добрым лицом, ласковой улыбкой, но жёсткий и непреклонный в части реализации своих идей, а, кроме того, нисколько не сомневающийся в том, что он сделал величайшее открытие в истории человечества. Его вовсе не останавливало то, что человечество это в лице мирового научного сообщества никак не хочет признавать масштаб его открытия.
– Ну, вот Вы, – говорил он ласковым голосом Вене, – Вы написали пять научных монографий, издали ещё с десяток книг поэзии, прозы и поэтических переводов с четырёх языков, а что Вы, по-существу, привнесли в науку?
Веня задумался. Сам он себе таких вопросов не задавал, трудился как муравей, писал статьи, выступал на международных конференциях. Многие коллеги признавали, что некоторые физические и математические модели в самых разных разделах электродинамики, физики ускорителей и электронной оптики он создал впервые. Это Веню вполне устраивало, но он не успокаивался, защитив две диссертации, и продолжал идти в своих поисках дальше.
– Как Вам сказать, по разработанным мною методикам работают сотни уникальных приборов, в расчётах и проектировании которых я принимал личное, зачастую полностью самостоятельное участие.
– Ну, что приборы? Одним меньше, другим больше, – пытал его Светлаков. – Я спрашиваю, какие новые законы природы Вы открыли?
Вене нечего было возразить, но к этому времени он стал чаще и чаще задаваться попросом: Отчего же ты сейчас так одинок, Мастер, основатель школы Теории Всего?
Школа Теории Всего
Первым учеником у Светлакова был Григорий Павлюченко. Молодой, кудрявый и стройный, он пришёл к Гуриванычу с просьбой о поступлении к нему в аспирантуру. Сам Светлаков, рассказывая «Как-то ко мне подходит один из выпускников физического факультета университета и заявляет, что хотел бы продолжить углубленное изучение моей теории. Я ответил, что весьма рад такому интересу к моей деятельности, но сама теория представляет собой совершенно новое направление в современной физике, непривычна для тех, кто сталкивается с ней поначалу, и потому в настоящее время совершенно не диссертабельна. К счастью, моё честное предупреждение на молодого человека не подействовало, и именно он стал впроследствии моим первым и самым плодотворным учеником. Григорий прекрасно владел аппаратом современной математики и, в частности, далеко не простым её разделом, называемым функциональным анализом.
Нашим первым крупным успехом было полное исследование «двумерных геометрий», которое привлекло внимание геометров. Мой ученик установил связь принципа феноменологической симметрии с известным принципом групповой симметрии, затем подготовил кандидатскую диссертацию «Полная классификация физических структур произвольного ранга» и представил её в Совет университета по специальности «Теоретическая физика». Новизна направления, развиваемого им, была столь ошеломляющей, что это вызвало яростные дебаты, хотя созданный им математический аппарат и строгость доказательств основных положений диссертации не вызывали никаких сомнений. Главный вопрос оппонентов ставился так: «Какое отношение все это имеет к физике, если физика – наука экспериментальная?». С первого захода диссертация была отвергнута, как не соответствующая специальности, но диссертант оказался настырным. Он переделал изложение многих положений диссертации, чтобы учесть рекомендации Совета и рецензентов. Затем он лично начал обрабатывать всех оппонентов, и во втором заходе защитился совершенно уверенно.
Успешная защита была нашей первой победой в укоренении Теории Всего среди профессиональных ученых. Она придала Павлюченко новой энергии, и через несколько лет он основал новую науку – исчисление кортов. Главным итогом этой работы было строгое доказательство единственности физических структур произвольного ранга. Итог этот был столь значителен, что Григорий успешно защитил докторскую диссертацию «Групповые свойства физических структур». Высокую оценку этой работе дала академик Рожинский, у которого Григорий стажировался ранее. Математические результаты этих исследований заинтересовали академиков Близняка и Лизандрова, а также профессора Тютчева, оказавших большую помощь и поддержку в подготовке диссертации к защите. Это уже был настоящий триумф теории, после чего Павлюченко стал профессором университета и членом-корреспондентом академии Естествознания. В дальнейшем он стал разрабатывать новое направление «Вложение физических структур в структуры более высокого ранга», написал пять монографий по Теории Всего и в настоящее время готовит шестую с возможным ее изданием на английском языке. Создал свою школу в университете, в которой можно отметить двух его учеников, защитивших кандидатские диссертации по этой теме».
С Павлюченко началось создание школы. Позднее к ней присоединился доктор физматнаук Илья Тютчев, человек редкой эрудиции, который воспламенился идеями Светлакова и стал ревностным поклонником его теории, даже вызвался перевести на английский первую книгу о Теории Всего. Закончилась эта деятельность не самым радужным образом. К сожалению, у Тютчева был весьма своеобразный характер: он любил лесть, и воображал себя полубогом, не терпел никакой критики. Когда же Светлаков приносил ему какую-то совершенно новую информацию и замечал: «Ну вот, Илья, ты этого не знаешь, и того тоже», – он с трудом сдерживал уязвлённую гордость и начинал яростно спорить. Бывали случаи, когда Гуриваныч уходил от него, хлопнув дверью и давая себе клятву никогда более не пересекать порога этого дома.
После того, как Тютчев и еще большая группа учёных Академгородка подписали знаменитое «письмо сорока шести» в защиту незаконно осужденных Гинзбурга и Галанского, для Светлакова последовавшая за этим гроза прошла без особых последствий, а Тютчева выгнали из института и лишили права преподавать в университете. Настоящая причина была, возможно, не в письме, а в независимом характере Ильи и прямоте, с которой он говорил о профессиональных и человеческих качествах своих коллег, об интригах в среде чиновников от науки, о привилегиях, имевших место в Академгородке (специальный стол заказов, специальное медицинское обслуживание и прочие привилегии для начальства и докторов наук с их семьями). Весьма важным фактором, объясняющим причины его увольнения, была обширная деятельность в области самиздата. Еще в 60-е годы Тютчев участвовал в организации общественной библиотеки Самиздата. Для Самиздата он выбирал и переводил с разных языков книги по психологии, истории и политологии, которые считал особенно важными.
Он же впервые перевел и запустил в Самиздат многие книги по психологии, в то время в СССР не допускавшейся: Эрик Берн «Игры, в которые играют люди», «Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных», «Секс в человеческой любви»; Эрик Фромм «Бегство от свободы»; Карен Хорни «Невротическая личность нашего времени» и многие другие. Для знакомства читателей с различными общественными устройствами Тютчев перевел для Самиздата книги из серии карманных «Азбук», издававшихся в Варшаве и разъяснявших основы общественного и экономического устройства разных стран: «Азбука Стокгольма», «Азбука Вены», «Азбука Бёрна». После его смерти за рубежом вышел семитомник полного собрания его сочинений и девятитомник его переводов.
Четыре года он был безработным, подрабатывая переводами статей с иностранных языков, которых он знал немало, потом его приняли на работу в химический институт. Девять лет в ВАКе не утверждали его докторскую диссертацию. Тютчев развивал идеи групповой классификации атомов в ряде публикаций, которые к началу 1980-х годов обобщил в виде монографии «Группа симметрии химических элементов». В результате целый раздел химии, связанный с таблицей Менделеева, стал частью математической физики. Эта монография была подготовлена к печати в издательстве «Наука», потом неожиданно изъята из печати, а набор рассыпан. Зачем это понадобилось, вскоре стало ясно, что Тютчева уволили из института «в связи с несоответствием занимаемой должности по результатам аттестации». Снова жил случайными заработками и продолжал заниматься наукой. Впрочем, вряд ли Илью Тютчева стоило бы причислять к когорте учеников или апологетов Теории Всего, поскольку масштаб этой личности выходил далеко за рамки подобных определений. В науке он остался как крупный математик, философ и публицист, переводчик и просветитель. Для Гуриваныча он многие годы был ближайшим другом и умным собеседником.
Наиболее верным учеником можно считать Сергея Санина, помощь которого в издании главной книги «Теория Всего» трудно переоценить. Без него эта книга просто бы не вышла. Алексей Пимонов также был когда-то студентом Светлакова, после окончания матфака увлёкся алгеброй, сумев талантливо связать её с идеями, заложенными в основу Теории Всего, но затем ушёл в бизнес и постепенно отошёл от нашей активной деятельности.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.