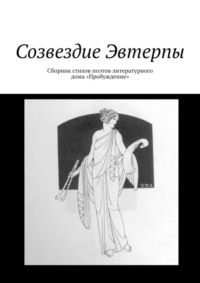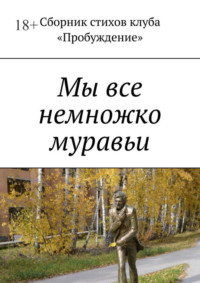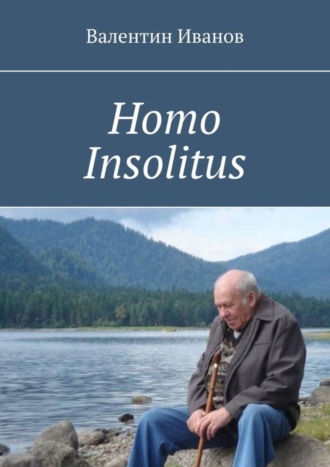
Полная версия
Homo Insolitus
Младший из братьев Павел имел таланты совсем иного свойства. Отчаянно смелый и невероятно проворный, он решил стать циркачем. Для этого он рядом с радиоантенной Николая соорудил из брусков и трубочек также высотное сооружение, на которое при стечении дворовой публики забирался по веревочной лестнице. С верхней площадки он картинно падал вниз спиной под вскрики ужаса: «Ах»! При этом к верхней штанге всего сооружения с двух боков были привязаны длинные веревочки, которые были продеты сквозь ряд соединенных между собой веревочных же колец, а другие концы веревок были привязаны к рукам циркача. Падая, он разрывал со страшным треском последовательно одно кольцо за другим, замедляя таким образом падение, а в самом низу он вскакивал упруго на ноги с криком: «Оп-ля!», срывая заслуженные аплодисменты. Потом он достал где-то петарды, привязал их к разрываемым кольцам, и теперь уже падал под оглушительные треск петард.

Дядя Павел и его жена Шура
Оч-чень рисковый был мальчик! И очень амбициозный. Он придумал себе артистический псевдоним «Пауль Турамо», который вывел крупными буквами масляной краской на заборе.
По материнской линии мой прадед носил фамилию Ломоносов, и был он столяр-краснодеревщик из деревни Сурки. Профессия эта редкая и уважаемая, а фамилия деду показалась несолидной, поэтому, попав в город, он сменил свою редкую фамилию на более «сурьезную» – Иванов. Конечно, живя в деревне, он никогда такого бы не сделал. Во-первых, в деревне все хорошо знают друг друга, и потому смена фамилии ничего в жизни не меняет. Но есть и другая, более веская причина: смена фамилии показывает неуважение своих предков, потому в деревнях никому и в голову не придет такая глупая идея. Город – другое дело. Здесь так много народу, что живущие в соседнем доме о тебе и твоих предках знают только то, что ты им сам удосужишься сообщить. По мнению деда, новая, более «пристойная» фамилия полезна его делу, вызывая большее уважение со стороны заказчиков добротной мебели.
Краснодеревщик женился на красивой женщине с гордой осанкой по имени Анна, и от этого брака родились дочери Саша и Тоня. Дед умер рано, и молодую вдову взял замуж некий поляк, Ипполит Мячеславович Селинг, работавший на железной дороге помощником машиниста. Женившись, он поставил большой дом на станции Отрожка недалеко от дома другого моего деда Василия. Ипполит был страстным охотником. Именно охота составляла его главную суть и страсть. По двору бегали несколько охотничьих собак высокой породы. На почве этой страсти он, простой машинист подружился с владельцем завода. Впрочем, другой его страстью были женщины, и он нередко изменял жене. Анна же стоически гордо сносила эти измены, никогда не заговаривая на эту тему с родственниками и соседями. Ее дочь Тоня и стала моей матерью.

Дед Ипполит Селинг
В Доме красной армии возникла теактральная студия. Именно там и встретились мои родители, увлекавшиеся театром. В постановке спектакля по трагедии Александра Пушкина «Борис Годунов» Тоня играла роль Марины Мнишек, а Иван Кулаков – роль Лжедмитрия. Оба они были молодыми, красивыми и талантливыми людьми. Они влюбились друг в друга, и поэтому сцена объяснения в любви главных героев была фактически совершенно искренним объяснением в любви актёров друг к другу. Были бешеные аплодисменты публики, а после спектакля они поженились.
Мама моя по профессии была учительницей, а отец Иван был большевиком, работал бухгалтером. Мамина Сестра, тётя Шура была страстной монархисткой, и потому в нашем доме нередко вспыхивали яростные политические дискуссии, в которых роль мамы заключалась в том, чтобы найти какие-то общие моменты в непримиримых позициях тёти Шуры и отца и утихомирить страсти спорщиков.

Анна Алексеевна с дочками
От партии отец получил задание взрывать, сносить и разрушать церкви в рамках организованной борьбы с религией. Выполнить это задание он отказался, поскольку разрушать пришлось бы, в том числе, и все, что было построено руками деда. За этот отказ отца из партии вычистили, но на тот момент этим все и ограничилось. Но в декабре 1937 года все это припомнилось, и отец был арестован по доносу. Николай со своими карточками со всего мира и домашней радиостанцией сразу сообразил, что более подходящего персонажа в качестве шпиона сразу многих разведок для НКВД не найти. В 1939 году его нашли повесившимся в лесу, но незадолго до этого он спас меня от смерти.

В детстве я переболел полиомиелитом. У меня была атрофирована левая часть тела, рука и нога были обездвижены. Мама предприняла нечеловеческие усилия, чтобы вернуть меня к жизни. Она показывала меня разным врачам в Москве и на Украине, возила в санатории и грязелечебницы. Ежедневно сама делала мне массажи, и произошло рукотворное чудо. Постепенно начали двигаться, сначала рука, затем нога. Восстановительный процесс длился долго, и чтобы закрепить его, отец с мамой стали активно приобщать меня к спорту. Конечно, в коллективные игры я еще долго не мог играть, поэтому начали с плавания. Выглядело это так. Правый берег реки был обрывистым. Родители раскачивали меня, держа за руки и ноги, кидали прямо с обрыва в воду, затем прыгали в воду сами. Я барахтался, а они страховали меня и обессиленного вытаскивали на берег. Так продолжалось несколько дней, и постепенно я начал уверенно чувствовать себя в воде. Через короткое время я стал уже самостоятельно переплывать реку, благо течение в наших местах было не быстрым, а сама река – не слишком широкой.

«Дети капитана Гранта»
К двенадцати годам я настолько окреп, что родители стали доверять мне лодку, которую отец назвал «Фрам» в честь первой в мире полярной шхуны, построенной по проекту Нансена. На ней он совершил три эеспедиции к северному и южному полюсам. Название это лодке дано было после того, как она простояла зиму у берега реки, вмёрзшая в лёд. Когда я стал уверенно двигаться, любопытство исследователя природы я удовлетворял заплывами на лодке в наиболее живописные места реки Воронеж. Чтобы мне не было скучно одному, а набрал себе «команду» из мальчишек помладше меня, чтобы чувствовать себя среди них настоящим капитаном.
Однажды жарким летним днём 1939 года я с командой из четырех пацанов отправился вверх по реке. Обрывистый берег в этом месте высится примерно на два метра выше уровня воды. У самой реки берег песчаный, а сверху слой чернозёма покрыт густой травой. В такой почве легко роются пещеры, в которых в самую жару царит приятная прохлада. Отрывать такую пещеру мы начали вместе, а когда достаточно углубились, я, как самый сильный, продолжил это дело один. Отрыв достаточно просторный объем, чтобы поместиться всем, я натаскал в пещеру травы и улёгся на спину, заложив руки за голову. Ребята осторожно заглядывали в эту пещеру, но внутрь залезать побаивались.
– Давай, давай, не трусь, – подбадривал их я, – бояться нечего. Можете попрыгать сверху, чтобы убедиться, что пещера прочная.
Кто-то из них залез наверх и попрыгал. Вся масса земли и песка разом рухнула на меня, лежащего на спиге заложив руки за голову. Я сделал последний выдох, а вдохнуть уже нечего. В последние секунды передо мной промелькнула вся моя короткая жизнь – мама, отец, школа – затем сознание померкло. Этим бы всё и закончилось, если бы именно в этот час, в эту самую минуту мимо нашей пещеры не проплывал на своей лодке дядя Коля. Он увидел причаленный к берегу наш «Фрам» и сам пристал к берегу, увидев успуганно галдящих пацанов.
– Что случилось?
– Юру завалило там, в пещере!
Дядя Коля, лихорадочно работая руками, отрыл меня, сделал искусственное дыхание и вернул меня к жизни.
Именно после таких невероятных случаев люди начинают верить в чудеса, ангелов-хранителей, поскольку мою жизнь от смерти отделяли всего несколько секунд, и вероятность того, чтобы именно в эти секунды рядом оказался подходящий человек, не склонный к панике и не тугодум, который долго будет соображать, что произошло и что надо делать – эта вероятность просто ничтожна.
Теперь, спустя много десятилетий, проезжая мимо и видя перед глазами эту пойму реки, я мысленно ищу то место, где в далёком детстве я чудом остался жить. Я также вспоминаю всех тех людей, которые и в то далёкое время, и много позже своими, казалось бы, иногда совершенно случайными действиями давали мне возможность продлить свою жизнь. Пережив такие трагические минуты, научаешься по-особому ценить жизнь и радоваться каждому новому дню, который для других, возможно, кажется пустым, обыкновенным и даже скучным.
В лагере за колючей проволокой
Начало этой истории, как ни странно, связано со столетием со дня смерти А.С.Пушкина после знаменитой дуэли на Чёрной Речке. Событие это отмечалось в нашей стране с огромным размахом. Миллионными тиражами печатались книги великого поэта. В газетах и журналах напечатаны были сотни статей, посвященных знаменательной дате. Всюду проходили торжественные собрания, конференции и литературные семинары, на которых народу в тысячный раз объясняли, какой великий вклад в русский язык и его великую литературу внёс этот мятежный поэт. Миллионными же тиражами были отпечатаны школьные тетрадки на обложке которых были помешены фрагменты иллюстраций к произведениям Пушкина. На одной их таких обложек широкими штрихами был нарисован вековой дуб, растущий у Лукоморья. Возле дуба на цепи вальяжно расхаживал рассказывающий сказки «кот учёный», а на ветвях удобно расположились русалки. На другой обложке был изображён в сверкающих латах, опоясанный мечом Вещий Олег, прощающийся со своим славным боевым конём, о смерти от которого его предупредил кудесник, любимец богов.
Все эти пушкинские торжества находились в страшном контрасте в общей атмосферой страха и подозрительности, пропиьывавшей всё наше общество, которому со страниц газет, чёрных раструбов радиодинамиков и с экранов киножурналов внушали, что кругом нас окружают враги – троцкисты, вражеские шпионы, саботажники и диверсанты. Даже школьники с «пушкинскими» тетрадками, вместо того, чтобы слушать учителя, старались среди штрихов на обложке найти замаскированные образы. Если при таком поиске картинку еще и поворачивать, то некоторым удавалось обнаружить буквы, из которых складывалась фраза «Долой ВКПб». Из «компетентных органов» через облоно была спущена директива во все школы об изъятии «крамольных» обложек. Можно только предположить, что стало с авторами этих рисунков. Мама моя была учительницей старших классов. Выполняя директиву сверху, она собрала тетрадки своих учеников, оторвала все неугодные обложки, а тетрадки вернула школьникам без всяких объяснений. Да никто и не осмелился спрашивать. Целый портфель таких обложек она принесла домой то ли для последующей сдачи их в облоно, то ли просто для растопки.
В декабре 1937 года под утро, в пять часов к нам пришли с обыском. Отец мой был председателем месткома вагоностроительного завода, и на одном из собраний он выступил с защитой прав рабочих. С трибуны он заявил, что неоплата рабочим сверхурочных является незаконной, поскольку это грубое нарушение прав трудящихся. На общем подъеме искусственно раздувавшихся пропагандой стахановских и других починов, организация сверхурочных работ была массовой практикой руководства большинства предприятий, которая как бы отражала коммунистическое отношение к труду. Отец высказался, что нельзя эксплуатировать рабочих. Кто-то из «доброжелателей», присутствовавших на собрании написал донос о том, что энтузиазм советского народа приравне Кулаковым к методам капиталистической эксплуатации. Этого оказало достаточно, чтобы в областной газете «Комунна» появилась обширная статья о троцкистском выступлении Ивана Кулакова.
В ходе обыска наткнулись на портфель с «антисоветскими» картинками на обложках тетрадей, и отца арестовали. Забрали также висевшую на стене шашку, которой отец был награжден за участие в Гражданской войне, где он в семнадцатилетнем возрасте воевал в составе Первой конной армии Буденного. Шашка эта была гордостью всей семьи, а забрали её в качестве вещественного доказательства «приверженности к троцкизму».

Полгода мама пыталась выяснить, где находится отец, но никто ничего определенного ей не говорил. И вдруг мы получаем доплатное письмо в виде листка из школьной тетрадки, свёрнутого треугольником. В те времена это было общепринято. Если у отправителя нет марки, то почта доставляла его получателю, который должен был заплатить двойную цену марки. В тексте письма почерком отца было написано: «Дорогие мои! Я жив-здоров. Везут нас в товарном вагоне, неизвестно куда. Но я не падаю духом. Целую и обнимаю вас. Ваш Ваня». Руки мамы дрожали, когда она читала всей родне это письмо. Но слёз не было, надо было что-то делать, чтобы спасти мужа.
Письмо было проштемпелёвано, и на чернильном оттиске печати можно было прочитать «станция Сухобезводный». Сначала мы решили, что это где-то в Средней Азии, но когда открыли атлас, нашли её на севере европейской части, где тайга и тундра. Мама сразу же решила ехать туда, взяв меня с собой. Мне тогда было одиннадцать лет. Мы сели в поезд и поехали. Оказалось, что эта станция является центром огромной территории Нижегородской области, носящей название Унжлаг по названию протекающей там речки Унжи. Позже я узнал, что в лагпунктах этого «острова скроби» ГУЛАГа содержались до двух тысяч заключенных. В основном. Они использовались на лесоповале.
Мама пошла по начальству, но НКВД-ешники там привыкли разговаривать с людьми только матом: «Какого тебе еще Кулакова надо? Убирайся вон, а то и тебя посадим туда же». Поняв, что от начальства ничего не добьешься, мама вышла на улицу. Мы присмотрелись к поселку. Он оказался пересылочным пунктом многих лагпунктов Унжлага, и на его улицах было много расконвоированных, которые имели некую свободу перемещения, но не имели права отсюда уезжать и должны были периодически отмечаться в комендатуре. В этих людях нетрудно распознать было лагерников. Все они были коротко стрижены, в телогрейках и ватных штанах, но главное было в выражении лица – потоянно напряженное, готовое к тому, чтобы дать отпор, «отоварить» неожиданно подвернувшегося друга ли, врага ли, кто его знает. И вот мы ходили по улицам, мама заглядывала в лицо буквально каждому прохожему и спрашивала, не встречался ли ему Кулаков Иван Васильевич. Как правило, ей криво ухмылялись: «Что ты, дура, не понимаешь, что здесь миллионы людей, свезённых со всех окраин страны? В день видишь сотни новых, незнакомых лиц. Фамилий называть не принято. Ладно, если имя назовёт, а чаще обходятся просто кличками».

Вдруг один из зеков откликается:
– Кулакова Ивана? В очках, лысый? Как же, знаю. Мы с ним в одном бараке «паримся»
Сердце мамы ёкнуло: «Есть Бог!», хоть она и не верила в него раньше, будучи советской учительницей, да ещё замужем за партийным активистом Она восприняла это невероятное событие как светлый символ – проще найти иголку в стоге сена, чем родного человека в этом море скорби и слёз.
– Как он там? Здоров ли? А не могли бы Вы устроить нам свидание с ним?
– Что ты, дура-баба, не понимаешь? Это же не пионерский лагерь. Там охрана, колючка, собаки, вышки солдатами, переклички три раза в сутки. Какие там свидания?
Видимо, этот расконвоированный вор был авантюристом по натуре, и он, в конце концов, согласился помочь, но предупредил, что это стоит денег и немалых. Мама отдала ему все деньги, что у нас были с собой, и еще заняла немного у хозяйки, где мы остановились. Согласился он попробовать провести в зону только меня, поскольку женщина в мужской зоне лагеря – это гораздо менее вероятная картина, чем увидеть воочию чёрта с рогами и копытами. Ночью на станцию прибыл товарный состав с опломбированными вагонами. Лишь на вагоне охраны не было пломб. Я торопливо распрощался с мамой, откатили дверь и меня затолкали в этот тёмный, неосвещаемый вагон. Потом раздался толчок, скрип колёс. Состав тронулся. Ехали несколько часов. В вагоне не смолкал лай собак и ругань охранников. Воняло мочой и прелым сеном. Прибыли неизвестно куда уже под утро, часам к семи.
Я выскользнул из своего вагона и увидел, как охрана срывает пломбы, откатывает двери остальных вагонов, и оттуда буквально выползают изнурённые заключенные на негнущихся, одеревеневших от долгой неподвижности ногах. Тут же у вагонов они оправляли малую нужду. Отходить далеко от состава им не позволяли. Затем для них устроили перекличку, построили в колонну, и они неторопливо тронулись, сопровождаемые вооруженными охранниками с собаками. Откуда-то появилась лошадь с телегой, на которую охрана сложила свои пожитки. Туда же я бросил и свой заплечный мешок с краюхой хлеба, данной мне в дорогу матерью. Сам пошел вслед за телегой по открывшейся взору лесотундре. Дорога, по которой мы шли, называлась Лежнёвка. Она частенько проходила через заболоченные места, и для того, чтобы не проваливаться, заключенные проложила гать из брёвен.
Через пару часов ходьбы я услышал впереди захлебывающийся лай овчарок, потом сухой выстрел. Затем движение колонны возобновилось, и я увидел на обочине дороги скрюченный труп заключенного со спущенными штанами. Он был убит якобы при попытке к бегству, хотя даже ребёнок понимал, что бежать со спущенными штанами не просто неудобно, но и невозможно. Скорее всего, это был доходяга, который уже не мог идти наравне со всеми.
Примерно к одиннадцати часам мы подходим к лагерю, который окружали два ряда колючей проволоки между вышками и вспаханная полоса трёхметровой ширины. Колонна втянулась в лагерные ворота, а сопровождавший меня вор сказал:
– Ну, ты посиди здесь, а я схожу, узнаю обстановку.
Я присел на корточки под чахлым деревом, и меня тут же облепили комары, от которых я должен был непрерывно отбиваться сорванной веткой. Проходит час, другой, и я начинаю понимать, что этот вор забрал деньги и бросил меня тут в тайге, вдалеке от человеческого жилья, а просить помощи у лагерной охраны нет никакого смысла, поскольку тут же начнут допрашивать, как я тут оказался, и чего я тут делаю. Однако, через некоторое время вижу: идёт. Он берёт меня за руку и проводит через проходную. На территории вор заводит меня в барак и говорит:
– Вот место твоего отца. Сейчас он на работе, на лесоповале. Сиди здесь, никуда не выходи, жди его. Вечером придёт.
Я лёг на нары и заснул. Оказалось, что этот вор ни о чём отца не предупредил. Вечером отец заходит в барак и видит, что на его месте кто-то спит. Присмотрелся: сын.
– Как ты здесь оказался, сынок?
Я рассказываю ему о его треугольном письме, о маме и обо всех наших приключениях. Мы проговорили с отцом всю ночь. Представьте, многое ли может рассказать одиннадцатилетний мальчик? Конечно, мой рассказ очень быстро подошел к концу, и, понимая, что утром мы расстанемся, для того, чтобы сохранить этот неожиданный духовный контакт с родным сыном, отец начал рассказывать мне содержание романа Жюля Верна «Пятьсот миллионов бегумы». Роман описывает противостояние двух городов, построенных на территории США двумя наследниками огромного состояния: антиутопического Штальштадта, основанного германским милитаристом и расистом профессором Шульце, и утопического Франсевилля, построенного французом доктором Саразеном.

Отец мне рассказывает всю ночь, что такое фашизм, какие он ставит перед собой цели, какая социальная система на самом деле сейчас у нас установилась. Это был мой первый урок социологии. Надо сказать, мой отец был большой книгочей, и у нас было обширная библиотека. Прочитав много книг, отец умел очень красочно рассказывать те сюжеты, которые он прочел. Его удивительный рассказ в деревянном бараке с двухэтажными нарами под храп и стоны заключенных был столь необычен, что запомнился мне на всю мою жизнь. Я запомнил отчетливо даже его неторопливый голос, в котором, как ни странно, не было ни скорби, ни отчаяния. Как сумел мой отец, получив десять лет лагерей оставаться оптимистом, для меня так и осталось великой тайной.
Забегая вперёд, расскажу один интересный эпизод. Спустя много лет после описываемых мною событий в Академгородок приехал известный кинодокументалист Иосиф Пастернак, чтобы снять фильм о сибирском научном центре. В качестве одного из персонажей этого фильма он выбрал меня. Он побывал на моих лекциях в университете и у меня дома в гостях. Я рассказал ему некоторые эпизоды из моей жизни, в том числе и о пребывании моего отца в лагере. Он снял фильм по моим рассказам, и этот фильм получил первую премию на международном конкурсе «Эйфелева башня» в Париже. Позднее я был в командировке в Москве и остановился у моего друга Виктора Шахова. Вдруг раздается звонок, и абонент спрашивает:
– Вы не могли бы сообщить мне номер телефона Кулакова Юрия Ивановича в Новосибирске?
– Кулаков Вас слушает, – отвечаю, – я сейчас здесь, в Москве у друга.
– Какая радость! Юрий Иванович, когда мы могли бы с Вами встретиться?
Он приезжает за мной к Шахову и мы едем к нему в гости. По дороге он рассказывает, что у него сейчас в планах снять фильм о советских лагерях и политзаключенных. На квартире у него собрались его французские коллеги кинематографисты. Меня усаживают в центре комнаты в кресло, настраивают аппаратуру, и я начинаю свой рассказ. Для французов самой важной и неожиданной деталью оказывается тот факт, что истощенный от голода и тяжелой работы заключённый, который встречается с сыном всего на одну ночь, рассказывает своему сыну не о своей жизни, полной суровых лишений, а содержание романа Жюля Верна. Поневоле получается, что великий французский писатель не просто фантазировал на тему ужасов выдуманного тоталитарного общества, а предвосхитил даже многие детали, и рассказ сына политзаключенного теперь является просто живой иллюстрацией написанного в прошлом веке романа. Этот мой рассказ целиком вошел в следующий фильм Иосифа Пастернака.
Утром мы с отцом расстались. Зеков выводили на перекличку и развод на работы. Мы обнялись, но у меня возникло чёткое впечатление, что расстаёмся мы ненадолго, хотя отцовский десятилетний срок был в самом начале. Отец чувствовал то же самое. От него веяло каким-то непонятным, но мощным оптимизмом, что всё образуется, и скоро снова всё в жизни будет по-прежнему ярким и интересным.
Мы расстались. Появился мой знакомый расконвоированный уголовник, вывел меня за ворота лагеря, дал символического пинка под зад и сказал:
– Не бзди, парень! Дорогу теперь ты сюда знаешь, так что милости просим. Всегда будем рады увидеть тебя снова здесь. В каком качестве, это уж как судьба распорядится.
Я пошёл обратным путём по Лежнёвке. Заблудиться было невозможно, потому что дорога была одна, и развилок на ней не было. Дойдя до конечной станции, я увидел порожний состав, протиснулся в один из пустых вагонов, справедливо полагая, что когда-нибудь поезд отправится назад в Сухобезводное. Действительно, через некоторое время раздался гудок поезда, лязгнули буфера вагонов и состав, набирая скорость, плавно покатил в нужном для меня направлении, ибо других направлений от конечной станции просто не было.
Мама страшно обрадовалась, когда увидела меня живым-здоровым, вернувшимся чуть ли не с того света. В известном смысле это так и было. Судьба и здесь каким-то чудесным образом хранила меня. Для чего? Для каких иных свершений?

Мы отправились в обратный путь. Дома мама следила за неожиданными и почти непредсказуемыми сменами политического курса страны через книжный магазин, который был у нас в Отрожке. На витрине этого магазина была постоянная экспозиция портретов членов ЦК партии. Экспозиция-то была постоянной, но элементы этой экспозиции довольно часто менялись без объяснения причин и комментариев для народа. В центральной части этой экспозиции находился портрет наркома внутренних дел Николая Ивановича Ежова, и вдруг этот портрет исчез. Именно в годы «ежовщины» появились разнарядки местным органам НКВД с указанием числа выселяемых, арестованных, подлежащих репрессиям и расстрельные списки. Исчезновение портрета Ежова мама восприняла как сигнал о том, что надо действовать немедленно. Она садится на поезд и едет в Москву хлопотать о муже. Начала она с обхода кабинетов начальников. На улице Калинина она увидела огромную очередь, состоящую, главным образом, из жён политзаключенных. Стоять там нужно было долго, целыми днями, и сердце ей подсказало, что ничего хорошего она в этой очереди не выстоит. Тогда она решила обратиться к Надежде Константиновне Крупской. Мама, конечно, не знала, что после смерти Ленина Сталин постарался «задвинуть» Крупскую, как можно дальше, и реальной власти она к тому времени никакой не имела, была отстранена от деятельности Наркомпроса и курировала вопросы библиотечной деятельности.