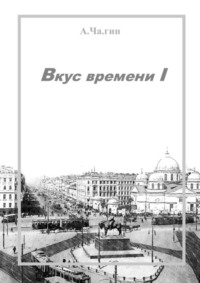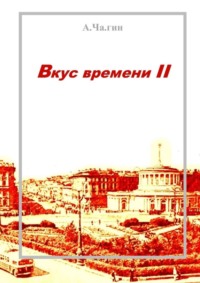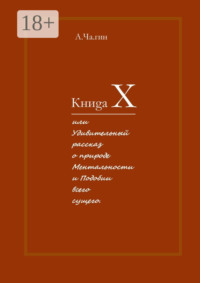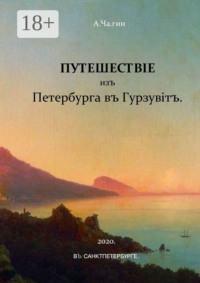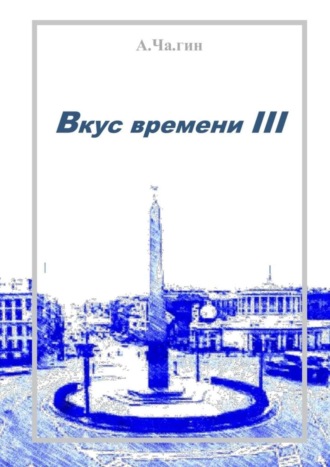
Полная версия
Вкус времени – III
Вокзал, площадь, трамвай.
Мирные, обычные люди, занятые своими делами, снующие автомобили, кружащийся легкий снег – жизнь продолжалась как ни в чем не бывало, и никаких ежово-бериевских застенков не просматривалось. У Саши, благодаря скудным рассказам отца и многотомным романам Солженицына, невольно выработалось ощущение чего-то темного и барачного, ожидание хмурых личностей в шинелях и пьяных извозчиков.
Ничего этого не было!
Был светлый зимний город на берегу великой реки.
А река, действительно была велика и величава. Даже несмотря на сковавший ее мороз, Волга производила необычайное впечатление, прежде всего, своей широтой. Она раскинулась как море, и противоположного берега было не видно. Обрывистый, высокий яр был огражден парапетом и, стоя перед речным простором, Саша подумал, что вот так все семейство Щеголевых и в мороз, и в жару, и вскользь, проходя мимо и любуясь этим сказочным видом, всматривались в волжскую даль, ожидая решения своей судьбы.
Иных уж нет, а те далече…
Путевка предусматривала ознакомительные экскурсии, но Александр не поехал с группой. Он решил побродить по отцовскому городу один, попытаться понять сущность души волжского пристанища Щеголевых, и попробовать вжиться в то далекое время.
Куйбышев, конечно, должен был измениться с тех незапамятных времен, но по духу остался тем же старинным городом, имевшим когда-то другое имя – Самара. Главная улица была характерным примером: среди сталинских помпезных, монументальных сооружений, вроде Института Оргэнерго на широкой площади и других новоделов, оставались старые купеческие дома и особняки, которые и придавали Самаре исконно русский вид.
Ну, естественно, не обошлось без памятников Ленину и Куйбышеву, причем, одной «руки» – скульптора Манизера, певца социалистической родины и ее вождей. Памятники были предельно традиционными, без полета фантазии и таланта. Голый коммунистический апофеоз.
И Саша подумал, глядя на бронзовых колоссов, что переставь головы монументам, никто бы этого и не заметил, даже сам прославленный ваятель.
Памятники, как памятники, какие стоят во всех городах, поселках и просвещенных деревнях Страны Советов. Народ должен знать своих вождей! А что же еще может вдохновить творца в этой злосчастной стране, как не светлые и одухотворенные лица создателей Союза нерушимого? Озабоченные и хмурые лица ссыльных и заключенных или простых тружеников и обывателей? Конечно, нет! Ленин с Куйбышевым, стоя на пьедесталах, озирали дела рук своих. Будто только они знали что, когда и кому надо делать и как жить. Но они явно посягнули на чужую компетенцию и, вследствие этого, оба закончили свои дни преждевременно.
Саша прошел по набережной, вышел на какую-то улицу и попал… в такой знакомый Владимир – те же двухэтажные, снизу каменные, сверху деревянные домики, высокие заборы, и заросшие заснеженными яблонями сады…
Но становилось все холоднее, и морозный ветер с Волги заставил Сашу зайти в какое-то типовое серокирпичное, застекленное кафе, где он заказал рюмку коньяку, чай и бифштекс – все, что там и было в меню на сегодня. Гуляя по городу, он и не заметил как продрог и только сейчас в тепле и уюте этого заведения общественного питания, Сашу охватил сильный озноб. Зуб на зуб не попадал.
Негнущимися пальцами Саша достал папиросы и закурил. Боль в ломивших руках и ногах немного отпустила, и коньяк, поданный задолго до всех других блюд, окончательно привел Щеголева в чувство.
Неласково встречает своих гостей Самара-городок.
Да зачем я так, подумал Александр, – невольное предубеждение, а город красивый, широкий, привольный и неожиданно большой. Саше так и не удалось, как он рассчитывал, выйти на окраины. И кафе хорошее, и мясо вкусное, и чай горячий. Все нормально. Жизнь идет своим чередом.
Вечерело. Саша вышел на улицу отдохнувший, согретый и направился на вокзал, где стоял их туристский поезд и где его ждал еще путевочный ужин.
Он спросил у прохожего дорогу и тот посоветовал проехать на трамвае – до вокзала оказалось далековато.
Много же я прошел, и, наверное, мои пути хоть раз да пересеклись со следами других Щеголевых, всех моих родственников, думал Саша, глядя в обледеневшее окно трамвая. Он рукой растопил себе маленькое смотровое окошечко и наблюдал за скользящими тенями вечернего города.
И, безусловно, след жизни каждого человека записан на полотне земли невидимыми строками навсегда…
Эля Максович Монастырский, в простонародье – Олежка или официально Олег Максимович, был бригадиром художников на заводе «Северный стан». Это был профессиональный художник-шрифтовик, мастерству которого мог позавидовать сам Вилу Тоотс. К тому же, Олег обладал импозантной внешностью: пронзительные черные глаза, нос с горбинкой, курчавые длинные волосы в стиле «афро», усы и борода делали его похожим на врубелевского демона, но улыбка и некоторая растерянность во взгляде превращали грозного бригадира в достаточно мирное создание. Даже имея такой антиобщественный облик, Монастырский никогда не опаздывал на режимное предприятие, выполнял все работы в срок, с отличным качеством и был по общему мнению добросовестным трудягой.
Наверное, именно за это свое ответственное отношение к работе он и был поставлен начальником ватаги ненадежных и легкомысленных людей, каковыми в администрации завода считались художники. Нет, конечно, к ним относились со всем уважением и трепетом, как к любому творческому коллективу, но художники и есть художники, и они плохо вписывались в производственный процесс и план по выпуску секретной военной продукции. А наглядная агитация, что всем известно, была жизненно необходима для любого советского производства как воздух и, поставив дядькой надежного человека, заводской треугольник (дирекция, партком, завком) могла спать спокойно.
Александр Щеголев, недавно перешедший работать на «Северный стан» в заводскую мастерскую, куда его перетащил Серега Огольцов, как раз и дополнил художественную бригаду, в которую еще входили сам Сергей, упомянутый выше Олег и уже известный цеховой слесарь-художник Сашка Забродин. Дождавшись из Москвы допуска на секретный объект, Щеголев с увлечением включился в художественно-производственный процесс.
Работа состояла в основном из написания на огромных подрамниках социалистических обязательств цехов и участков, транспарантов с коммунистическими призывами и рисовании всевозможных портретов Ленина, за которые, правда, хорошо платили. Надо сказать, что ребята не довольствовались тупым переписыванием текстов и штампованием трафаретов, а вносили эстетические элементы в скучные таблицы, спихивая писанину Олегу. А тот с удовольствием и упоением аршинными буквами начертывал тексты примерно следующего содержания:
«Выполняя решения ХХIII съезда КПСС, положения отчетного доклада генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева и тезисы апрельского пленума ЦК КПСС и идя навстречу 60-летию Великого Октября коллектив цеха №5 взял на себя повышенные социалистические обязательства:
– Всесторонне изучать Решения ЦК КПСС…
– Претворять в жизнь Решения…» и так далее.
Такие обязательства выполнялись в цвете на загрунтованных фанерных планшетах размером примерно метр на метр, которые надлежало вывешивать в каждом цеху, участке или отделе. Это дело строго проверялось партийными органами и, не дай Бог, у кого-то не окажется подобного произведения. Поэтому простые начальники цехов и участков очень ценили художников, и, в частности, испытывали глубокое уважение к Олегу Максимовичу, которое выражалось в снабжении бригады спиртом и денежными премиями.
Для более полного восприятия массами ценных указаний партии весь этот бред обязательно украшал, как художественная составляющая агитации, портрет В.И.Ленина на фоне знамен, Спасских башен и Дворцов съездов.
Но работа не была такой однообразной, как может показаться – то и дело возникали какие-нибудь неожиданные интересные заказы. Так, например, причиной перехода Щеголева на завод явилось празднование 30-ти летия Победы, к которому на заводе по тогдашней партийной моде решили поставить памятник. Конечно, память о погибших должна храниться вечно, но то, как массово и по приказу «сверху» осуществлялось это мероприятие, вызывало некоторые сомнения в искренности идеологических начальников. И потом, подобные памятники все-таки должны создавать заслуженные и талантливые профессионалы, а не случайные люди. На счастье «Северного стана», такие, несомненно талантливые люди, на заводе нашлись. Сергей и Александр составили костяк творческой группы и они, ответственно подойдя к столь важному делу, создали проект целого мемориального комплекса подстать городскому. Щеголев, нахватавшись на прошлой работе архитектурного апломба, смог по всем академическим канонам создать и оформить проект. Даже с макетом в масштабе 1:10. И они, естественно, победили в заводском конкурсе. Теперь нужно было, как тогда говорилось, воплощать планы в жизнь!
Исключительно своими силами.
И ребята, забыв про все остальное, принялись за ваяние. Работа была хоть и грязной, но действительно интересной – попробуй-ка воздвигнуть на пустом месте мемориал высотой 7 метров и размахом в 10 с многочисленными барельефными фигурами, постаментом и самоей гранитной стелой. Конечно же, под руководством парткома, завкома, дирекции и лично дорогого парторга товарища Таратухина. Кроме родной партии, художникам помогал весь завод, тем не менее, основную работу и главную ответственность вытягивали они.
Олег тоже вносил посильный вклад, главным образом заменяя ребят на текстовом поприще и подпитывая их бесплатными талонами на обед и цеховым спиртом. И вообще, он был мастак на добычу. Следуя традициям своей нации и используя родовые таланты, он мог достать все: от любых сумм денег до дефицитных продовольственных наборов в неограниченном количестве. Причем в любую минуту. Сережа с Сашей частенько пользовались этой его способностью, провоцируя бесхитростного Олега «на слабо».
Монастырский жил в центре, на Пестеля, и друзья, провожая его домой, иногда перехватывали у бригадира в долг пятерку-десятку, которые он доставал из кармана с ловкостью факира. И всегда безотказно. За что и ценили. А иногда ребята заходили к нему в гости продолжить «творческий процесс». Олег был женат на заводской же работнице и имел очень симпатичную дочку Машу. У нее были огромные карие глаза и очень светлые длинные волосы. Жена, если друзья не частили, относилась к ним лояльно, никогда не выставляла веселую компанию за порог, а даже приглашала к обеду.
Художественная мастерская на заводе, находившаяся на отшибе, была неким клубом, где собирались истинно лучшие люди производства. Помимо Саши Забродина, который сбегал из цеха для выполнения творческого задания, у художников вечно пропадал инженер ОТК Леня Воробьев, интересный и общительный молодой человек. Он был уже в «возрасте», лысоват, немного тучен, и до сих пор не женат, что составляло его главную проблему. Леня имел хорошую зарплату, отдельную квартиру и маму, работавшую врачом в КГБ (хотя бы с этой стороны друзья были прикрыты!). И, несмотря на столь очевидные преимущества, с женитьбой Лене не везло. Как показали дальнейшие события, может быть это было и хорошо, хотя как знать…
Используя свою отдельную квартиру, он приглашал художников к себе на дни собственного рождения, а также на дни рождения Октябрьской революции, Ленина, Клары Цеткин и Розы Люксембург и все прочие общегосударственные праздники. Веселье гремело!
Леня Воробьев был добрым и хорошим парнем, но кончил плохо и трагически. Заболев однажды безобидной ангиной, Леня получил фуникулярное воспаление и скоропостижно скончался. Саша, когда ему спустя несколько дней сообщили об этом, не мог поверить, что цветущий и жизнерадостный парень вот так случайно умер. И никто не смог или не успел помочь. Даже его мама врач из Комитета.
Совершенно неестественная и жуткая история.
Но все шло своим чередом, время летело. И уже в других временах веселая команда распалась. Дружные художники разлетелись кто куда, и только аккуратист и семьянин Саша Забродин остался верен «Северному стану» до самой… нет-нет, до момента своей полной профнепригодности вследствие чрезмерной и непобежденной тяги к спиртосодержащим жидкостям. ХХI век Забродин – красивый высокий парень, в прошлом отличный рок-музыкант и скрупулезный художник, мастер-электронщик высшего разряда встретил в облике и фартуке дворника. И общаться с ним можно было только с утра. Никто и не общался. Просто не успевал.
Рассчитавшись с заводом и семейными обязанностями, Сергей Огольцов исчез в каких-то Киришах, где, как он тогда считал, нашел золотую жилу в местных художественных мастерских. Серега съехал из Ленинграда и окончательно пропал с горизонта, по крайней мере, со Щеголевского. Потом, много позже, они, старые друзья, прошедшие вместе в буквальном смысле огонь, воду и медные трубы, вновь встретятся, но золоторудных следов на Огольцове уже не останется.
Олег, расставшись с родным предприятием, казалось бы, нашел вольную и денежную работу гравера в Доме свадебных торжеств, но блеск в глазах пропал. Он больше не был бригадиром. Так случилось, что вскоре умерла его жена. И они остались с Машей одни. Монастырский немного съежился, но не сдался и продолжал с еще большим остервенением гравировать все, что видел. Теперь он гравировал не только дарственные жетоны, медали и автомобили, но и надписи на надгробных памятниках.
И вот, когда он дошел до оформления надгробий, смерть подстерегла и его.
Олег Максимович Монастырский болел очень тяжело и долго. Со свойственным ему оптимизмом и упорством он изо всех сил боролся за жизнь. Но все же умер. Ему было всего 45 лет. И его похоронили рядом с женой, так как он по своей обычной предусмотрительности заготовил и себе место заранее. Только Олег не думал, что настолько он прозорлив и заготовка так скоро понадобится. У него и табличка была выгравирована. В шутку, без даты…
Маша Монастырская осталась совсем одна. Но она уже выросла и стала взрослой девушкой. Как помнил Саша, Олежка так гордился своей златовласой дочкой.
Ш. Рзаев, бригадир овцеводческой бригады. Азербайджанская ССР. «Комсомольская правда», 6 марта 1976 года.ГЛАВА 4
Имя Леонида Ильича Брежнева – верного сына продолжателя ленинского дела, пламенного борца за мир и коммунизм – будет всегда жить в сердцах советских людей и всего прогрессивного человечества.
С чувством глубокой скорби советский народ проводил вчера в последний путь верного ленинца Юрия Владимировича Андропова
Вчера в связи с кончиной Генерального секретаря КПСС Константина Устиновича Черненко участники Пленума в Москве почтили его память минутой скорбного молчания.
Для Саши Щеголева все рухнуло. В прямом и переносном смысле. А вся эпопея, продолжавшаяся более двух десятков лет, началась с какого-то страшного неотвратимого мига, так жестоко растянувшегося на всю его оставшуюся жизнь.
Но именно так всегда и бывает.
На трассе Ленинград – Таллин машина, в которой ехал Александр, на рассыпанном гравии пошла юзом на скорости под сотню. Приятель, управлявший машиной, не справился с этим самым управлением и, как потом напишут в протоколе, опрокинулся в кювет или, как было на самом деле – со всего разгона вонзился в придорожную насыпь. «Жигули», со страшным скрежетом воткнувшись в край рва, немыслимой силой перевернулись, и машина на мгновение замерла в акробатической стойке. От резкого удара Саша, пробив лобовое стекло, вывалился на капот – спасение было так близко. Водитель, ударившись о руль, остался в салоне. Но тут физические силы продолжили свое действие и машина, вставшая «на попа», опрокинулась на крышу и с финальным грохотом накрыла Александра. Все погрузилось во мрак…
Саша очнулся в тусклом помещении на жесткой клеенчатой лавке. Вокруг на таких же лавках сидели и лежали какие-то жуткие люди – грязные, окровавленные, кое-как перевязанные и слегка постанывающие.
Ага, я в Чистилище, подумал Саша, но сознание постепенно вернулось, и он смутно вспомнил катастрофу, которая представилась чем-то далеким и нереальным.
– Где мы? Сейчас что – день, ночь? – спросил он у соседа.
– А-а, очнулся! Ты в больнице, а думал, наверное, что вытрезвителе? Хи-хи-хи! – сосед был явно навеселе, и он, с удовольствием отвлекшись от собственных несчастий, с интересом посмотрел на Щеголева.
– Ты, брат, чудом жив остался, они и не надеялись, – товарищ по несчастью кивнул в сторону медперсонала, занятого, как обычно, писаниной и не обращающего никакого внимания на больных.
– Я вижу, они и сейчас не надеются, – Щеголев неловко из-за плеча покосился на врачей.
– А находимся мы в больнице Скорой помощи на Пионерской. Твои-то знают?
Резкая боль во всем теле, заставила Сашу прикусить язык, и в ответ он только помотал головой.
– Эй, доктор… – Щеголев превозмог себя и привстал. Сестричка тут же соскочила со стула и подбежала к лавке.
– Лежите, лежите. Вам нельзя вставать! Сейчас поедем на рентген…
Но в дальнейших событиях Саша уже участия не принимал, – тупая боль накатила и сознание, вспыхнув звездами, медленно померкло.
На следующий день главврач вынес приговор, который, если перевести на нормальный язык, звучал так: перелом позвоночника с множественными переломами ребер и рук, а также сильный ушиб живота с непредсказуемыми последствиями, и, как итог, в лучшем случае, паралич, сопровождаемый возможными операциями на брюшной полости – будем смотреть, будем смотреть…
В общем, не жилец, заключил Александр. Но страха, ужаса от катастрофического диагноза, не было. Была боль, было скованное гипсом тело, а вот смертельного страха почему-то не было. Этого не может быть! Этого не может быть со мной! – думал Саша, сейчас они разберутся и все будет нормально!
Но было не нормально. Его приговорили к операции на позвоночнике, предупредив, что может и не получиться. Интересно, что значит «может не получиться»?
Надо сказать, что Сашин приятель, управлявший машиной, отделался переломом ребра и парой синяков и, мало того, как потом узнал Щеголев, даже восстановил машину. Вот что значит судьба. А Александр, лежа на больничной койке часами, днями, неделями, месяцами лишенный движения, только и мог, что вспоминать былое и предаваться мечтам. Но в голову лезла всякая чепуха и совсем несвоевременные мысли.
Чтоб разнообразить свое однообразное существование, Саша заставлял себя поразмышлять на отвлеченные темы, например… о новом свитере и модных ботинках на липучке, в которых можно будет отправиться, скажем, в ресторан или к кому-нибудь в гости, но о развлечениях думалось с трудом. Тогда можно помечтать о чем-нибудь прекрасном и возвышенном, например, о вожделенном, но недостижимом собственном автомобиле (Бог с ней, с катастрофой!), хотя нет, это неприятно, сразу вспоминаешь, проданный без его ведома, старенький «Москвич». Тогда представим себе будущий поход с Пашкой и Гошкой в «чудню деревню». Тоже не годится, какой поход, если неизвестно смогу ли я вообще ходить. Ну, можно вообразить себя в Симеизе на пляже у моря. Лежу я, значит, на пляже, нежно шелестит море и… входит медсестра с процедурами! у
Фу ты, черт!
Другие мысли, например, о предстоящей тяжелой операции на мозге, хоть и спинном, а все-таки собственном любимом мозге, ни в голову, ни в спину не лезли. В висках стучала только одна единственная мысль – выжить, выжить, выжить!
Нет необходимости подробно описывать однообразные больничные будни, растянувшиеся на многие годы – ничего интересного и нового это не откроет. Разве что, размышления Щеголева могли заинтересовать врача-психиатора с точки зрения фантасмагорической деятельности сознания смертельно больного молодого человека, усугубленной одиночеством и наркозным морфином.
От операции на позвоночнике Саша отказался. Под подписку. И врачи с видимым облегчением умыли руки. Тогда его отправили в реабилитационный центр в Сестрорецк. При транспортировке шевелиться было категорически запрещено, тем более вставать, и его кантовали и перевозили как куль, так же неосторожно и грубо. Он даже хотел сказать медперсоналу расхожую автобусную фразу – «полегче, не дрова везете!», но промолчал и отвернулся. Что им, чужая боль…
Пребывая в Сестрорецке, Саша только через несколько месяцев ценой неимоверных усилий смог, приподнявшись, увидеть в окне сосны и реку Сестру, протекавшую у больницы. Он не вставал совершенно. От этого не чувствовались ноги, чего Саша очень опасался, так как ему при отказе от хирургического вмешательства пообещали полный паралич. Тогда, от той операции, Щеголева еще более горячо, чем однопалатники, отговорили… медсестры, поясняя с подробностями, что именно у них, врачей, иногда не получается.
Ежедневно приходил доктор и колол тело иголкой – проверял границы чувствительности. Эту жуткую процедуру Саша скоро увидит в других и, как он будет считать, более трагических обстоятельствах…
Постепенно, невзирая на запреты, Щеголев стал приподниматься. Сам, потихоньку. И когда попытался встать на ноги первый раз, испытал необыкновенные ощущения. Решившись, Александр, по еще не забытой привычке, бодро вскочил и тут же схватился за спинку кровати. Все поплыло перед глазами, и собственные ноги заплелись и обмякли. Он как подкошенный свалился на пол.
– Нет уж! – решил Саша, – Встану! Чего бы это мне не стоило!
Вся палата, заполненная примерно такими же доходягами, с завистью наблюдала за эквилибристикой Щеголева, – кто не мог себе позволить такого, а кто и боялся.
Прошла весна, кончилось лето, наступила слякотная осень, и Сашу, благодаря его собственным усилиям, наконец, выписали из больницы. Можно было ехать в Ленинград. Но что его ждет впереди?
Кто может о нем позаботиться кроме мамы?
А тем временем срок выписки приближался и время, несмотря на несчастья, неколебимо двигалось вперед. После полугодичной лежки без движения и обещанных осложнений с «брюшной полостью» обострились какие-то врожденные Сашины болезни, и он почти сразу после выписки из Сестрорецкой больницы, чуть живой, попал по скорой в Мечниковскую, причем сразу на операционный стол. Боль была настолько дикой, что Саша посчитал за счастье любое действие, лишавшее его и боли и сознания вообще. И его погрузили в блаженный эфир…
Очнулся он от вопроса:
– Как ваше имя, больной? Какое сегодня число?
Саша в недоумении уставился на человека во всем белом, но тут же все вспомнил и, тем не менее, остался удивленным.
– Вы что же, оперировали и фамилию не спрашивали? А насчет числа, простите, вам, что спросить больше не у кого?
– Нормально, Щеголев! Это мы проверяем так, «вернулся» человек или нет. У тебя я вижу порядок!
Это был врач, который принял вчера Сашу «в работу» – Евгений Илларионович Романов. Он рассказал, что операция была очень долгой и сложной и что пришлось лишить его некоторых второстепенных органов. Очень интересно…
Операция, как, оказалось, прошла под руководством «светила» полостной хирургии Эдуарда Тугузова, который консультировал Романова по телефону (!). Саша, немного оклемавшись, выразил ему огромную благодарность. Время показало, что с благодарностью он очень поторопился. По мнению других специалистов, подчеркиваем – медицинских специалистов, операция такого рода и удаление каких-либо органов были неоправданны.
Не хотелось бы говорить, но такая методика проведения операции была вызвана защитой докторской диссертации хирургом Тугузовым. Методика была новейшей, авторской и, по-видимому, непроверенной. Может быть, и скорей всего, такая операция спасла Саше жизнь, грех жаловаться, но обрекла его на многие годы несчастий и инвалидности. А в совокупности с только что пережитой катастрофой и сломанным позвоночником – это было еще то удовольствие!
В общем, выписался он из Мечниковской больницы не только полным инвалидом, но и просто плохо передвигающимся человеком.
Так ли все было на самом деле, нет ли, справедливы ли Щеголевские замечания или они обусловлены его состоянием, трудно сказать, но это было началом его медицинской эпопеи, которая продолжилась до скончания века. И в общей сложности Саше предстояло перенести шестнадцать операций различной степени успеха и тяжести и на нем, как говорится, живого места не осталось. А клиническая смерть, которая подстерегла горемыку на одном из операционных столов, так и вообще, как казалось, лишила его всяких шансов на нормальную жизнь. Однажды один из столпов прогрессивной советской медицины признался: мы разрушили тебе иммунную систему, но сохранили жизнь…
Что лучше было для него сегодня, – он не знал, и уповал лишь на Господа…
Дальнейшие события показали, что, как всегда, оказался прав Всевышний, и отдаваться нужно был в его руки, а не в сверхобразованые и самоуверенные руки земных целителей.