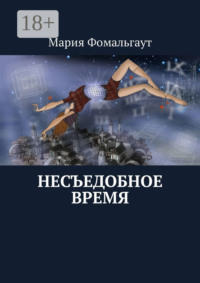Полная версия
Подстреленный телефон
Молчу, даже не отвечаю, что одна.
– А здесь…
Хватаюсь за остатки здравого смысла:
– Мутация?
– Ну, ничего себе мутация, вы хоть представляете, это какую энергию нужно, это во всей вселенной столько нет!
Меня передергивает…
– …тогда…
– …это не из нашего мира… Вы посмотрите стекло бутыли… там тоже самое…
Холодок по спине…
– Черт возьми… что мы пили вчера?
Он не отвечает. Пытаюсь представить себе мир, в котором примитивные частицы пространства-времени разрастаются до сложных атомов со множеством частиц…
– …если наши частицы пространство плюс время принять за атом водорода… – продолжает он, будто читает мои мысли, – то вот это – частица пространства плюс две частицы времени…
– …гелий…
– …вроде того… а это литий…
– Интересно получается….
– Еще как… Надо будет сообщить…
– …если успеем.
– Что вы имеете в виду?
Он смотрит на меня, посмеивается, неужели не догадываетесь, а ведь мы это пили, пили вчера, и что с нами будет дальше…
Я почему-то жду, что мир вокруг начнет неуловимо меняться, опрокинется сам в себя, и мы окажемся… не знаем, где. Ничего не происходит, от этого гаже всего, что ничего не происходит, но чувствую – произойдет…

Можно, я буду им?
…нет, высоты не боюсь.
И трудностей не боюсь, вообще никаких.
Да знаю я, что все так говорят, а потом, как туда попадут, так начнется, а-а-а-а, не хочу-у-у-у, не на-а-адо-о-о-о, за что-о-о-о-о мне все э-э-э-то-о-о…
Я так не буду.
Я правда не боюсь.
И… и еще, а можно я сам выберу? Или мое мнение тут ничего не значит, сиди и молчи? Как ска… а-а, можно?
Вот я слышал про Октахора Симплекса. Ну, не слышал, не мог слышать, у меня еще нет ушей, у меня еще ничего нет. Ну, читал, то есть, не мог читать, у меня еще нет глаз, ничего нет – но знаю, хоть мне и нечем знать, что есть такой, Октахор Симплекс, неисправимый чудак, романтик, изобретатель… да что он только не изобрел, тут целой жизни не хватит… и вообще, я свою жизнь на другое хочу потратить, вот на него вот…
Я тоже хочу прицепить к луне корзину на тросах и отправиться в полет по белу свету, а потом попасть в плотный поток звезд, который порвет стропы, и я упаду где-нибудь на обратной стороне земли, где притяжение наоборот, и поэтому мне придется стоять на голове, чтобы не упасть. А потом я придумаю, как можно консервировать время, и у меня его будет много-много, так что хватит надолго.
Можно я буду Октахором Симплексом? Ну, пожалуйста. Хотя бы для того, чтобы изобрести зеркало, ну, не изобрести – одомашнить, а потом я открою, как можно с помощью зеркала отражать комнаты, и в маленьком доме, где была всего-то одна крохотная комнатушка, окажется мириады залов, кабинетов, спален…
У меня получится.
Обязательно.
Получилось же у Октахора Симплекса, а я буду им, значит, и у меня получится.
Ну и, в конце концов, что греха таить, я хочу быть богатым, – и не просто богатым, богатейшим, чтобы со всего света ко мне стекались несметные сокровища, летели по небу крылатые корабли, груженные золотом, шелками, пряностями из далеких краев, винами, коврами, причудливыми статуэтками, заморскими яствами. Я тоже хочу жить в драгоценном замке на вершине скалы посреди живописного острова в океане, я тоже хочу, чтобы от моего имени трепетали на всех континентах…
…можно?
У меня получится.
У него же получилось.
А я буду он.
Можно?
Я даже вставать буду в пять утра, как он. И обливаться холодной водой. Ради всего этого можно и выдержать. Буду бесстрашно ходить в темные леса, буду одомашнивать дикие камины, ставить силки на скрипки, приручать их, объезжать дикие необузданные моря, чтобы они покорно ходили в упряжи, перевозили корабли…
Я справлюсь.
Он же справился.
Можно?
Нет, я понимаю, что сильно много прошу, что много кто хочет быть Октахором, да еще и Симплексом, тут, наверное, таких, как я, миллионы, если не миллиарды. Нет, я понимаю, что реальнее будет просить судьбу какого-нибудь композитора, или писателя, или вот, говорят, в далеком будущем там какие-то будут, которые оживляют картины, заставляют их двигаться, вот мне бы еще такое что-нибудь. Ну, не самым великим, конечно, так, поскромнее, но все равно, заниматься любимым делом, скромненько жить…
…и все-таки я хочу быть Симплексом.
Ну, пусть не сейчас.
Пусть не в этой жизни.
Пусть даже не в следующей, я готов подождать, десять жизней, двадцать, миллион, пока не настанет моя оче…
…что?
Да быть того не может, чтобы не было желающих.
Спасибо.
Значит, я буду?
Я буду, да?
…слушайте, это как?
Это как это так, а?
Это почему?
Слушайте, мы так не догова…
…нет, я все понимаю, что вы меня уже не слышите, что разговор окончен раз и навсегда, уже все ясно, все точки расставлены, судьба расчерчена. И все-таки говорю кому-то, вы что, мы так не договаривались, почему я должен убивать, почему я должен сжигать дотла целые народы, топить целые острова, почему я собираю выживших среди руин когда-то великих городов, почему я говорю им, что здесь не останется в живых ни единой души, если они не повезут на мой остров караваны кораблей, груженые драгоценными камнями и заморскими пряностями? Почему я выискиваю в дальних краях умных людей, рублю им головы, в гулких трюмах везу эти головы на свой остров, сажаю под замок в темном подвале, чтобы они денно и нощно думали, как одомашнить камин, как оседлать море, как прицепить корзину к луне, как снять с поверхности воды зеркальную гладь и сделать из неё зеркало, как отразить в зеркале яблоко, и будет два яблока, потом отразить эти два яблока, чтобы стало четыре… И все будут смотреть на меня и восхищенно кивать – о да, это он придумал такое!
Я же просил…
Я же просил сделать меня Симплексом, Октахором Симплексом, бесстрашным исследователем, первооткрывателем, гениальным изобретателем, неутомимым странником – а не этим чудовищем, дьяволом во плоти…
– …господин… вам сообщение…
Смотрю на крылатый телефон, который бьется в окно, надо бы сказать изобретателю, чтобы переделал телефон, чтобы тот не бился в окна, а нет, изобретатель уже истлел в подвале, а нового еще поискать надо…
…открываю ставни.
Впускаю продрогший телефон, даже позволяю ему укутаться в плед и устроиться у камина. Телефон просит глоток глинтвейна, фыркаю, обойдешься, будет с тебя и чашки чая.
– Вам сообщение, – повторяет телефон, протягивает мне листок.
Разворачиваю.
Читаю.
Не понимаю.
НИКАКОЙ ОШИБКИ НЕТ
– Это что… это точно мне?
– Да, господин.
– Но…
– Да, господин.
Не спорю с телефоном, в конце концов, это тупая железка, набитая шестеренками, не более, – так что это какая-то ошибка, сообщение, адресованное не мне…

Победившая буква
…известно, что каждая буква хочет одержать верх над остальными своими товарками по алфавиту – и кое-где им это удается. Есть, например, народы, и целые языковые группы, где буква Е добилась, чтобы её вставляли дважды – там говорят снеег, меетеель, веечеер, меечта. Встречаются языки, в которых в начале каждого слова ставится буква А – они говорят алес, адом, аснег, аночь, арека. У многих народов отдельные буквы одержали еще более мощную победу – так, например, достоверно описан язык, где все буква У смогла уничтожить все остальные гласные, и человеку, не посвященному в тонкости языка, трудно бывает ориентироваться в словах вроде дум, дуругу, руку, нубу, вуду. Нужно немало мастерства, чтобы понять разницу интонаций, с которыми этот народ произносит дум – так они называют мысль – и дум, то есть, дом, вуду, – религию каких-то островов – и вода, руку, в смысле – река, и руку в смысле – дай мне руку. Еще сложнее различать эти тонкости на письме, где изредка «замещенные» У помечены чуть заметными черточками, да и то не всегда.
Но есть и более удивительные случаи. Чем дальше от цивилизованных городов, где научились держать буквы в узде, тем более странные формы обретает язык. Исследователям доводилось добираться до таких дальних краев, где в результате кровопролитных войн между буквами оставались семь, а то и пять букв, из которых складывались причудливые слова. Самое страшное и прискорбное, что в битвах между буквами погибают люди – сторонники той или иной буквы.
Ходят сомнительные данные, что где-то совсем далеко есть города, в которых та или иная буква одержала полную победу. Очевидцы рассказывают о племенах, где люди строят слова из буквы К, или И, или даже из твердого знака. Такой язык чрезвычайно богат интонациями, все тончайшие нюансы которых могут уловить только люди, говорившие на этом языке всю свою жизнь. На письме же разобрать оттенки смыслов бывает подчас еще сложнее.
Впрочем, есть и ярые противники этой гипотезы, которые утверждают, что изначально на земле существовали разрозненные племена, каждому из которых была дана всего одна буква, – но по мере того, как народы перемешивались, возникали двубуквенные, трехбуквенные языки, пока не дошли до нынешнего алфавита в триста тридцать три знака. Мало кто верит подобной теории, но опровергнуть её ещё никому не удавалось: власти даже обещали солидную премию тому, кто твердо докажет, правдива она или нет…

Палаты-Палац-Пэлес
…У нас война.
За замок.
Да, мы сражаемся за замок.
Нет, это не мой замок.
И не его…
– …вы их видите?
Хозяин в отчаянии хватается за голову.
– Да нет же… нет…
Смотрю на него, понимаю, еще пара дней – и он сойдет с ума. Если уже не сошел.
– Это невыносимо… понимаете… невыносимо!
– Но если вы их не видите, то…
Он смотрит на меня, глаза безумные, с красными прожилками:
– Голоса… понимаете… голоса…
Если вам хозяин нужен, так вот он, выходит на широкий балкон из своего кабинета, попивает кофе.
Нет, мы его не тронем.
Не беспокойтесь даже.
Нет-нет, хозяину ничего не угрожает. Не волнуйтесь, все с ним будет хорошо.
Нет, мы не претендуем на замок.
Мы за него сражаемся.
– …а… где именно?
– Нигде… – он смотрит в пустоту, будто старается увидеть невидимое, – и в то же время везде… – срывается на крик, – нет, я не выдержу больше, не выдержу!
– Успокойтесь… пожа…
– …вам хорошо говорить, успокойтесь, а я их слышу! Каждую ночь!
Догадываюсь:
– Они мешают вам спать?
Он смотрит на меня, как на психа:
– При чем здесь это… вы что… не понимаете… голоса… голоса в пустом доме…
Палаты, – кричу я.
Палаты, палаты, палаты.
Пэлэс, кричит он.
Пэлес, пэлес, пэлес.
Нет, мы не взмахиваем мечами.
Не звенят клинки.
Не хлопают выстрелы.
Все, что мы можем – кричать, надрывая голоса —
– Палаты!
– Пэлес!
– Палаты!
– Пэлес!
Припоминаю какие-то премудрости про людей, которые долго оставались одни наедине с собой, отчего им начинало казаться, что они слышат голоса, видят какие-то причудливые образы…
Хочу сказать об этом.
Не говорю.
Осторожно спрашиваю:
– А что они…
– …про палаты что-то.
– Что… про палаты?
– Да ничего. Палаты и палаты. И еще как-то… палс… пэлс…
Пожимаю плечами, такого слова я не знаю. Еще пытаюсь найти какое-то логическое объяснение, – стук дождя по черепичной крыше, шелест ветра в зарослях сосен, скрип старой лестницы – понимаю, что все не то, не то…
Я хочу крикнуть – Палаты.
Замираю, крик стынет в моем горле.
Я смотрю на него.
На непримиримого врага, которого я не могу увидеть – но все-таки смотрю.
Что я вижу, что мне померещилось на доли секунды – когда мне показалось, что я узнал в нем самого себя…
…прислушиваюсь.
Понимаю, что он не врал мне, что он не безумен, не околдован собственными фантазиями – я и правда слышу голоса там, в темноте замка, чуть подсвеченного тусклыми лампами. Дрожание света, движения теней по стенам, – так и кажется, что кто-то затаился здесь, кто-то прячется…
…и голоса.
Я слышу их – приглушенные, будто с той стороны времени и пространства, гулкие крики про палаты и пэлес…
…стряхиваю наваждение, что за бред, что мне видится здесь, в темноте ночи, снова кричу в битве за замок:
– Палаты!
Не слышу отклика, неужели мой враг сдался, почему он так изумленно смотрит на меня…
– …понимаете… покинуть поместье… немыслимо… – признается он мне.
Киваю. Понимаю. Немыслимо. После того, что было вложено в этот замок, чтобы вернуть его к жизни спустя тысячу лет забвения на дне моря…
…наконец, он стряхивает с себя оцепенение, снова кричит:
– Пэлес! Пэлес! Пэлес!
– Палаты! – я должен перекричать его, я должен заглушить его, – Палаты! Палаты!
– …и каждую тысячу лет вы возвращаетесь сюда?
– Да… когда уходит море.
– И как долго…
– …тысячу лет, – он смотрит на меня затравленно, – потом снова теплеет… снова тает ледник в горах… возвращается море…
– …и вы покидаете замок, покидаете долину, вы, все… возвращаетесь в горы?
– Да, в горы… – он смотрит куда-то за горизонт, – по обе стороны долины…
Хлопаю себя по лбу:
– Вы сказали… по обе стороны?
– Ну да, а что?
…спохватываюсь…
…начинаю понимать…
– То есть… сейчас здесь живут два народа, которые не видели друг друга две тысячи лет?
Он хватается за голову:
– Да какое мне дело до них, вы мне скажите, что в замке-то делается?
– Да вы хоть понимаете, что в те времена говорили на одном языке, а за тысячу лет на разных берегах языки поменялись?
– Ну, само собой…
– Вот именно! А теперь два языка встретились, и как вы думаете, узнали они друг друга?
– Через тысячу лет… гхм… смеетесь? Конечно же, нет…
…отскакиваем в ужасе.
Понимаю, поторопились, понимаю, слишком быстро приблизились друг к другу, обожглись – надо время, говорю я себе, нам нужно время, чтобы понять друг друга, чтобы привыкнуть, чтобы вспомнить то, бесконечно забытое, то…
– …теплеет, – говорю я.
Сегодня я ночую в замке – с хозяином замка мне довелось познакомиться при удивительных обстоятельствах – много веков назад он вызвал меня, чтобы я прогнал из замка неведомую силу, которая оказалась…
…впрочем, это очень долгая история.
Смотрю на палящее солнце, сегодня оно жарит особенно нещадно.
– Теплеет, – говорю я.
Хозяин смотрит на равнину, залитую водной гладью, откуда робко торчат деревца – до замка вода еще не добралась, мы с хозяином гадаем, доберется она в этом году, или нет.
Сегодня каменные чертоги наполнились людьми, сюда собрался народ со всей округи, из затопленных городков – мы с хозяином обустроились в комнатушке наверху, но даже сюда долетает гомон бесчисленных гостей.
Теплеет.
Подступает вода.
– Люди пришли в палац…
Это хозяин сказал.
Смотрю на него, недоумеваю, почему не в палаты, не в пэлес – палац…
– Палац! – кричу я.
– Палац! – кричит он.
Оба.
Разом.
Хором.
Вернее, уже нет его, нет меня, есть… не я, и не мы, не знаю, как сказать, говорю – палац.
…только сейчас понимаю, как я вымотался за эти несколько дней, когда ехал в горы, приводил в порядок дом, побитый ледником, чтобы теперь можно было, наконец, упаковать вещи и поехать по дороге, ведущей в горы.
Бросаю прощальный взгляд на дом, кланяюсь, как велят обычаи.
Сажусь в машину.
Смотрю на замок, перед которым хозяин опускается на колени, прощается на долгие тысячу лет.
Замираю.
Прислушиваюсь.
…показалось…
…нет, нет – не показалось, все больше удаляются друг от друга два голоса, кричат, пытаются докричаться —
– Палац!
– Палац!
Расходятся, разлетаются за людьми, идущими к горным хребтам по разные стороны.
Кричат:
– Палац!
– Палац!
Хозяин смотрит на замок, спохватывается…
…бежит к нему вдоль подступающей воды…
Выводит на стене замка – крупно, размашисто —
ПАЛАЦ
…я вижу его…
Я понимаю – я вижу своего врага, я понимаю – нам предстоит бой не на жизнь, а на смерть, потому что замок, потому что —
– Палц!
– Полиес!
– Палц!
– Полиес!
…война…
За замок…

Они говорили, что мы люди
Я уже понял, что не узнаю правды.
Что они мне не скажут.
Уже понял – когда пожелал им доброго вечера, а они мне не ответили.
Меня еще удивило, что вот так, оба сразу, и дадди, и мамми, полулежали в креслах, перед шахматным столиком, я еще оглядел, оценил расклад, понял, что у белых нет шансов. Кажется, белыми играла мамми, хотя я не знаю, доска была повернута как-то неровно, наискосок от самой себя, если такое вообще возможно.
И я понял, что так и не узнаю правды.
И Ребекка тоже.
Должен сказать, что родители у нас были не просто строгими – их строгость была маниакальной, граничащей с безумием. В то время как всем остальным можно было гулять всю ночь, нас в девять вечера безоговорочно отправляли спать – приходилось лежать и пялиться в потолок, когда другие ходили в кино, или друг к другу в гости, или просто без дела болтались по улицам всю ночь. На завтрак обязательно были хлопья с молоком, и тосты с джемом – и родителям было глубоко наплевать, что все остальные прекрасно обходились без завтрака. Ужин пропускать тоже было нельзя, ровно в восемь мы должны были быть дома, и с чисто вымытыми руками сидеть за столом.
Консерватизм в нашей семье доходил до абсурда. Нам нельзя было пользоваться электронными книгами – от слова совсем, приходилось довольствоваться бумажными вариантами, учиться читать по буквам – в то время, как все остальные прекрасно закачивали информацию себе прямо в память. По вечерам полагалось читать вслух, и я надеялся, что об этом не узнают мои друзья, иначе бы меня подняли на смех – ну право же, кто сейчас передает инфу вот так, звуками через буквы.
Я уже не говорю про обязанность мыться каждый день – да-да, мыться под водой – и чистить зубы.
Они говорили, что мы люди.
Они всегда говорили, что мы люди – напоминали нам это денно и нощно.
Мы люди, повторял я, спрашивая себя, что такое люди.
Мы люди, говорил я, когда друзья звали залезть на крышу высокого дома или поплыть далеко-далеко в море.
Нас сторонились, потому что мы были люди, мы были готовы сторониться самих себя, потому что мы были люди. Я с завистью смотрел на друзей, которые меняли запчасти, как перчатки, иногда я сам пробовал купить запчасти, но у меня всякий раз спрашивали модель, а я не знал свою модель, и родители никогда не говорили мне модель, как я ни упрашивал, только отрезали – мы люди.
Но самое страшное случилось, когда я попросил у Джума закачать мне что-нибудь в память, Джум попробовал это сделать и признался, что не может.
Это было сегодня утром, когда я начал что-то подозревать, я еще сам толком не понял, что именно – но что-то было очень и очень не так.
Проще всего сделать что-нибудь запретное, сказала Ребекка. Прыгнуть с крыши, сказала Ребекка. Или уплыть далеко в море, сказала Ребекка. Я уже почти готов был согласиться, но спохватился, что в случае, если родители нам не врали, запчастей для нас бы не нашлось, и копий нашей памяти тоже.
А потом мы пришли домой, чтобы узнать правду.
И поняли, что не узнаем.
Когда я пожелал им доброго вечера, а они не ответили.
Меня еще удивило, что вот так, оба сразу, и дадди, и мамми, полулежали в креслах, перед шахматным столиком, я еще оглядел, оценил расклад, понял, что у белых нет шансов. Кажется, белыми играла мамми, хотя я не знаю, доска была повернута как-то неровно, наискосок от самой себя, если такое вообще возможно.
И я понял, что так и не узнаю правды.
И Ребекка тоже.
Можно еще что-нибудь попробовать, говорит Ребекка.
Можно, говорю я, только что.
Ребекка несет две булавки, дает мне одну, я уже понимаю, что нужно делать, мы заносим булавки над запястьями, мы боимся, мы не можем решиться…

Олецичи
А Берта у себя сделает так, что школы не будет.
Совсем.
Ну, может, будет рисование или пение, раз в неделю, и не по утрам, конечно, не по утрам, а ближе часам к двум. По утрам вообще ничего не будет, по утрам спа-а-ать, и раньше десяти чтобы ничего-ничего не было.
Лиз, правда, узнала, пальцем у виска покрутила, ты чё, с дуба рухнула, или с луны, какое пение, мне в музыкалке этим пением всю душу вымотали, со-ло-вей-мой-со-ло-вей… тьфу! А Агния тоже пальцем у виска покрутила, и про рисование сказала, нафиг-нафиг, не надо, я родокам заикнулась, что рисовать хочу, они меня в художку отдали, задолбали к черту, тени все эти, полутени, язык теней… А что, у теней язык есть, это Берта спрашивает, а Агния руками машет, отмахивается, изыди, изыди со своим рисованием…
…нет, пение и рисование у Берты все-таки будет. Но не такое, чтобы со-ло-вей-мой-со-ло-вей, а такое, как в школе, чтобы интересно было. И рисование будет, они там карандашную пыль делали, спонжики в неё опускали, и так небо рисовали голубым и розовым, а потом белой краской облака, и черной – дерево, а потом клеем картинку смазали, и листики-цветочки из бумаги вырезали, и туда насыпали, и здорово было.
Вот у Берты так будет.
Еще Берта сделает так, чтобы не было зимы, этих двух недель в году, когда холод такой, дождь промозглый, а то и снег выпадет. Нет, снег чуть-чуть будет на Новый год, только не холодно будет, а тепло.
Еще Берта сделает так, чтобы картошки не было, а то её чистить надо, и копать надо. Или нет, пусть картошка будет, только такая, которая жареная уже, с рыбкой. И рыбка пусть будет, только чтобы её чистить не пришлось.
А вот болезней там, у Берты, не будет. Хотя нет, так-то иногда приятно поболеть, когда в ура, школу идти не надо, и можно в кровати целый день лежать, мультики смотреть. Хотя нет, если школы не будет, то и болеть не надо, потому что все равно в школу не идти. Или нет, иногда приятно вот так вот совсем ничего не делать, в постели лежать, мультики смотреть, а если не болеешь, то на фига лежать-то. Так что Берта еще не решила, будут у неё там болезни или нет.
Ой… и про школу еще не решила, школу-то, конечно, убрать надо, только не будет тогда радости этой, когда болеешь, и когда каникулы, особенно летние, и в школу не на-а-а-до-о-о-о-о!
Так что тут Берта еще не решила.
Берта все Лиз рассказала, и Ангии, а маме не сказала, а то мама умные вещи говорить начнет, а вот чтобы картошка жареная была, её посадить надо, и вырастить, и выкопать, и почистить… Ну, как будто нельзя придумать, как так сделать, чтобы и не сажать, и не чистить, и у плиты не стоять…
И языков у Берты тоже не будет, ну их нафиг, языки эти, скукотища одна, вон у Берты по всем языкам двойки в дневнике, ух, мама задаст…
Мама на двойки смотрит, кивает чему-то, не Берте, а будто бы самой себе, и говорит:
– А поедем.
Берта не понимает, как поедем, почему поедем, поедем – это когда у Берты пятерки одни, и вообще Берта молодец, вот тогда поедем куда-нибудь по самым интересным местам, а тут какое может быть – поедем, тут – марш в комнату, и чтобы все выучила, да на хрена это «все» нужно…
А тут – поедем.
И правда, поехали, экипаж взяли, мама Берте еще вкусностей купила, и поехали, вот так, куда глаза глядят. И не по городку, по улицам, до маркета и обратно, а через миры, через миры, через миры…
А экипаж разрядился.
Так мама говорит.
И руками разводит, ну извини, Берта, ну, подождать придется, пока экипаж зарядится.
Ждут.
Ходят по лугу, смотрят на разбитые дороги, на заброшенные дома, странный мир какой-то, никого нет, и дома пустые стоят, и стекла темные-темные.
Берте не нравится.
– Ма, а люди где?
Мама руками разводит:
– А нету.
Берта не верит, не понимает, как нету, почему нету, быть не может, чтобы вот так дома стояли – а людей нету…
– Ма, а почему дома рухнули?
– Ну, их не чинил никто, вот и рухнули.
– Ма, а почему не чинили?
– Ну, не умели… не знали, как чинить…
– Ма, а почему не знали?