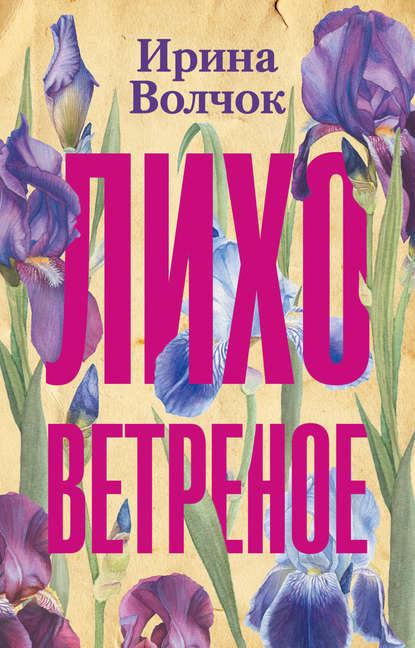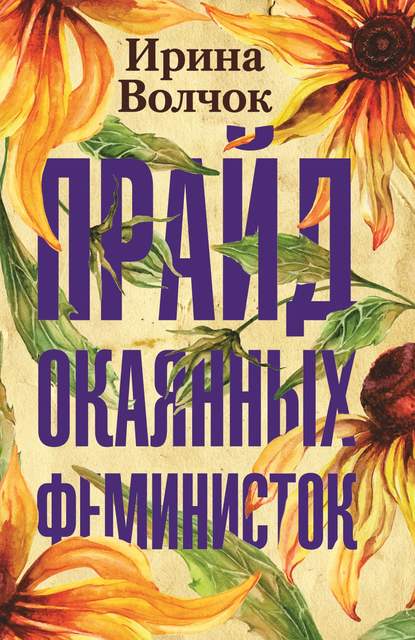Полная версия
В Калифорнии морозов не бывает
– А вот и наработала, – обиделась Александра. – Я всю первую главу прочла. До конца. Сейчас буду вторую читать. Эй, а ты зачем звонишь-то? Сам говоришь, что пятнадцать минут назад звонил. Ничего не случилось? Или опять срочно посоветоваться надо? Какие носки надевать, да? По-моему, ты просто от безделья маешься. А еще говорил, что у тебя столько дел, столько дел, что даже на субботу вырваться не можешь! А сам вон чего. Коварный обманщик. Бессовестный.
– Я совсем даже не коварный обманщик, – обиженно сказал Максим. – К тому же очень даже добросовестный. И дел у меня выше крыши, ты же знаешь, один отчет задолбал совсем… Но у меня возникли кое-какие сомнения. Поступила информация, а я недопонял.
– Какая информация? – озаботилась Александра. – От кого? Чего ты недопонял, добросовестный обманщик?
– Я совсем не добросовестный обманщик… А информация – от тебя. Я недопонял: ты зачем стоматологу привет передавала? С глубоким смыслом или опять дразнишься?
– Так, – зловещим голосом начала Александра. – Значит, ты так, да? Ты что, забыл, что сегодня идешь к стоматологу?
– Я? К стоматологу?! – ужаснулся Максим. – Я что, с ума сошел? Сегодня же суббота! У меня дел выше крыши!..
– С двенадцати до двух у тебя будет окно, – непреклонно сказала Александра. – Ты сам говорил. И я записала тебя к врачу. К стоматологу. И вчера мы об этом говорили. А если ты сейчас скажешь, что не помнишь, то я запишу тебя еще и к… э-э… например, к геронтологу.
– А это кто? – насторожился Максим. – Они не зубы лечат, нет?
– Геронтологи уже ничего не лечат, – скорбно сказала Александра. – Они ставят диагноз и наблюдают течение болезни… болезней. Склероз, маразм, то-се… Старческое слабоумие еще бывает. Это я не грублю, это действительно так болезнь называется.
– А я все равно обиделся. – Максим вздыхал в трубку, кряхтел и цыкал зубом. – Тем более что про стоматолога я и сам помнил. Просто надеялся, что ты забыла.
– Ты же прекрасно знаешь, что я никогда ничего не забываю! – Александра тоже повздыхала, поцыкала зубом и великодушно предложила: – Ну, хочешь, мы в понедельник вместе сходим? Правда, я не знаю, в какое время смогу. Придется с работы отпрашиваться.
– У тебя что, тоже зубчик болит? – радостно оживился Максим.
– Нет, – сказала жестокая Александра. – Я просто буду сидеть рядом с тобой и держать тебя за руку. Чтобы ты не боялся.
– Понедельник у меня перегружен, – очень деловым голосом доложил Максим. – Я уж лучше сегодня схожу. Если успею.
– Да ты уж постарайся, – ласково посоветовала Александра. – Если сегодня не успеешь вылечить зубчик, то я… то я с тобой целоваться не буду.
– А с кем будешь?
Александра задумалась. Такого вопроса она не ожидала, поэтому ответ как-то не формулировался.
– А-а, не знаешь, с кем тебе целоваться, кроме меня, – самодовольно сказал Максим. – Если только с тем автором, которого сейчас читаешь?
– Не, что не с ним – это точно, – уверенно ответила Александра. – Ты знаешь, по-моему, он концептуалист.
– Какой кошмар! – ужаснулся Максим. – А это очень заразно?
– У меня иммунитет, – успокоила его Александра. – Я их столько в свое время начиталась, что они на меня уже не действуют.
– А на меня? – заволновался Максим. – Вдруг это по телефону передается? Электронно-волновым путем, а? Я же их сроду не читал! У меня же никакого иммунитета!
– У тебя врожденный иммунитет, – успокоила его Александра. – Потому что ты родился нормальным. И рос нормальным. И даже к старости почти не испортился.
– Ты за это меня любишь, да? – громким шепотом спросил Максим. Кажется, он закрывал рукой трубку и хихикал в сторону.
– Нет, не за это. А за то, что у тебя высокие устремления и благородные порывы. Ты всю жизнь хочешь стать олигархом. И к тому же сегодня собираешься вылечить зуб.
Максим захохотал, не закрывая трубки. Александра с удовольствием слушала. Ей всегда страшно нравилось, как он смеется. Страшно нравилось. Даже сердце замирало. Наконец он отсмеялся, и она с любопытством спросила:
– А ты-то меня за что любишь?
– А не знаю, – легкомысленно ответил Максим. – Какая тебе разница? Люблю и люблю. Просто так. Без уважительной причины.
Они еще немножко попрепирались на тему необходимости или необязательности уважительных причин, договорились перезвониться после того, как Максим вылечит зубчик, передали привет всем, кого смогли вспомнить, – и распрощались. Надолго, как сказал Максим. Аж до самого обеда. В обед он позвонит, чтобы проконтролировать, обедала Александра или опять забыла. Александра выразила мнение, что звонить он будет для того, чтобы получить от нее моральную поддержку перед визитом к врачу.
Вот о чем они опять говорили? Да все о том же, о чем говорят вот уже одиннадцать лет, три месяца и шесть дней.
Одиннадцать лет, три месяца и шесть дней назад Максим почти совсем разорился, сказал, что теперь мало что может предложить ей, и тогда она сразу вышла за него замуж. Не совсем сразу, а через неделю, потому что надо было еще платье приготовить и успеть гостей оповестить. Гостей было немного, только подружка невесты Людмила Язовская и два друга жениха. Жених ведь только что разорился, вот друзей больше и не набралось. Но свадьба получилась веселая, шумная и долгая, главным образом – стараниями Людмилы и двух друзей. Свадьбу справляли в полупустой однокомнатной хрущевке на окраине Москвы. Кроме этой хрущевки у Максима тогда ничего не осталось. Тогда, на свадьбе, Максим сказал: «Когда-нибудь я буду олигархом». Она ответила: «Как хочешь. А зачем?» Он долго думал, кусал губы, хмурился, краснел… Наконец вызывающе заявил: «Ну, как это зачем? Чтобы тебе было за что меня любить». Первой захохотала Людмила, потом – его друзья, потом – и он сам. Она засмеялась последней, потому что не сразу поняла, о чем он вообще говорит. Господи, каким же он был глупым одиннадцать лет, три месяца и шесть дней назад… Нет, даже гораздо раньше. Ведь познакомились они почти тринадцать лет назад. Тогда он был богат. По ее представлениям – даже очень богат. Но оказывается, хотел стать еще богаче. Он рассказывал ей, какой у них будет дом на Рублевке, какую машину он ей подарит на свадьбу и какие шубы она будет покупать во Франции. И очень обиделся, когда она сказала, что Рублевка ей не нравится, машину она водить не умеет и учиться не собирается, а шубы она сроду не носила и даже не понимает, что в них хорошего. Он понял это так, что она не хочет выходить за него замуж. Все-таки Максим был ужасно глупым. Они тогда впервые сильно поссорились. Может быть, она бы и не вышла за него, если бы он вовремя не разорился. Хорошо, что разорился. А то пришлось бы выходить за какого-нибудь короля или вообще за Шварценеггера. А разве какой-нибудь король или хотя бы Шварценеггер стали бы звонить ей каждые пятнадцать минут? Тем более после одиннадцати лет и трех месяцев законного брака?
Она старательно уложила непрочитанную часть на столик, чтобы еще и ее не рассыпать, кряхтя, сползла с дивана и стала собирать рассыпавшиеся листочки. Один, второй, третий… где третий? Третий под диван нырнул, зараза концептуальная. Далеко нырнул, почти к самой стене. Ну и тьфу на него, все равно уже прочитан. Потом выловим, если нам очень захочется. Но нам вряд ли захочется, правда? Нечего там перечитывать. Все эти мрачные сумасшедшие страдания на ровном месте… Ясно, что концептуалист. Ну, по крайней мере, после окончания первой главы другого вывода она сделать не может. Да, а почему она решила, что первая глава уже закончилась? Там же вообще никаких глав нет. В руководстве к действию именно ей предлагалось разбить текст на главы. Ладно, разобьем, нам не привыкать. На чем мы там остановились? «Сейчас мне кажется, что все началось…» Вот и пусть это будет началом второй главы. Итак, глава вторая.
Глава 2
Сейчас мне кажется, что все началось, когда мы поругались с Марком из-за отпуска. Я хотел отпуск в июне, он тоже хотел отпуск в июне. Сразу обоих нас никогда бы не отпустили. По большому счету мне всегда было наплевать на отпуск. Мне эти отпуска даром не нужны. Я не знаю, что делать в отпуске. Если зимой – тогда хоть на лыжах в поле походить, морозом подышать. Дня три-четыре, потом тоже надоедает. А летом отпуск даром не нужен. Если солнце – жарко, если дождь – сыро. Не люблю. Дома сидеть? Дома делать нечего. На работе сидеть интересней. По крайней мере, ощущаешь свою полезность. Мама говорит, что я трудоголик. Ерунда. Просто добиваться чего-то надо. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно… далее по тексту. Вот так примерно. А чего добьешься, если будешь сидеть дома? Или тем более в отпуске? Кстати, мама сама с детства мне это вдалбливала: надо добиваться, надо добиваться… Да нет, все правильно. Мама знает, что говорит. Она всякого натерпелась, так что мне такой жизни не желает. Я тоже себе такой жизни не желаю. Поэтому на отпуск мне по большому счету наплевать.
Но в этот раз был особый случай. Лилия у себя с кем надо поговорила, и мне обещали путевку в Коктебель. Как раз в июне. Это еще не на сто процентов было, но на днях обещали решить. Ее предки тоже должны были в Коктебель поехать, и тоже как раз в июне. Это уже решено было, на сто процентов. Так что если бы я там вместе с ними оказался, это было бы и мне полезно, и Лилии удобно. Она бы нас познакомила в непринужденной обстановке, как людей одного круга. Потом и в дом можно было бы привести, никто бы уже не спрашивал, кто такой и откуда взялся. Кто родители и так далее. Из своего круга – это уже почти семья. У Лилии были серьезные намерения. И у меня тоже. Тем более что бедным родственником я себя не чувствовал. У меня к тому времени уже две книжки вышло. Машину купил еще в прошлом году. Хоть не новая, но на ней это не написано. И дача такая, что не всякий маститый о такой мечтать может. Ну, с дачей, если правду сказать, просто повезло. Мама через своих подружек вариант нашла. Отказник какой-то срочно продавал, за сколько сказали, за столько и отдал. Но и я ведь сколько в нее вложил. И мать там что-то в саду делала. Так что вполне цивильная дача получилась, да еще в таком месте. И перспективы у меня очень неплохие. А тут еще такой случай. От такого шанса только сумасшедший может отказаться. А я тогда не был сумасшедшим.
А Марк хотел мать к родственникам отвезти, куда-то к черту на кулички, во Львов, что ли. И тоже в июне. Их родственники в этом Львове круглый год живут, можно хоть в феврале ехать, хоть в августе, никуда они не денутся. Так вот нет, как раз в июне надо. Потому что кто-то из них, из этих родственников, в июне жениться собрался. Наверное, другой уважительной причины не придумали, чтобы все их семейство наконец-то вместе собрать. За полвека впервые решили все собраться, и то в июне. И что делать во Львове весь отпуск? Ну, мать – ладно, ей все равно делать нечего, на пенсии давно, пусть проветрится, хоть имена всей родни выучит. А Марку целый отпуск что делать в том Львове? Хотя я не уверен, что Львов. Сейчас уже не помню. Да и тогда не запомнил. Марк сказал, а я тут же забыл. Дело не в этом. Если бы он за границу опять собрался – я бы слова не сказал. Я же понимаю, что такие вещи не обсуждаются. Это перспективы, знакомства, возможности. Новый уровень, новый свой круг. Слова не сказал бы, честно. А тут – какой-то Львов! Или что-то в этом роде, уже не помню. Я не хочу отказываться от своего счастливого случая ради чьей-то чужой свадьбы. Может, у меня тоже со свадьбой получится. Особенно после поездки в Коктебель.
Но я свои аргументы Марку не выкладывал. Мама говорит, что если у человека того, о чем он молчит, больше, чем того, о чем все знают, тогда человек сильнее других. Я не знаю, сильнее или не сильнее, просто привык лишнего не трепать. Сейчас думаю, что если бы тогда все прямо рассказал, так мы бы и не ругались. Марк нормальный мужик, он понимает, что мне приходится всего самому добиваться. Хотя у Марка свой круг – с рождения, даже еще до рождения. У него и английская школа, и МГИМО – все само собой. И работа сама собой покатилась, и заграницы эти его. Но он про меня все понимает. Помогал с самого начала, поддерживал. А то, что я и ему не все рассказываю, – это так, по привычке, а не потому, что завидую или еще что-нибудь. В его возрасте у меня, может, положение будет еще и не такое. Только английский подучить надо. Если по заграницам придется ездить, без английского трудновато будет. А может, у меня свой переводчик будет. И уж вот этого я никогда не допущу – чтобы вести себя с подчиненными как с равными. Каждый должен знать свое место. Я, когда пришел, знал свое место. Марк сам меня разбаловал. Хотя я никогда особо не злоупотреблял. Только вот сейчас ругались, как равные. Но все-таки у меня была серьезная причина. Очень серьезная. Познакомиться с предками Лилии в непринужденной обстановке – это как в лотерею «Волгу» выиграть. Говорят, что бывает, но выигравших сам никто не видел. Может, вся будущая жизнь от этого зависит, а у него мама именно в июне во Львов собралась. Хотя насчет Львова я не уверен.
В общем, мы сидели и на повышенных тонах доказывали друг другу, что отпуск каждому необходим именно в июне. И что мы не собираемся менять своего решения. Уж я-то точно не собирался. У меня, может, вся будущая жизнь от этого зависела. Я даже почти решился рассказать о Лилии, ее предках и о путевке. Конечно, не все рассказать, а так, намекнуть. Без имен. Он бы понял.
Но он и так все понял. Не про Лилию, ее предков и путевку, а про то, что я все равно не отступлюсь. Вдруг прямо посреди ругани замолчал, задумался, уставился на меня в упор, а взгляд такой, будто не видит. Потом начальственно покашлял и сказал:
– Н-ну, ладно. Я ухожу на неделю в начале июня и на неделю – в конце. Середину можешь забирать себе. Устраивает?
Я подумал, что за две недели смогу и познакомиться с предками Лилии, и даже подружиться, да и вообще больше двух недель на юге выдержать невозможно. А то, что на неделю опоздаю к началу срока и уеду за неделю до окончания, – это даже неплохо. Производственная необходимость. Без меня не справляются. Должно произвести благоприятное впечатление.
– Ну? – нетерпеливо сказал Марк и опять начал раздражаться. – Я спрашиваю: такой график тебя устраивает?
Я сделал задумчивое и озабоченное лицо, помолчал для солидности, потом хотел сказать: «Да, пожалуй, устраивает».
Но тут дверь чуточку приоткрылась, и тихий голос спросил:
– Можно войти? Я вам не помешаю?
Марк оглянулся на дверь. Не знаю, что он мог рассмотреть в такую узкую щель. Наверное, что-то смог. Потому что вскочил, с грохотом оттолкнув кресло, вылетел из-за стола и понесся к двери с протянутыми руками. Еще и кричал что-то дикое. Я никогда не слышал, чтобы он кричал что-нибудь подобное. Он кричал:
– А-а-а! Спасительница ты моя! Помогительница ты моя! Где тебя черти носят?! Приехала все-таки! Не подвела старика! Завтра в командировку поедешь! В Сочи! Ты у главного была? Главный уже два раза спрашивал! Ну, приди же скорей в мои объятия! Я твоя радость, ты моя печаль!
Вел себя как сумасшедший. Тогда я еще не был сумасшедшим. Тогда я думал, что знаю, как ведут себя сумасшедшие. Сейчас я понимаю, что Марк был абсолютно нормальным. Просто он не боялся кричать всякую дичь и бежать к двери, как сумасшедший. Боится или не боится – вот и все различие между сумасшедшим и нормальным.
Дверь еще немножко приоткрылась, и в щель вошла какая-то девчонка. Не проскользнула, не просочилась, не протиснулась, а именно вошла, хоть щель была совсем узкая. Я помню, что заметил сначала, какая узкая щель, а она вот так спокойно вошла, даже не боком, а нормально, как будто не в щель, а в распахнутую дверь. Я сначала смотрел на эту щель и удивлялся, а потом уже посмотрел на нее. Даже не знаю, что я тогда про нее подумал. Наверное, тогда я подумал не про нее, а про Марка. Он же только что орал: «Иди в мои объятия». Вот я и подумал, что он сразу кинется ее обнимать. А он не кинулся, ничего подобного. Несся к двери, как носорог, орал про объятия, и вдруг – ничего подобного. Затормозил с разбегу перед ней, стал что-то умильно лопотать, руками размахивать, перешел на английский. Я тогда подумал, что это он от нервов. Она ему что-то ответила, тоже на английском. Тогда я подумал, что она иностранка, наверное, кто-нибудь из заграничного круга Марка. Марк засмеялся и сказал уже по-русски, что у нее невыносимо скверный характер. Но это простительно, потому что все остальное у нее выше всяких похвал. Я ждал, что она поблагодарит за комплимент, или скажет «ах вы льстец», или еще что-нибудь такое. Ну, что они все в таких случаях говорят. Она спросила:
– Выше чьих похвал?
И я стал на нее смотреть.
Марк мешал. Все время суетился вокруг нее, руками махал, в общем, закрывал обзор. Помню, я подумал, что Марку тоже следовало бы сесть на диету. Я, например, уже шесть килограммов сбросил. Прекрасно себя чувствую. Хотя я никогда не был таким комодом, как Марк. Настоящий комод, весь обзор закрывает.
Потом Марк помог ей снять куртку. Стал устраивать куртку на вешалку – мама называет такую вешалку «плечики». Я удивился, что куртка – точно такая же, как у Лилии. Синяя, с капюшоном, внутри – белый мех, по краям накладных карманов – тоже полоска белого меха. Лилия говорила, что такая куртка на всю Москву одна, только у нее. Лилии эту куртку привез отец, из Японии. Лилия говорила, что все девушки из ее круга просто заболели от зависти. Лилия свою куртку надевала только на выход. Это если свой круг ехал не просто на чью-то дачу, а на чью-то закрытую дачу. Когда не просто свой круг, а самые избранные. Лилия никогда не надела бы эту куртку просто так, на работу например. Во-первых, единственная на всю Москву, но у Лилии – не единственная. Во-вторых, эта синяя куртка была не очень удобной. Так Лилия говорила. Она считала, что японцы не умеют шить на европейских женщин. Все как-то тесновато, даже капюшон, и рукава коротковаты. Лилия говорила, что у японцев лекала другие. Может быть, ту куртку, которую Марк устраивал на плечики, шили по другим лекалам. Потому что рукава у нее были немножко завернуты, так что получились белые меховые манжеты. Если бы рукава были коротковаты, их бы не заворачивали. Или это не лекала другие, а размер другой.
До сих пор не понимаю, с какой стати я тогда примотался к этой куртке. Только один раз посмотрел на ту женщину, которая в этой куртке пришла. Но Марк все время закрывал обзор, особо ничего не разглядишь. Показалось, что совсем мелкая девчонка, почти ребенок. Наверное, дочка каких-нибудь знакомых Марка. Из его круга. А то откуда у нее такая куртка?
Марк, наконец, устроил куртку в шкафу и повел девчонку к своему столу. Слегка придерживал ее за плечи. Не обнимал, а именно придерживал. Как будто боялся, что она убежит. И все время что-то говорил, то и дело переходя на английский. Наверное, от нервов. Или просто перед ней выпендривался. Или передо мной. Она тоже что-то говорила, но все время по-русски. Очень тихо, но я кое-что расслышал. Она сказала, что в командировку в Сочи не поедет, приехала по своим делам, забежала просто так, в гости, а вызов отработает в июне, если никто не против. А сейчас, если нужно, сделает что-нибудь срочное. Мелочь какую-нибудь, только чтобы никуда не ехать.
Я почувствовал обиду. Если командировка в какой-нибудь Тамбов – так, кроме меня, ехать некому. А как в Сочи – так мне даже не сказали. Приберегли Сочи для какой-то посторонней девчонки. Может, для Марка она не посторонняя. Дочка бывшего однокурсника, например. В Сочи сейчас уже почти лето, самое время дочке бывшего однокурсника немножко позагорать перед основным отдыхом. Может быть, в Коктебеле. Или даже в Болгарии. Да этих дочек даже в Финляндию выпускали, без проблем.
Марк закричал, что главный с него скальп снимет, главный специально для нее Сочи оставил, личное его распоряжение! Еще вчера командировку выписали! А она не явилась!.. Еще что-то кричал, громко. Я сидел и злился, потому что Сочи – вот этой вот, которая даже ехать не хочет, а мне вообще ни слова не сказали. Она спокойно, неторопливо устраивалась в кресле. Молчала и смотрела на Марка, иногда кивала. Кажется, кивала как раз тогда, когда он говорил, что она бессовестная и легкомысленная. Я подумал, что она соглашается, чтобы его успокоить. Потом подумал, что она специально его дразнит, – я видел только ее профиль, но заметил, что она улыбается. Так, чуть-чуть.
Потом она сказала:
– Я пить хочу.
Марк сразу заткнулся и стал шарить в тумбе возле своего стола. У нас в этой тумбе электрический чайник и кое-какой стратегический запас на случай чрезвычайных событий. Я догадался, что ее явление народу – это для Марка чрезвычайное событие. И еще я догадался, что ей все равно, кто о ней что думает. Может, она даже не слышала, что там кричал Марк. То есть не слушала. В общем, не придавала значения.
Потом, уже намного позже, я понял, что она всегда все слышит и всегда всех слушает очень внимательно. И запоминает все подряд, даже незначительные мелочи. Даже такие пустяки, которые вообще никому никогда не придет в голову запоминать. А значение придает только тому, что сама выбирает. Я имею в виду – выбирает из всего, что есть. Иногда выберет ерунду какую-то и считает, что эта ерунда имеет огромное значение. А иногда случится что-то на самом деле важное, все только и говорят, как это событие отразится на их судьбах, даже вообще на всей мировой истории, а она посмотрит непонимающе и вдруг скажет: «Какая все это ерунда». Она всегда придавала значение мелочам.
А то, что ей все равно, кто о ней что думает, – это я с самого начала правильно догадался. Хотя тогда видел только ее профиль.
– Да! – Марк наконец-то вспомнил обо мне. – Вы же не знакомы! Это наш ведущий фельетонист. Очень перспективный, очень. И завидный жених – холостой, молодой и богатый. У него две книжки уже вышли. Фантастика. Скоро третья выйдет! И четвертую уже пишет! Ты ведь фантастику любишь? Ну вот, он тебе свои книжки подарит, с автографом. Живой классик, не кот начихал! Ты когда-нибудь видела живых классиков?
– Нет, – сказала она своим тихим, спокойным голосом. – Но мертвых классиков я тоже никогда не видела.
И повернулась ко мне.
Вот, наверное, когда все началось.
Хотя тогда я ее даже не рассмотрел толком.
Правда, и потом я ее толком никогда не мог рассмотреть. Особенно когда она вот так поворачивалась и начинала смотреть в упор. Вроде бы пристально, с интересом, но – с каким-то отстраненным интересом. Со спокойным ожиданием. Или со спокойным терпением, я не знаю. Я видел такой взгляд у маленьких детей, когда те едут в троллейбусе и смотрят в окно. Матери сидят на местах для пассажиров с детьми и инвалидов, а дети сидят у них на коленях. Если не капризничают, то смотрят в окно вот таким взглядом. Пока они вот таким взглядом смотрят в окно, их еще можно толком рассмотреть и даже иногда запомнить. А если поворачиваются и начинают смотреть на тебя, – все, ничего запомнить нельзя, потому что ничего не видишь, кроме этого взгляда. Я как-то поделился своим наблюдением с Лилией. Лилия все выслушала очень внимательно, а потом сказала, что, скорее всего, мне попадались какие-нибудь больные дети. Не совсем нормальные. Наверное, она должна была знать про детей больше, чем я. Конечно, у Лилии своих детей тоже не было, но ведь в ее кругу было много детских писателей. И по работе все время с ними контактировала. Лилия рецензировала детские книжки перед тем, как их авторов принимали в Союз писателей. Или не принимали. От Лилии многое зависело. Тем более от ее отца.
Но с мамой я тоже поделился своим наблюдением насчет того, как маленькие дети сидят у матерей на коленях и смотрят в окно троллейбуса. Мама сказала, что все правильно я заметил, все так и есть. Дети воспринимают информацию, потому что никуда не денешься, им нужно познавать мир. Вот они и сидят, смотрят, познают мир, но при этом скучают. Мама сказала, что я внимательный наблюдатель, это врожденный дар. А все анализировать и синтезировать можно научиться со временем. И даже подсказала мне идею сюжета новой книги: рождается ребенок с необыкновенными способностями, у него особенный взгляд, он этим взглядом может… Я уже не помню, что он может делать этим взглядом. Это сейчас не имеет значения. Книги с таким сюжетом написали уже все, кому не лень. А я так и не написал. Но это тоже уже не имеет значения.
Это перестало иметь значение с того момента, когда она повернула голову и посмотрела на меня. У нее был такой взгляд, будто она познает мир, но при этом скучает. Мне показалось, что она немножко улыбается. Но она не улыбалась, просто губы у нее были, как говорят, луком Амура, уголки всегда загнуты вверх, от природы, а не от настроения, вот и казалось, что она улыбается. Но по-настоящему, от настроения или хотя бы для вежливости, она никогда не улыбалась.
Даже странно, что я тогда мог столько всего разглядеть. Но скорее всего, это я потом столько всего разглядел. А тогда я увидел только глаза. Как будто на лице были только глаза, одни глаза и ничего больше. Потом узнал, что все, кто видел ее впервые, сразу запоминали только глаза. При следующих встречах и узнавали только по глазам. А все остальное запоминали постепенно. А может, и не запоминали. Володя, например, рисовал ее без конца, сто портретов нарисовал, наверное. Или двести, я не знаю. И на всех портретах глаза – ее, а все остальное разное. В принципе все портреты на нее похожи, Володя – хороший художник. Но портреты разные получались. Эти портреты я потом увидел. А тогда я не думал, что ее вообще можно нарисовать. То есть я вообще ни о чем таком не думал, но если бы меня спросили, можно ее нарисовать или нельзя, я бы ответил, что нельзя. Потому что ничего, кроме глаз, не видишь.