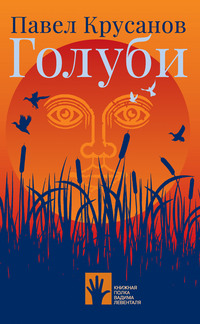Полная версия
Все рассказы
А сама красноречивая кухарка тем же летом по причине пьяного бесчувствия насмерть угорела в бане вместе с денщиком Нила Антоновича – нашего воинского начальника. Судебный следователь Шестаков обнаружил в предбаннике, опричь одежды и берёзовых веников, полчетверти «Ерофеича», мочёные яблоки и свиную колбасу, из которой торчал маленький перочинный ножик с перламутровой ручкой.
1984
Жаркий июль
Было видно, как солнце за окном садится в лес. Тут дядя Лёва взял рюкзак и пошёл во двор, а Вовка – за ним, как обычно – провожать. Теперь дядя Лёва только к следующим выходным приедет, и Вовке из дома станет проще удирать, и мне будет с кем на речку таскаться за окунями. Вот бы ещё по телевизору побольше тёти-Наташиных «до шестнадцати» пустили, тогда бы – совсем отлично, тогда бы и я свои гривенники заработал, и за Вовкой вовсе бы глаза не было, как в прошлую неделю. Эх, вот бы так же вышло!
Во дворе заурчала дяди-Лёвина машина – всё, сейчас поедет. И я встал, чтобы домой идти, а тётя Наташа говорит: подожди-ка, Саша, это я, стало быть, подожди-ка, – а сама что-то ищет на столе глазами, – дело для тебя есть, пока мы одни, понимаешь? сейчас я черкну два слова, а ты… И я понял, что гривенник у меня уже почти в кармане.
Тётя Наташа отыскала на столе карандаш, склонилась над бумажкой и всё повторяет: сейчас, подожди-ка, сейчас – а я и так уже не спешу. Заглянул ей под руку – снова ни шиша не понять, те же строчки пишет, что и раньше, и буквы такие же, низенькие, животастые – хоть тресни, не прочесть ни слова. А тут вдруг опять вошёл дядя Лёва. Как он дверью скрипнул, тётя Наташа в один миг сиганула от стола, бумажку – в карман кофточки и уже стоит посередине комнаты как ни в чем не бывало, только палец к губам поднесла украдкой, молчи, мол. А мне что, я и помолчу. Хотя чего тёте Наташе бояться? Разве ж дядя Лёва станет ей запрещать у нас телевизор смотреть, тем более, что от их дачи до нашего с отцом дома пять минут ходу.
– Деньги-то я тебе забыл оставить, – сказал дядя Лёва и достал из кармана кошелёк. Положил на стол две красненькие бумажки, потом вытряхнул на ладонь остаток: трёшку, какую-то медь и пять или шесть юбилейных рублей, на которых наш солдат с мечом, и спросил: – Может, ещё добавить?
Тётя Наташа сказала: не надо. А что ему стоило мне предложить хоть один юбилейный, от меня бы, небось, не услышал: не надо!
Ну, потом дядя Лёва сказал, что придётся ему, видно, Митьку Давыдова с собой в Мельну везти, потому что тот стоит во дворе и от машины не отходит да ещё обещает рассказать какое-то дело, а какое у него дело – и так видать: у человека пятый день запой, за душой даже двугривенного нету на автобус, ему и хочется задарма в город попасть, а там он вагоны ночью погрузит, семь потов спустит, и всё затем, чтобы завтра снова до зелёных соплей нажра… – и тут тётя Наташа сказала: постой, зачем при ребёнке, это при мне, стало быть. А дядя Лёва засмеялся, что, мол, будто бы этот ребёнок не с самого рождения Митьку Давыдова знает, будто бы восемь месяцев кряду не видит того в канаве у магазина, а четыре других – на том же месте, но в сугробе, и будто не его отец с этим Митькой по пятницам принимает за воротник, а тётя Наташа сказала: Лёва!
Откуда им знать, что мой отец со вчерашнего дня с Митькой в ссоре, когда тот пришёл и попросил в долг пятёрку, а отец сказал, чтобы он в другом месте дураков поискал, потому что Митькины долги завещания ждут. Но, видно, Митьке очень хотелось пятёрку получить, и он сказал, что второй месяц вот молчит, хотя всё прекрасно видит, и что если бы ему было сегодня на какую деньгу похмелиться, то, вообще, смог бы, наверно, промолчать всю жизнь и никто бы из него даже силой слова не вытянул, а отец спросил: это что же ты видишь? Тогда Митька выругался, что, мол, то самое и видит, чего этот дачник Медунов, дядя Лёва, стало быть, никак не разглядит, хотя мог бы за два месяца разок к зеркалу подойти и полюбоваться рогами, а отец ему говорит: мол, с какой такой стати тебя чужие рога беспокоят? Тогда Митька снова выругался, что ему дела-то никакого нет, да вот только молчать уж больно тяжело, когда так пить хочется.
– Вкусно-сладко? – говорит. – Плати!
Ну, тут отец покрутил перед Митькиным носом кулачищем и сказал: топай-ка ты, дятел, мимо, а если к Медунову свернёшь за пятёркой, то пропьёшь её уже на том свете, если и там косорыловка в ту же цену. И я бы Митьке ни шиша не дал, потому что с него не допросишься. Дядя Лёва всё стоял и совсем без рогов, так что Митька к тому же трепло, и всё держал на ладони рубли – от меня бы, небось, не услышал: не надо!.. Стоит себе и стоит, а я уже ждать не могу, когда он уйдёт, чтобы тётя Наташа записку дописала и отдала мне мой гривенник. Ох, хоть бы скорее, прямо невмоготу терпеть!
– Вовку одного далеко не пускай, пусть у дома гуляет, – сказал дядя Лёва.
Было видно, как он засовывает деньги обратно в кошелек и разворачивается к двери.
А это уж дудки! Завтра тётя Наташа пойдёт кино смотреть к моему отцу, и мы будем с Вовкой одни и что захотим, то и сделаем, потому что нас они ни за что к телевизору не пускают и даже в доме не оставляют – они только те фильмы смотрят, которые «до шестнадцати», – да нам и не очень-то хотелось: на речку, небось, тоже не каждый день удрать можно. Вот сейчас гривенник заработаю и завтра, может, ещё один да ещё за окунями – эх, отлично! Прямо невмоготу терпеть.
Потом дверь снова скрипнула, и тётя Наташа подмигнула мне, мол, всё в порядке – наша взяла. Подошла к столу, черкнула в бумажку, сложила два раза и протянула мне белый квадратик.
– Смотри не потеряй, – сказала она. – И никому не показывай, понимаешь? Главное – никому не показывай.
Она всегда так говорит, будто я хоть раз терял или кому-то не тому показывал.
На самом деле, все это чушь собачья, и никому эта бумажка не нужна, тем более что не понять ни шиша. Я один раз Митьке Давыдову дал взглянуть, чтобы он мне прочёл, так он тоже ничего не понял, только присвистнул. Даже ей не нужна. Ведь отец и так её пустит телевизор смотреть, безо всяких записок. Только тётя Наташа иначе думает – разве ж кто-то станет деньги отдавать за чушь.
Дяди-Лёвина машина во дворе заурчала громче, и стало слышно, как она уезжает. Я положил записку в карман и ещё пуговицей застегнул – специально, чтобы тётя Наташа видела, как надежно. Застегнул и жду.
– Уже поздно, – сказала она. – Иди домой, а то опоздаешь к ужину. А завтра приходи, поиграете с Вовкой.
– Приду, – сказал я.
– Только – чур молчок. Понимаешь?
– Ясное дело, – сказал я, – раз за такое гривенник полагается.
Тут тётя Наташа охнула и говорит, мол, что же со мной к двадцати годам станет, если я в девять такой, а сама уже кофточку обшарила и даёт мне блестящую монетку – прямо сверкает, такая новенькая.
Сперва он лежал в кармане холодный, а когда я на крыльцо вышел, гривенник нагрелся и стал прилипать к пальцам. На дворе, кроме Вовки, никого не было – машина пылила далеко у леса, – и я сказал ему: завтра на речку идём, так-то вот.
Солнце уже село, но было жарко, и роса не думала выпадать. Зашёл в дом, гляжу: отец только поужинал, ещё со стола не убрал – сидит и скребёт во рту спичкой. На записку сперва и не взглянул – сплюнул в сторону, цокнул языком, потом только бумажку развернул и сказал: у-у, кошкина дочь. И даже не выругал меня за то, что я опоздал к ужину. Ну, думаю, день сегодня – что надо. Как бы теперь ночь дотерпеть, чтобы снова было утро, а там и на речку с Вовкой сбежим. А может, и завтра ещё записка будет, так, глядишь, опять заработаю, кто знает. Перед тем как за стол сесть, я залез под свою кровать, нащупал прорезь в жестянке и сунул туда гривенник. Интересно, сколько их там?
Отец всё теребил бумажку, всё мял её пальцами и вдруг понёс не пойми на кого, что уж если быть гвоздём, то понятно, когда под обухом в стену лезешь, а чтобы самому себе по башке дубасить, так это Митька Давыдов один такой умник на всё Запрудино, и уж коли он такой, то пускай за своё петушиное дело в гроб ложится, никто ему мешать не станет, а отец так, например, даже поможет, потому что два раза предупреждать не привык, пускай он себе кукарекнет, а там, глядишь, и не рассветёт. Даже встал и зашагал перед печкой, до того распалился. Шагает и всё говорит не пойми кому, что, мол, коли всякие засранцы, которым место в канаве у магазина, начнут ему указы строить, то он с такими торгов не торгует – плюнет да разотрёт, всей работы. И треснул кулаком о стену так, что с потолка сыпануло пылью.
– Хоть бы кто рассказал, про что кино, – сказал я. – Про войну, что ли?
– А?.. – сказал отец.
– Если про войну, то я уже смотрел такое.
Тут отец сказал, чтобы я ел и помалкивал, а если мне доведётся такие фильмы смотреть, какие он смотрит, что, слава богу, будет ещё не скоро, то он желает, чтобы мне их одному показывали и никакой петух перед экраном бы не маячил, а я спросил: это как же? Ну, отец сказал, чтобы я представил, будто мои гривенники кто-то из-под кровати потихоньку тибрит, а дружок мой, Вовка, например, приходит и показывает на этого ворюгу пальцем, так вот отец думает, что я бы тогда сильно на этого человека огорчился и пошёл бы своё богатство отбирать обратно, и если я себе это хорошо представил, то получится вылитый дядя Лёва. Но это – полдела, а вот если бы я сам вздумал у кого-нибудь гривенники таскать (ну как не таскать, если сами в карман прыгают), а Вовка бы, например, меня выдал, то он думает, что я бы тогда тому Вовке тумаков не пожалел, и это уже получится он, отец, стало быть, только вместо гривенников здесь одна кошкина дочь, а я спросил: это как же?
– А вот так, – сказал отец. – Годов нарастишь – узнаешь.
И потом ещё сказал, что если один куркуль уже поел, то на стене висят ходики, по которым видно, что этот куркуль целых двадцать минут отлынивает от постели. И погасил свет.
Интересно, сколько же их? Я опять залез под кровать и тряхнул жестянку, только потом лёг и одеялом укрылся, лежу и думаю, что вот теперь бы ночь дотерпеть, а там, глядишь, и утро, и речка, и – может, ещё перепадёт…
Потом я встал и начал одеваться. Отец уже был в совхозе, так что я мог хоть сейчас идти на речку, только разве ж это интересно – одной рукой в ладоши бить? Вот после обеда, когда отец с трактора вернётся и тётя Наташа пойдёт телевизор смотреть, тогда и мы с Вовкой дадим дёру. Вот бы ещё перед этим заработать – совсем бы отлично.
Ну, позавтракал и пошёл к Медуновым, а у магазина уже крутится Митька Давыдов и всё по сторонам зыркает, будто высматривает кого, и даже издали видно, как ему пить хочется. Я однажды спросил у отца, что будет, если у Митьки денег не окажется, когда ему очень-очень пить пристанет, он заболеет, да? – а отец сказал, что ничего он не заболеет, а, наоборот, будет как с шилом в жопе, потому что ради скляницы на всё готов, и если уж очень-очень пристанет, так изловчится и продаст из Запрудина что-нибудь вроде речки или водокачки, и что он давно бы их продал, да вся загвоздка в том, как их стянуть, чтоб не сразу заметили. А старший Кашин, который рядом был, сказал, что пусть Митька мужик бестолковый, зато на нём магазин половину плана делает, а значит, найдётся человек, который и ему спасибо скажет, да, к примеру, та же продавщица Валька.
Митька, как меня увидел, сразу подбежал и сказал, чтобы я не спешил и что у него ко мне дело.
– К дачникам идёшь? – спросил он, а сам извивается, как мотыль, и глаза слезятся. – А рубль заработать хочешь?
– Ври тому, кто не знает Фому, – сказал я, – а мне Фома – родной брат!
Чтобы Митька кому-то рубль дал, да ещё у магазина, и это когда у него вчера даже двугривенного не было на автобус – не-ет, это уж дудки! И я оглянулся на водокачку.
Тут он полез в карман и достал юбилейный рубль, такой же точно, каких я пять штук у дяди Лёвы на ладони видел, и повертел так, чтобы я разглядел со всех сторон, а потом сказал, что ему только и надо-то знать, носил ли я вчера отцу что-нибудь от медуновской жены, от тёти Наташи, стало быть, или нет. Ну, я подумал, что тётя Наташа навряд ли Митьку Давыдова имела в виду, когда молчать просила, подумал-подумал и говорю:
– А полтинник не добавишь?
– Ишь скряга какой, – сказал Митька. – Ну, если не хочешь, так и не надо. – И потянул рубль обратно к карману.
– Носил, – сказал я. – Записку, как на той неделе…
– Молодец! – Митька снова зыркнул по сторонам. – Только никому не говори, что я тебя спрашивал.
– Ясное дело, – сказал я, – раз за такое рубль полагается.
Ну, тут Митька спросил: про что записка? – а я сказал, что известно про что – фильм придёт смотреть, который «до шестнадцати», а Митька засмеялся и прямо закрутился волчком.
– Так и написала, что «до шестнадцати»? – спросил он.
– Это уж не знаю, – сказал я. – Закорючки – не понять.
– А раз не знаешь, – сказал Митька, – то и рубль тебе платить не за что. – И побежал через огороды к автобусной остановке.
Я сперва тоже побежал, но скоро остановился, потому что у Митьки только пятки сверкали и я бы его всё равно не догнал. Тут глаза у меня зачесались, и слюны натекло полный рот.
Скоро стало видно медуновскую дачу. Солнце сильно припекало, прямо несло жаром, ну, думаю, если и тётя Наташа передумает кино смотреть, тогда не день будет, а божий недоделок.
– Отнёс вчера? – спросила тётя Наташа.
Она шла с корзинкой к огороду, наверно, хотела клубнику добрать.
– Отнёс, – сказал я.
– Умница, – сказала тётя Наташа. – А почему у тебя глаза красные?
Ну, она наклонилась и стала мне передником лицо тереть, а я подумал-подумал и сказал, что не надо, что от этого гривенник не объявится, а она спросила: что?
– Я ваш вчерашний гривенник потерял, – сказал я.
Тётя Наташа охнула, что, мол, только и всего-то! – а потом сказала: не реви – вернулась в дом и принесла мне новый. А я и не думал реветь, вот ещё! Она закрыла за собой калитку в заборе, и я тоже пошёл со двора, сперва на крыльцо, а потом через веранду в Вовкину комнату, иду и чувствую пальцами, как он нагревается в кармане и становится гладким и липким. Вот бы, думаю, ещё отец скорее с работы вернулся, тогда и кино начнётся, а вечером, может, ещё где перепадёт, кто знает. Вот будет отлично, если перепадёт!
Потолок в Вовкиной комнате был белый-белый, и от этого там делалось светло, как в коробке из-под обуви. Ну, я сел на диван, а Вовка сразу сказал, что может ещё так случиться, что его отец, дядя Лёва, стало быть, сегодня из Мельны вернётся – это Митька Давыдов так вчера вечером говорил, когда вертелся вокруг машины и обещал рассказать своё дело. Так и говорил, что дело у него больно любопытное и когда отец, дядя Лёва, стало быть, про всё узнает, то непременно вернуться захочет, а сам он, мол, очень даже может через это пострадать, а Вовкин отец ему отвечал: ладно, ладно – но Митька всё равно обещал рассказать, потому что он, мол, честный человек, и справедливость – для него главное, и ещё он надеется за свою честность награду получить, потому что добро должно вознаграждаться, только расскажет он лучше не сейчас, а в дороге, да к тому же хорошо бы сперва награду обговорить, а Вовкин отец опять сказал: ладно, ладно, знаем.
– А потом они вместе уехали, – сказал Вовка. – Так что отец, может, ещё обратно вернётся.
Ну, я сказал, что на его месте я бы Митьке в рот не глядел и что сам я, например, уже давно ему ни на грош не верю, потому что Митька врёт как блины печёт, только шипит. Потом подумал и спросил:
– А тётя Наташа знает?
– Нет, – сказал Вовка. – Я ей забыл сказать.
– И не вспоминай, – сказал я. – Если тётя Наташа узнает, она дома может остаться и тебе будет не удрать на речку.
– Верно!
– С тебя гривенник, – сказал я. Только это уж просто в шутку, потому что у Вовки, небось, и пятака-то своего никогда не было, не то что гривенника.
На улице пекло, а мы всё сидели на диване и говорили о разном, пока тётя Наташа не позвала нас обедать. Ну, мы вышли на веранду и взялись за ложки, а когда после всего клубнику дали, тётя Наташа сняла передник и сказала, что сейчас уйдёт и мы, мол, одни останемся, но она нам доверяет и надеется, что мы будем себя хорошо вести и не пойдём гулять далеко от дома.
За деревней мы перестали бежать, потому что воздух там уже пах рекой и стало ясно, что деться ей от нас теперь некуда. А солнце всё палило, будто его разворошил кто, как угли. Правильно, думаю, что мы с собой удочки не взяли, в такую жару не до окуней, в такую жару надо сидеть в воде по маковку и не петюкать. Только я это подумал, как на просёлок выскочил дяди-Лёвин москвич – Вовка так и замер на месте, наверно, очень испугался, что его сейчас будут ругать за то, что он удрал без спроса.
Москвич подкатил, и стало видно, что за дядей Лёвой сидит Митька Давыдов и глаза у него – довольнёшеньки, а сам дядя Лёва, наоборот, как будто не в себе. Они о чём-то говорили, и это даже издали было видно, а как машина остановилась, то и слышно стало. Митька просил, чтобы дядя Лёва его перед деревней высадил, а то их могут вместе увидеть и тогда Митьке крышка, он своё дело сделал, его, мол, и так за это пришибут, а если вместе увидят, то и говорить нечего – покалечат вернее верного, а дядя Лёва сказал: со мной поедешь. А Митька опять своё, мол, дяде Лёве-то что, его дело законное, так что все шишки Митькины, а ему ещё пожить хочется, он-то, мол, знает, какой у этого Гремучего, у моего отца, стало быть, кулак тяжёлый – таким зашибёшь, и два раза махать не надо, к тому же Митька ещё свою пятёрку в жидкую валюту не перевёл и в таком виде смерть принять не готов, а дядя Лёва сказал: хватит! Митька замолчал и забился в угол, а дядя Лёва высунул голову наружу и спросил:
– Где мать? – А Вовка молчит – всё, небось, боится трёпки.
Тут я подумал, что ни шиша – раз Митька меня молчать просил о том, о чём у магазина спрашивал, то я назло всем расскажу, а он пусть подавится своим юбилейным, и сказал:
– Она у нас кино смотрит.
– Кино?! – спросил дядя Лева.
– Да, – сказал я, – до шестнадцати.
– До шестнадцати!!! – закричал он и так газанул, что только пыль столбом. Небось, тоже хотел посмотреть, хоть и не с начала.
Как они подальше отъехали, я сказал Вовке: с тебя гривенник, вроде пронесло – а он заныл, что, мол, всё равно теперь придётся обратно идти, раз отец вернулся, и если его сейчас не выругали, то, мол, дома обязательно взгреют, тем более, что отец, дядя Лёва, стало быть, поехал такой обозлённый.
А воздух-то уже пах рекой! Ну, думаю, что ж это за день такой – непёр с пролетом, и полез в карман пощупать гривенник, чтобы было не так обидно.
Когда снова показалась деревня, мы с Вовкой уже взмокли от жары. Рубаха облепила мне спину, и в желобке между лопаток текла едкая струйка. Небось, думаю, не хуже, чем в Африке! Мы прошли мимо нашего дома, и я удивился, что дверь открыта нараспашку и никого нет рядом – заходи себе и смотри кино, – но только мы дальше пошли, к медуновской даче. Потом из-за забора показался магазин. Около него толпилось человек восемь-десять, и все шумели, а когда мы подошли ближе, то стало видно, что вместе с деревенскими тут и продавщица Валька, которая громче всех кричит, и что они смотрят туда, где за канавой два брата Кашиных держат под руки моего отца. Вернее, это он им просто позволяет себя держать, потому что будь там ещё хоть четверо таких, как Кашины, им бы с отцом и минуты не справиться, если б он того не захотел. Он им, значит, поддаётся, и все на него смотрят, словно не видали раньше. Ну, потом я глянул ему под ноги и увидел Митьку Давыдова. Он уже успел надраться и лежал в канаве, бледный-бледный, и даже не сгонял муху, которая сидела у него на самом зрачке. Небось, и мой рубль спустил, думаю, а мне бы он ох как пригодился… Потом Валька крикнула: детей-то уведите! – и нас с Вовкой потащили за руки к магазину. Ну, тут Вовка заплакал, что ему домой надо, а то его ругать будут, если он сейчас не придёт, а кто-то сказал:
– На тебя керосину не хватит.
Но Вовка всё равно плакал и рвал свою руку, а я так рад был, что уходим с солнцепёка. Ну, думаю, надо ещё где-то гривенник перехватить, а то весь день – зряшный.
Одна танцую
Ночью учителю снились попугаи. Птицы веерами распускали крылья и вдумчиво пели: «Милая моя, взял бы я тебя…» В восемь часов, по призывной трели будильника, учитель сел в постели и, не обнаружив тапок, утвердил пятки на холодных половицах. Он не помнил своих снов – пытался поймать ускользающий образ, но находил в голове только вязкую хмарь. За окном, на самых крышах, лежало стылое цинковое небо. Учителя окатило ознобом.
– Труб-ба дело! – дремотно ёжась, сказал он словами Андрея Горлоедова и, поняв это, зло, без слюны, плюнул под ноги.
Учитель оделся, закинул на шею полотенце и вышел в утренний коридор. Кругом было тихо и пусто; в кухне на сковороде шкворчал маргарин.
Пока он мочился, от аммиачного духа глазам сделалось жарко. Теперь сквозь головную муть проступало: больше не звонить и не ходить – я никогда не привыкну ею делиться…
По пути из ванной, окуная в полотенце сырое лицо, учитель столкнулся с Романом Ильичом. Тот шёл на кухню с джезвой и миской холодных макарон по-флотски.
– Эх-хе-хе! – вздохнул уныло Роман Ильич. – Жил хорь сто зорь, сдох на сто первой, провонял стервой!
– Кто? – Учитель застыл с устремлённой к пожатию ладонью.
– У меня под ларьком сдохла крыса. Её не вытащить. – Показывая, что он не может ответить на приветствие, Роман Ильич приподнял занятые посудой руки. – Она уже смердит.
– Скоро приморозит, – успокоил учитель.
– Прежде я задохнусь до смерти.
Учитель уже стоял перед дверью своей комнаты, когда из кухни, одновременно с жадным чавканьем маргарина, набросившегося на макароны, его догнал голос соседа:
– На этой неделе тебе Ленинград не снился. Верно, Коля?
Учитель толкнул дверь. Завтракал бутербродами с сыром и ревеневым соком. Без четверти девять, уже выбритый, с капюшоном на голове, учитель ступил на улицу, под октябрьский дождь.
В воздухе плавал запах прелого листа и мокрого железа. За квартал до площади, где ветшала древняя соборная церковь, тишину проткнул острый детский крик: «3-задастая!» Пронзительное «з» дрожало в воздухе, как стрела в мишени. Толстая женщина, шлёпавшая по лужам в пяти шагах перед учителем, приподняла пёстрый зонт и растерянно оглянулась по сторонам, – она походила на несколько булочек, плотно спёкшихся на противне. Водяная пыль забивала пространство, голос плутал в ней, дробился, звучал отовсюду. Убедившись, что поблизости больше никого нет, толстуха осторожно покосилась на учителя. В это время голос звонко уточнил: «Эй, з-задастая под з-зон-том!» «3» оставляло на теле тишины глубокие шрамы. Женщина ещё раз метнула взгляд вдоль улицы, втянула шею в сдобные плечи и поплелась к площади. Голос показался учителю знакомым. Он закинул голову и увидел балкон, забранный синим волнистым пластиком. В щели между двумя разошедшимися листами блестел озорной глаз.
– Зубарев! – позвал учитель и удивился, как звякнул в тишине коленчатый звук. Глаз моргнул и убрался.
– Зубарев, – сказал он уверенней, – я тебя видел.
Над синей оградой поднялось смущённое лицо Алёши Зубарева – одиннадцатилетнего сына начальника вокзала.
– Почему не в школе?
– Я заболел, – сказал мальчик, – у меня в животе жидко.
– У тебя в голове жидко, – определил учитель.
Алёша застенчиво посмотрел в сторону.
– Вас, Николай Василии, под капюшоном не видно.
На площади блестели мелкие широкие лужи. У колокольни, под облупившейся вывеской «ТИР», учитель закурил. Чтобы скрыть от дождя папиросу, он тянул дым из кулака. Сквозь морось собор выглядел рыхлым, размякшим, оседающим в землю. Учитель обходил лужи и в светлеющей голове творил заклинание: ты слаб перед ней, потому что любишь её, будь сильным – забудь, что она есть.
Надя, не открывая глаз, широко потянулась в растерзанной постели. Тугие, тяжёлые груди поднялись в глубоком вздохе и снова опустились – накатилась и ушла медленная волна прибоя. Простыня закрывала ей только ноги и половину живота – батареи пылали, как чугун в литейке. Надя распахнула веки: в комнате было совсем светло. Рядом, повернувшись к ней свалявшимся затылком, посапывал Андрей Горлоедов. Минуту Надя лениво рассматривала его плотные лопатки, потом улыбнулась и едва сдержала смех, вспомнив, как ночью они запутались во взмокшей простыне, скатились на пол и повалили торшер. С улыбкой на припухлых губах она встала и накинула фланелевый халат.
На кухне шелестело радио. Надя вывернула ручку почти до упора – в пространство квартиры, заполняя его прямоугольную геометрию, хлынул бодрый утренний вздор.
Когда в кухню зашёл Андрей, на плите уже бормотал чайник и на сковороду перламутровой струйкой стекало третье яйцо.