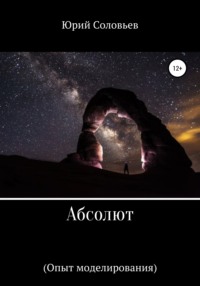полная версия
полная версияВ поисках смысла. Сборник статей
Правда, в соответствии с этой теорией существует энергия самого взрыва, которая как бы противоположна силам тяготения. Но энергия взрыва имеет источник происхождения в самом взрыве, то есть с источником происхождения силы тяготения она не связана. Следовательно, единства между энергией первоначального взрыва и силами тяготения нет никакого, а значит, нет между ними и борьбы. Кроме того, энергию первоначального взрыва вообще нельзя рассматривать, как постоянно действующую во вселенной силу, так как время ее действия ограничено величиной первоначального импульса.
Таким образом, согласно теории Большого взрыва, во вселенной действует только одна сила – это сила всемирного тяготения, а значит, закон единства и борьбы противоположностей здесь просто не принимается во внимание. А ведь это всеобщий диалектический закон, которому подчинены буквально все процессы во вселенной. Как-то не верится, что в природе этот закон действует без всяких исключений, а в устройстве вселенной он может не действовать.
Я думаю, что причина такого отношения к основному закону диалектики в том, что добиться соответствия данной теории этому закону можно, только если предположить помимо силы притяжения также и некую силу отталкивания. Но сила отталкивания, которой так не хватает теории Большого взрыва, может иметь только внешний по отношению к природе источник. Наука же, с ее опорой на позитивизм, существование внешнего источника не признает.
Проблема легко решится, если позитивизм удастся преодолеть. В этом случае мы должны предположить, что существует некая начальная энергия, которая действует из точки и распространяется во всех направлениях одинаково. В первый момент ее воздействия точку начинает как бы распирать изнутри, в результате чего на месте точки образуется полость. В свою очередь полость эта, как в случае с резиновым шаром, когда его накачивают воздухом, стремится сжаться, вернуться в исконное для себя состояние отсутствия. Поэтому, когда силы, раздвигающие среду, уравновешиваются силами, препятствующими раздвижению, процесс творения завершается и образуется вселенная.
Вот здесь-то и возникают две противоположные силы, которые образуют единство и находятся в состоянии борьбы. Это начальная энергия, направленная из центра вселенной к ее периферии (назовем ее расталкивающей силой), и реакция на эту энергию, направленная в сторону, ей противоположную (назовем ее силой гравитации). При этом точка, откуда исходит расталкивающая сила, одновременно является центром, куда направлена сила гравитации (назовем ее полюсом гравитации). Сама же сила гравитации зарождается в полюсе гравитации и по мере удаления от него растет, пока не уравновесит расталкивающую силу. Это граница вселенной, ее горизонт.
Здесь нам не надо предполагать существование некой сверхплотной точки, в которой вещество находится в сверхсжатом состоянии (само существование такого объекта представляется весьма сомнительным). Нам достаточно иметь обыкновенную геометрическую точку, которая не имеет размеров и оттого не содержит в себе ничего. Кроме того, данная версия легко объясняет также природу таких явлений, как излучение энергии и расширение вселенной.
Поскольку в процессе образования вселенной принимают участие две противоположно направленные силы, то под воздействием этих сил веществу сообщается движение как бы в двух противоположных направлениях. Под действием расталкивающей силы оно должно двигаться от полюса гравитации к горизонту, а под действием силы гравитации – в противоположном направлении, от горизонта к полюсу гравитации. Но, поскольку, находясь под воздействием этих сил, оно остается на орбите, движение его к указанным пределам оказывается мнимым и проявляет себя в других явлениях. Движение к полюсу гравитации проявляется в виде излучения энергии, движение к горизонту – в виде смещения спектра этого излучения.
Излучение энергии в этом случае надо рассматривать как процесс перехода массы вещества в энергию сгорания в результате его мнимого движения к полюсу гравитации. Напомню: полюс гравитации является местом, где масса вещества равна нулю. Поэтому, дрейфуя под воздействием силы гравитации к полюсу гравитации, вещество тем самым стремится в состояние своего отсутствия, по пути теряя, то есть излучая, свою массу в виде энергии сгорания.
Что же касается расширения вселенной, то, в отличие от концепции Большого взрыва, в нашей модели это расширение является мнимым, то есть представляется таковым наблюдателю с Земли, который делает свои выводы на основании эффекта Доплера. Но если исходить из того, что мнимое движение вещества под воздействием расталкивающей силы тоже должно иметь ускорение, то скорость, которой достигнет при этом вещество, будет тем большей, чем ближе к горизонту оно находится. Поскольку вещество при этом остается на своей орбите, интенсивность красного свечения будет зависеть не от скорости, с которой излучающий его объект якобы удаляется от наблюдателя, а от того, на каком расстоянии он находится от наблюдателя.
Таким образом, вселенная возникла не в результате непонятно почему взорвавшейся, неизвестно откуда взявшейся сверхплотной точки, а в результате действия вполне конкретного механизма расталкивающей силы, которая является не чем иным, как Божественной энергией, исходящей от Абсолютного начала.
Об истоках одного обряда
Присматриваясь к «высвечиванию» Библии, без труда можно заметить, что забота и страх обрезания господствует в ней над вниманием к пророкам и послушанием Моисею, над Сионом и самой целостью «12 колен»; что все это, вся 4000-летняя «река Израиля» и вытекла из маленького родничка этой странной операции.
В.В.Розанов «Нечто из седой древности»
1
Одним из самых загадочных обычаев, значения которых мы не понимаем, является обряд обрезания, заключающийся в удалении у мальчиков крайней плоти. Как известно, обычай этот был широко распространен среди многих народов древности. Еще Геродот писал, что на земле искони подвергают себя обрезанию три народа: «колхи, египтяне и эфиопы» [2.104]. Но, кроме того, обрезание практиковалось также у финикийцев, аммонитян, моавитян и других народов Востока.
Обычай этот носит сугубо религиозный характер. Согласно Библии, обрезание Аврааму, а также всем его домочадцам мужского пола заповедовал бог: «Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя [в роды их]: да будет у вас обрезан весь мужеский пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, <…> и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей [в восьмой день], истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет Мой» [Быт.17:10-14].
Здесь все сплошная загадка. Почему завет между богом и человеком должен закрепляться таким странным образом – именно через крайнюю плоть и именно через ее обрезание? Почему недостаточно, скажем, простого омовения в купели, как в христианстве? Почему эта довольно опасная операция должна совершаться сразу после рождения ребенка, когда он еще так мал и слаб? И почему обрезать крайнюю плоть для ветхозаветного бога так важно, что отказ от обрезания грозит отступнику смертью?
Известные попытки ответов на эти вопросы нельзя назвать удовлетворительными. Например, весьма распространенное убеждение, высказанное еще Филоном Александрийским, будто обрезание – это гигиеническая процедура, служащая для предотвращения инфекционных заболеваний, не подтверждается большинством специалистов. Интерпретация обрезания, как применяемого в примитивных племенах обряда инициации (посвящения в мужчины), не может быть распространена на новорожденных младенцев. А утверждение, согласно которому обрезание практикуют, потому что это религиозный обряд, не объясняет вообще ничего и само нуждается в объяснении. Не раскрывают смысл обрезания и сами иудеи, лишь констатируя, что оно является символом завета между богом и народом Израиля.
2
Однажды, читая Станислава Грофа, я натолкнулся на любопытную запись. Один из его пациентов сообщал, что в ходе трансперсональных переживаний ему открылось, будто бы обряд обрезания, широко применявшийся у древних финикийцев, египтян и евреев, как главное условие союза человека с богом, на самом деле был заменой принесения ребенка в жертву [«Путешествие в поисках себя». М., 1994, стр.99]. Это сообщение натолкнуло меня на мысль, что изначально обрезание вполне могло служить символической кастрацией, цель которой – привязка всех особей племени к тому или иному божеству.
В самом деле, логика подсказывает, что в случае кастрации, как и в случае принесения ребенка мужского пола в жертву, мужчина просто устраняется от процесса воспроизводства. Получается, что мужчины племени, путем принесения в жертву детородного органа, передают божеству свою детородную функцию. В результате божество становится мужем всех женщин племени, дети, рожденные от брака с обрезанными мужчинами, – детьми божиими, а народ – народом божиим.
Отсюда строжайший запрет для женщин племени на вступление в брак с чужеземцами. Так, в гл. 16 Иезекииля бог, обращаясь к дочери Иерусалима, называет такой брак блудом: «Ты понадеялась на красоту твою, стала блудить» [15]. «Блудила с сыновьями Египта» [26]. «С сынами Ассура» [28]. «Умножила блудодеяния твои в земле Ханаанской» [29]. «Я буду судить тебя судом прелюбодейц» [38]. «И утолю над тобой гнев Мой» [42]. Именно поэтому одновременно с обрезанием у евреев вводится левират (от лат. lever – деверь) – вид брака, когда оставшаяся по какой-либо причине без мужа женщина обязана вступать в брак с его ближайшим родственником. Тем самым исключалась возможность ее связи с выходцами из иных племен.
В то же время мужчинам племени вступление в брак с иноплеменными женщинами не запрещалось. По-видимому, считалось, что любая чужеземная женщина, вступая в брак с обрезанным мужчиной, уже тем самым становится такой же женой бога, как и все женщины племени. Так, первой женой Соломона была египтянка, женой Вооза – моавитянка Руфь, женой Исаака – халдеянка Ревека, а женой Моисея – мадианитянка Сапфора. То есть разрыв с «Богом отцов своих», а значит, и разрыв связей с племенем мог наступать у евреев только в результате брака женщин с иноплеменниками.
Таким образом, если обрезание – это символическая кастрация, целью которой является превращение народа Израиля в детей божиих, то ответить на поставленные вопросы не составит труда. Завет с богом – это, прежде всего, завет брачный, поэтому обрезание крайней плоти у мужчин является способом устранения возможных соперников. Чтобы народ Израиля был народом божиим в полном составе, необрезанных мужчин в нем быть не должно даже временно, поэтому новорожденный ребенок мужского пола должен быть обрезан сразу после рождения. А поскольку отказавшийся от обрезания отступник автоматически превращается в соперника, он подлежит истреблению именно как соперник. Возможно, этот факт и отражен в истории Авраама и Исаака: Исаак не был принесен в жертву потому, что был обрезан.
Казалось бы, все здесь ясно, и на этом в нашем исследовании можно поставить точку. Однако не все так просто. Практика показывает, что за каждым ритуальным действием, за каждым символом, сколь бы мистическим он ни казался, должна стоять какая-то вполне реальная потребность, какая-то оправданная жизненной необходимостью цель. Поэтому остается еще один вопрос. А именно – какую реальную потребность, какую цель следует видеть за этим обрядом?
3
Конечно, чтобы ответить на поставленный вопрос, здесь нам придется вступать в область предположений и трудно доказуемых гипотез. Но, думаю, я вряд ли сильно ошибусь, если предположу, что главной целью обрезания, как способа подчинения человека богу, является его подчинение исходящему от этого бога Закону.
Чтобы уяснить себе важность этой цели для человека, надо понять то положение, в котором человек оказался, отделившись от животного мира. Как известно, человек – существо биологически зависимое. То есть, как и все живое, он зависим от окружающей среды. Но все живое в своих действиях руководствуется рефлексом. Именно рефлекс позволяет представителям флоры и фауны, в условиях борьбы за существование, ориентироваться в окружающем мире. Человек же, отделившись от животного мира, рефлекс утратил, поэтому перед лицом природы он оказался глух и слеп. Иначе говоря, с одной стороны, человек, как и все живое, полностью зависим от окружающей среды, а с другой – он лишен возможности в этой среде ориентироваться.
Понятно, что в данной ситуации, чтобы выжить, у человека должно было появиться нечто, что могло заменить ему утраченный рефлекс. Этим «нечто» мог быть только опыт выживания. Но существует лишь один метод наработки опыта: это метод проб и ошибок. Ошибки же в условиях борьбы за существование означают гибель. Значит, чтобы выжить в условиях отсутствия рефлекса, человек должен создать для себя такие условия, чтобы опытом, наработанным ценой гибели одних индивидов, могли воспользоваться другие индивиды. То есть чтобы деятельность человека осуществлялась в коллективе. Таким образом, существование коллектива есть условие выживания человека как вида. Поэтому для выживания человека как вида необходимо, чтобы интересы коллектива всегда преобладали над интересами индивида.
Но у каждого человека, как и у всего живого, есть инстинкт самосохранения, который побуждает его заботиться в первую очередь о своих собственных интересах вопреки интересам коллектива. Как заставить индивида пренебречь своими интересами ради интересов коллектива? Добиться этого не просто. В книге Чисел приводится ряд эпизодов, когда в результате непослушания некоторых членов племени под угрозой оказывается миссия Моисея по выводу народа из Египта. Сначала это были жалобы на однообразную пищу (манну небесную) [11:1-2], потом упреки в адрес Моисея «за жену Ефиоплянку», которую он «взял за себя» [12:1-3], а потом и вовсе отказ от перехода в Землю обетованную [главы 13, 14]. В этой ситуации побудить людей к продолжению пути мог только некий высший авторитет, которому каждый человек подчинился бы, как самому себе, и который сумел бы возвысить его личные интересы до интересов коллектива. Таким авторитетом в первобытном коллективе мог быть только первопредок (то есть тотем), с которым у членов коллектива, как у детей со своим отцом, сохранялась бы интимная связь. Именно таким первопредком и становится у древних евреев ветхозаветный бог – муж всех женщин племени и отец всех его детей.
Как известно, своим авторитетом ветхозаветный бог подчиняет человека подробнейшему своду моральных заповедей, в которых регламентируется каждый шаг ветхозаветного общества и которые позволяют человеку уверенно чувствовать себя в любой ситуации.
Так, в книге Исход излагается десять основных заповедей, своего рода первая конституция, которая предписывает человеку правила поведения в коллективе: почитай отца и мать, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства, не желай чужого [Исх. 20.12-17]. Отступление от заповедей неизбежно влечет за собой наказание в виде болезней, неурожаев, войн, революций и всяческих бедствий на много поколений вперед. Поэтому бог предупреждает: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» [Исх.20.5-6]. А чтобы человек никогда не забывал о своих обязанностях, существует суббота: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай в них все дела твои, а седьмой – суббота Господу, Богу твоему» [Исх.20.8-10]. В остальных книгах Пятикнижия (в особенности во Второзаконии) эти заповеди постепенно развиваются в своеобразный кодекс, включающий в себя подробнейшие культовые предписания, а также гражданские и уголовные законы.
Таким образом, обрезание является не просто способом подчинения человека богу, но в первую очередь – моральному Закону, без которого он оказывается жалкой игрушкой безжалостных стихий.
О богах Ригведы
В сопроводительной статье к изданию «Ригведы» (М.1989) переводчик ее текстов Т.Я. Елизаренкова пишет: «РВ (Ригведа – Ю.С.) как собрание гимнов богам содержит прежде всего прославление богов и просьбы к ним со стороны тех, кто их прославляет» [стр. 482]. «Можно сказать без большого преувеличения, что в общем контексте почитания богов миф служит одним из атрибутов хвалебного гимна, нацеленных на умилостивление богов» [стр. 494].
Таким образом, по мнению автора статьи, характер гимна, с которым риши обращается к богам, является хвалебным, богов прославляют, чтобы умилостивить, а умилостивляют, чтобы обеспечить себе процветание: «военные победы, хорошие поля и пастбища, дожди, умножение скота и мужского потомства племени, здоровье, богатство» [стр. 493]. Напоминает отношение слуги к хозяину, которому надо всячески льстить, говорить комплименты, чтобы выпросить для себя какую-то милость. Такая интерпретация отношения риши к богам красной нитью проходит через весь текст статьи и является попыткой дать психологическое обоснование характеру гимнов. Между тем характер гимнов не только не подтверждает такую интерпретацию, но, напротив, в корне ей противоречит: боги Ригведы являются не столько личностями, сколько стихиями, и не могут требовать по отношению к себе ни почитания, ни восхваления.
В самом деле, как отмечает сама Т.Я.Елизаренкова, «понятие божества употребляется здесь несколько условно» [стр. 484]. В круг божеств Ригведы, кроме антропоморфных богов, попадают «воды (всегда во множественном числе) или реки, горы, большие деревья (vanaspati – букв. «господин леса»); из предметов ритуала – давильные камни, которыми выжимали сок сомы; жертвенная солома – бархис, которую раскладывали на месте жертвоприношения; жертвенный столб, к которому привязывали жертвенное животное и жертвенное масло» [стр. 500]. Более того, сами боги представляют скорее явления природы, нежели властвующих господ. «Агни – это прежде всего огонь в его ритуальной функции… Сома в гораздо большей степени растение и его сок, чем антропоморфный бог» [стр. 498]. Сурья – солнце, Пушан – солнечная энергия, Ушас – утренняя заря, Индра – гроза, Вайю – ветер и т.д [стр. 499].
Еще более далеки от облика господ боги, выражающие абстрактные понятия, такие как Ниррити – гибель; Манью – ярость; Вач – священная речь; Шраддха – вера [стр. 503]. Сама этимология этих имен свидетельствует о том, что они – скорее явления, нежели собственно боги. Некоторыми учеными даже «высказывалась точка зрения, что класс богов Адитьев представляет персонификацию абстрактных понятий и что во всех контекстах РВ имя Митра надо переводить как «Договор», Варуна как «Истинная речь», Арьяман как «Гостеприимство» и т.д.» [стр. 516]. Трудно представить, что древние были столь наивны, чтобы стали заниматься умилостивлением атрибутов ритуала и абстрактных понятий.
Думаю, что автора статьи (как и других исследователей Ригведы) ввело в заблуждение то обстоятельство, что основной функцией гимнов являются просьбы, с которыми адепт обращается к божеству. В их представлении, если адепт просит – значит, он чувствует свою зависимость и должен как можно больше хвалить божество, чтобы получить от него желаемую милость. Однако этот простодушный вывод – всего лишь результат переноса на психику наших предков современных социальных отношений. На самом деле отношений типа «слуга–господин» в действиях древнего ария по отношению к богам не было. Между адептом и божеством существовали деловые отношения обмена: божество выполняло указанную адептом функцию, а взамен получало жертву – обычная меновая торговля, характерная для всех до-денежных обществ.
Но, чтобы божество услышало адепта, чтобы поняло, что просьба обращена именно к нему, его необходимо назвать, то есть дать ему самую полную характеристику, включающую все его эпитеты, его атрибуты и его деяния. И вот здесь, по-видимому, и использовались древние формулы имен собственных, полученные в ходе формирования языка. Возникшие на уровне подсознания, они являлись идеальными характеристиками тех явлений, которые открывались перед человеком в процессе развертывания сознания. Вот почему в течение тысячелетий текст Ригведы, передаваясь от отца к сыну устно, тем не менее сохранялся в полной, не имеющей вариантов неприкосновенности. В этом же причина чрезвычайной архаичности текста, где «сохранились древние корневые основы, которые функционируют как имя или как глагол в зависимости от того, с каким типом флексии они соединяются» [стр. 509].
По-видимому, форма гимна складывалась постепенно: вначале, в процессе становления языка, как результат наделения каждого божества именем собственным (и для этого выстраивание всех его связей с другими персонажами), а затем, с возникновением мировоззрения, в виде ритуала. Отсюда и структура гимна, состоящего из двух частей, одна из которых является характеристикой божества, а другая – обращенной к нему просьбой. Как пишет Т.Я. Елизаренкова, «модель «среднего гимна» состоит из двух частей: апеллятивной и экспликативной. Апеллятивная часть содержит просьбы адепта к данному божеству» [стр. 484]. «Экспликативная включает в себя следующие уровни: 1) уровень действий, совершаемых данным мифологическим персонажем; 2) уровень атрибутов, или соотносимых с ним признаков; 3) уровень эпитетов; 4) уровень связей с другими мифологическими персонажами» [стр. 485]. Все эти уровни в совокупности и являются единым именем собственным того или иного явления, которое сложилось в древности в процессе формирования языка.
Но, если действительно авторы гимнов воспринимали богов Ригведы в качестве стихий и не питали иллюзий относительно их функций, зачем нужно было устанавливать с ними это взаимоотношение обмена? Зачем эта меновая торговля, если все, что должно происходить, происходило бы и так? Я думаю, в этом проявляется потребность человека в поиске им своего пути. Дело в том, что став независимым от природной среды, человек утратил рефлекс, позволяющий животным безошибочно реагировать на внешние угрозы. Поэтому неизбежно должен был возникнуть фактор, заменяющий рефлекс и компенсирующий возможность совершения ошибки. Мифология как раз и является таким фактором. Она возникает в виде первой в истории человечества модели мироздания, позволяющей рассматривать вселенную как строго закономерную систему, где каждое явление имеет свою причину и смысл. Такие мифологии были у всех народов древности, не является исключением из этого правила и Ригведа.
Нельзя не согласиться с Т.Я. Елизаренковой, что «мифы о том, как Индра убил Вритру, сковавшего течение рек, – это описание действий демиурга, победившего силы хаоса и инертности и создавшего организованный космос. Бог, пробивший скалу, где были замкнуты коровы, символизирующие утренние зори, свет и солнце, также рассматривается большинством ученых как творец, создающий из хаоса и инертности организованный космос. Бог Вишну, меряющий пространство тремя шагами, упорядочивает вселенную, создавая ее» [стр. 496] и т. д. Но именно поэтому подчинение каждого мгновения жизни, основанному на мифе ритуалу, как раз и дает человеку ощущение включенности в этот космический миропорядок, а значит, предсказуемость его жизни в той степени, в какой предсказуемы смена дня и ночи. Как сказано в одном из гимнов, «Придерживающийся космического закона от космического закона и получает» [«Ригведа» IV, 23. 10].
Тайны древних текстов
В одной очень древней ирландской саге, которая называется «Похищение быка из Куальнге», есть любопытный эпизод, в котором рассказывается, как «герой и воитель, защитник в сражении всех смертных, Кухулин, сын Суалтайма» накануне великой битвы при Гайрех и Илгайрех «облачается в боевые одежды для схватки сражения и боя». Эпизод заслуживает быть процитированным во всех подробностях.
Вначале описание не выходит за рамки обычного сказочного сюжета: знаменитый герой надевает панцирь, изготовленный из шкур семи годовалых быков, берет в руки меч светлоокий, – словом, делает все, что и положено достославному воину. Но потом происходит нечто невероятное, чего в других сказках уже не встретишь. Кухулин искажается и становится непохожим на самого себя. Вот как это происходит.
«Вздрогнули бедра его, словно тростник на течении, или дерево в потоке, задрожало нутро его, каждый сустав, каждый член… Лицо его обратилось в красную вмятину. Внутрь втянул он один глаз, да так, что и дикому журавлю не изловчиться бы вытащить его из черепа на щеку. Выпал наружу другой глаз, а рот дико искривился. От челюсти оттянул он щеку, и за ней показалась глотка, в которой до самого рта перекатывались легкие и печень Кухулина. Верхним небом нанес он львиный удар по нижнему, и каждый поток огненно-красных хлопьев, хлынувший из горла в рот, в ширину был не менее шкуры трехлетней овцы. Громовые удары сердца о ребра можно было принять за рычание пса или грозного льва, что напал на медведя. Факелы богинь войны, ядовитые тучи и огненные искры виднелись в воздухе и в облаках над его головой да дикое кипение грозного гнева, поднимавшееся над Кухулином. Клич боевой стоголосый раздался у него из-под шлема и отразился протяжно в каждом углу и изгибе. То разом вскричали демоны и оборотни, духи земли и воздуха, кто, куда бы ни шел Кухулин, витали вокруг него и над ним, предвещая кровавую гибель героев».