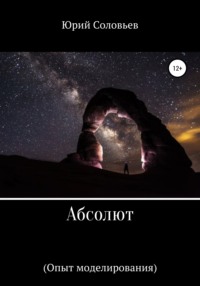полная версия
полная версияВ поисках смысла. Сборник статей
В функции экклесии входило избрание должностных лиц государства, включая архонтов, а также разбор жалоб тех граждан, которые оказывались недовольны судебными решениями властей. С другой стороны, бушующие страсти Народного Собрания уравновешивал Ареопаг, который пользовался большим доверием и авторитетом, поскольку избирался из числа самых благородных и безупречных граждан. Ареопаг следил за соблюдением традиций, ведал уголовным судом и осуществлял надзор за нравственностью и религией.
Таким образом, власть в Афинах оказалась разделена между аристократическим Ареопагом и народной экклесией. Солон называл их двумя якорями, обеспечивающими устойчивость государства. Однако силы выравнивания продолжали действовать, и постепенно демократия начала перерождаться в охлократию (власть толпы).
Все началось с введения так называемого «суда черепков» или остракизма (от ostrakon – черепок). В 510 году до н.э., по предложению законодателя Клисфена, Народному Собранию было предоставлено право без суда и следствия удалять в изгнание любого, кто подозревался в покушении на тиранию, то есть на единоличную власть. Для этого достаточно было написать на черепках имя ненавистного политика и если количество черепков достигало шести тысяч, политик вынужден был на 10 лет отправиться в изгнание. Хотя закон был задуман как средство против тирании, на деле он использовался завистниками для сведения счетов с наиболее выдающимися гражданами государства – знаменитыми полководцами, политическими деятелями – словом, со всем, что возвышалось над общей серой массой.
В короткое время были отправлены в ссылки создатель афинского флота и победитель персов в битве при Соломине Фемистокл; прозванный Справедливым за чрезвычайную честность Аристид; адмирал союзного флота Кимон. А победитель персов в битве при Марафоне Мельтиад и вовсе окончил свои дни в тюрьме. По свидетельству римского историка Корнелия Непота, афинянам казалось, что человек, бывший столь знаменитым полководцем, не сможет довольствоваться участью простого смертного. Поэтому «народ решил, что лучше Мельтиаду понести незаслуженную кару, чем афинянам жить в страхе».
Следующий шаг на пути к обществу равных был сделан в 462 году до н. э., когда соратник Перикла Эфиальт уничтожил важнейшие контрольные и судебные полномочия Ареопага. Это решение полностью изменило картину нравов в древних Афинах. Некому, с тех пор, стало сдерживать бушующие в Народном Собрании страсти, рухнули моральные запреты, перестали соблюдаться традиции отцов. А когда в 457 году до н.э., по инициативе Перикла, была введена практика покупки должностей, во власть стали приходить люди больше думающие о собственном благополучии, нежели о благе государства.
Все это не могло не сказаться на внешней политике Афин. Созданный еще в 477 году до н.э. для борьбы с Персией Афинский морской Союз, включавший в себя около 250 независимых государств, стал подвергаться со стороны Афин подлинному грабежу. Недавние соратники превращались в подданных, попытки выхода из Союза жестоко карались, а общая казна, находившаяся на Делосе, была перенесена в Афины и из нее черпались средства на украшение города, оплату должностей и другие нужды. Аппетиты росли, алчность зашкаливала.
В 431 году до н. э., между возглавляемыми Спартой восставшими государствами бывшего морского союза и Афинами разразилась Пелопонесская война, которая продолжалась 27 лет и привела Афины к полному поражению. Государство лишилось флота, его крепостные стены были срыты, а вместо власти народа, воцарилась олигархическая диктатура, пришедшая к власти силой спартанского оружия. Причиной поражения, на мой взгляд, стала систематическая травля бездарностями ярких личностей и талантливых полководцев. То есть, выравнивание афинского общества до уровня общей серой массы.
Показателен, в этом смысле, один из заключительных эпизодов Пелопонесской войны, когда восемь афинских стратегов, в августе 406 года до н.э., в морском бою близ Аргинусских островов, одержали решительную победу над пелопонесским флотом. Эта блестящая победа вызвала у их политических противников такую зависть, что вернувшись в Афины, все они были тут же казнены: подстрекаемая демагогами толпа приговорила их к смертной казни за то, что, ввиду разыгравшегося шторма, они не смогли подобрать тела погибших моряков.
А ровно через год, пришедшие на их место те же бездарные интриганы, по чистой халатности оставив стоявший на Геллеспонте флот без присмотра, сделали его легкой добычей спартанского стратега Лисандра. В результате, более 200 триер, все, что оставалось у Афин, без боя перешло в руки пелопонесцев. Через полгода после этой катастрофы, война была закончена. Осажденным с моря Афинам не осталось ничего иного, как только сдаться на милость победителей.
Так, на протяжении 200 лет Афины прошли путь от олигархии к демократии и от демократии к охлократии. Причина падения афинской демократии – приход к власти безнравственной черни, господство в обществе низменных инстинктов. Поскольку силы выравнивания – есть силы энтропийные, постепенно происходит снижение качества человеческого материала, преобладание в обществе людей лишенных высоких моральных качеств и нацеленных на личное обогащение. В результате система лишается энергии и приходит к хаосу.
Причем, процесс этот универсален во все времена, в чем можно легко убедиться, если сравнить то, что происходило в Афинах VII-V веков до н.э. с теми процессами, которые мы наблюдаем сейчас, в странах Западной Европы и США. Как мы уже отмечали, так называемый «мировой финансовый кризис» – есть прямое следствие политики лжи, лицемерия и двойных стандартов, ставших обыденным явлением в странах Запада. Стремление к мировому господству, воздействие на худшие человеческие инстинкты и организация кровавых переворотов по всему миру, демонстрирует нам те же стимулы, что и в античности. Чем все это закончится для США и Европы видно уже сейчас на примере Украины, где качества свойственные черни достигли своего максимума. Это разруха, гражданская война и распад государства.
3
В отличие от Афин, где общество равных возможностей формировалось в процессе движения от иерархии к равенству, Спарта была обществом равного потребления с самого начала своего возникновения.
Государство Спарта возникло около 1050 года до н.э. на территории полуострова Пелопоннес, в результате завоевания его дорийскими племенами. Покорив местных жителей, спартанцы сделали их илотами (крепостными), а сами образовали сословие господ. Поскольку удержать население можно было только силой, спартанская община с самого начала представляла собой военизированную организацию, где каждый мужчина с детства воспитывался как воин.
Вся жизнь спартанского мужчины проходила в тренировках, занятиях охотой и войнах, что не могло не сказаться на моральных устоях спартанского общества. Считалось, например, что спартанец не может отступить с поля боя. Спартанские женщины, отправляя своих сыновей в бой, напутствовали их возвращаться «либо со щитом, либо на щите», что означало либо победить, либо умереть. В тех редких случаях, когда спартанец возвращался после поражения живым, он был обречен до конца своих дней жить в поношении и позоре. Весь образ жизни в Спарте был таков, что здесь не было места ни лжецу, ни стяжателю, ни трусу. Честь для спартанца была дороже жизни.
Спартанцы не зря именовали себя «общиной равных». Каждая спартанская семья жила исключительно со своего имения, которое обрабатывалось илотами. Причем земля была раз и навсегда поделена между гражданами на совершенно равные участки. Илоты обязаны были отдавать в виде арендной платы только часть своих доходов. Поэтому достатки спартанской семьи были весьма скромными. Это были достатки помещиков, живущих со всего домашнего. Все спартанцы носили домотканую одежду, пользовались одинаковой утварью, жили в деревянных домах и питались одинаковой пищей. И хоть, по сравнению, скажем, с жителями Афин, это была бедность, но это была аристократическая бедность касты благородных и властных.
Все это достигалось благодаря жесточайшим ограничениям, в условиях которых жили спартанцы. Так, из государства практически полностью были изгнаны деньги, поскольку золото и серебро находилось под строгим запретом, а железные деньги изготавливались только для внутреннего пользования. Категорически запрещалось без разрешения пересекать границу государства. Даже иноземцы допускались в Спарту только в исключительных и редких случаях. А то, что существовало за пределами Истмийского перешейка, представляло для спартанского воина непроницаемую тайну. При этом, как пишет Плутарх, «никому не разрешалось жить так, как он хочет: точно в военном лагере, все в городе подчинялись строго установленным порядкам и делали то из полезных для государства дел, какое им было назначено» [Ликург, XXIV]. Спартанцы «подобно пчелам, находились в нерасторжимой связи с обществом, все были тесно сплочены вокруг своего руководителя и целиком принадлежали обществу, почти что вовсе забывая о себе в порыве воодушевления и любви к славе» [там же, XXV].
Между тем, как показала практика, государство, в основу которого положен принцип равного потребления, может существовать только в условиях строгой замкнутости, закрытости общества. Поэтому, когда во время греко-персидских войн спартанцы вынуждены были участвовать в освобождении островных и азиатских греков, ситуация начала резко меняться. Вот здесь-то перед ними и открылся мир, со всеми своими прелестями и соблазнами. Именно начиная с этого момента, разложение спартанского общества стало неизбежным.
Так, знаменитый Павсаний, победитель персов в битве при Платеях, позарившись на персидскую роскошь, предал свой народ и свою родину. Победитель персов при Микале Леотихид, принял от противника взятку и позорно бежал, пойманный на месте преступления. Жажда стяжательства охватила и рядовых спартанцев, которые быстро приобретали славу грабителей и воров. Так, согласно Плутарху, при Лисандре были осуждены за воровство Гилипп и Торак. И даже спартанские власти стали принимать в государственную казну иноземные деньги, что было строжайше запрещено спартанскими законами.
Крах спартанской государственности наступил при спартанском царе Агесилае. В самом начале своего долгого правления, продолжавшегося 41 год, он предпринял поход в Персию, который обставлялся, как акт возмездия в ответ на вторжение Персии в Грецию. На самом же деле это был уже чисто грабительский набег, успех которого исчислялся количеством полученной добычи. Два года Агесилай беспрепятственно разорял Фригию, захватывая золото и рабов. А ограбив персов, он переключился и на греков, своих недавних союзников, захватывая города и навязывая им свою волю. Так, были разрушены стены Мантинеи, насажден олигархический строй в Флиунте, разрушен союз Халкидских городов, распущен Беотийский союз, оккупированы Фивы и другие города Беотии. Та же алчность, те же непомерные аппетиты.
Насилие порождало насилие. В 379 году до н.э. против гегемонии Спарты восстали Фивы и возрожденный Фивами Беотийский союз, а в 371 году до н.э. спартанская армия потерпела сокрушительное поражение при беотийских Левктрах. Гегемония Спарты рухнула и возглавляемый Спартой Пелопонесский союз распался. С тех пор Спарта навсегда утратила статус ведущего государства греческого мира.
Причина падения Спарты очевидна: это искусственное сдерживание стремления к обогащению, то есть к установлению в обществе иерархии. Поэтому при первом же ослаблении сдерживающих сил происходит измена тем жизненными приоритетам и ценностям, которые лежали в основе спартанской государственности. Аналогичный процесс мы наблюдали при крушении Советского Союза, когда соблазн красивой жизни до такой степени охватил общество, что все прежние ценности были забыты, и их место тут же заполнила жажда наживы.
4
Итак, на примере Афин и Спарты мы наблюдаем два основных вида энергии, которая движет развитием общества: это энергия стремления к установлению иерархии и противоположная ей энергия стремления к выравниванию. Энергия стремления к установлению иерархии создает в обществе энергетический потенциал, энергия стремления к выравниванию этот потенциал расходует. Но если в обществе преобладает тенденция к установлению иерархии, возникает неравенство, порождающее чувство несправедливости. Чувство несправедливости, в свою очередь, порождает стремление к выравниванию, а выравнивание приводит к состоянию отсутствия энергии и хаосу. Таким образом, чтобы общество обладало энергией для своего развития, иерархия необходима. Но общество должно быть еще и устойчивым. Поэтому, чтобы в иерархическом обществе не возникало стремления к его выравниванию, общество должно быть еще и справедливым. А для этого нужно, чтобы энергия общества была направлена не вниз, на установление равновесия и отсутствие энергии, а вверх, к увеличению общей энергетики системы. Добиться этого можно только в том случае, если участие в иерархии будет доступно для всех членов общества.
С этой точки зрения, лучшей формой правления является именно монархия. Монархия – это тоже не застывшая форма, и она способна видоизменяться. Но в отличие от социализма и демократии, которые видоизменяются в сторону деградации, монархия способна изменяться в сторону совершенствования. Яркий пример – монархия российская. В ней содержался колоссальный творческий потенциал, реализовать который помешал только переворот 1917 года.
Если сравнивать форму монархии времен первых Романовых и накануне переворота 1917 года, то это две совершенно разные монархии. Дело в том, что интенсивное строительство российской государственности, начавшееся при Петре I, потребовало прихода в правящий слой новых, инициативных и талантливых людей. Начался процесс вовлечения в управление государством всего общества. Необходимостью в кадрах была вызвана и отмена крепостного права. Дворянство стали получать люди не по наследству, а по заслугам перед государством. Результатом этого процесса стал невиданный рост культурных достижений, как в литературе, музыке, живописи, так и в промышленности и науке. За какой-то век Россия прошла путь, на который Европе потребовалась тысяча лет. Поэтому дворянство в России в корне отличалось от дворянства на Западе. Если в Европе это были потомки богатых феодальных родов, то в России дворянство всегда было служилым. То есть, тенденция развития общества была направлена не на выравнивание, а, напротив, на постоянный рост общей энергетики, через вовлечение в управление государством наиболее талантливых людей.
При этом именно царь являлся тем моральным ориентиром, на который равнялось все общество. Лишенный необходимости заботиться о личном благосостоянии, он жил интересами государства и в них только видел цель своей жизни. В свою очередь, высокий нравственный авторитет царской власти позволял задать в обществе те нравственные ценности и приоритеты, которые необходимы для воспитания в людях лучших человеческих качеств. В результате появлялось сословие людей, способных дать государству мощный заряд творческой энергии, который никогда не будет израсходован. Дореволюционная Россия и есть общество равных возможностей в лучшем смысле слова.
В заключение хочу привести высказывание о российском дворянстве Федора Михайловича Достоевского: «Слово «честь» – значит долг, – говорит Версилов в романе «Подросток», и это несомненно мысль самого Достоевского. – Когда в государстве господствует главенствующее сословие, тогда крепка земля. Главенствующее сословие всегда имеет свою честь и исповедание чести… По всем опытам, везде доселе (в Европе то есть) при уравнениях прав происходило понижение чувства чести, а стало быть, и долга. Эгоизм заменял собою прежнюю скрепляющую идею, и все распадалось на свободу лиц. Освобожденные, оставаясь без скрепляющей мысли, до того теряли под конец всякую высшую связь, что даже полученную свободу свою переставали отстаивать. Но русский тип дворянства никогда не походил на европейский. Наше дворянство и теперь, потеряв права, могло бы остаться высшим сословием, в виде хранителя чести, света, науки и высшей идеи и, что главное, не замыкаясь уже в отдельную касту, что было бы смертью идеи. Напротив, ворота в сословие отворены у нас слишком издавна; теперь же пришло время их отворить окончательно. Пусть всякий подвиг чести, науки и доблести даст у нас право всякому примкнуть к верхнему разряду людей. Таким образом сословие само собою обращается лишь в собрание лучших людей, в смысле буквальном и истинном, а не в прежнем смысле привилегированной касты».
Техника и конец цивилизации
1
Примерно в середине 80-х годов прошлого века в западной научной литературе появился новый термин – функциональная неграмотность. Его появление было связано с ситуацией, в соответствии с которой множество людей в самых передовых и образованных странах мира, будучи формально грамотными, то есть умея читать и писать, тем не менее, не понимали смысла прочитанного текста.
Причем, если в 1985 году, согласно докладу Национальной комиссии США «Нация в опасности», количество функционально неграмотных, не способных справиться с простейшими задачами ежедневного чтения, письма и счета, было зафиксировано на уровне 13% от всех 17-летних граждан Америки, то в 2003 году доля таких граждан достигла 43%. Аналогичная ситуация наблюдалась и в странах Европы. В Германии, например, по данным сенатора по вопросам образования Сандры Шеерес, функционально неграмотными можно считать 14 % взрослого населения, а в Британии почти половина учащихся бросают школу, не достигнув базового уровня образования. Не лучше обстоит дело и у нас, в России. Опрос за 2003 год показал, что достаточными навыками чтения обладают лишь 36 % школьников. Из них 25 % способны выполнять задания только средней сложности. А высокий уровень грамотности способны показать всего 2% учащихся.
Функциональная неграмотность доставляет человеку массу неприятностей. Даже на бытовом уровне функционально неграмотный сталкивается с серьезными проблемами. Так, он не может понять смысл инструкции по пользованию бытовыми электроприборами или по применению того или иного лекарства. Для него является неразрешимой проблемой оплата счетов, заполнение налоговой декларации, банковских документов, почтовых переводов, он плохо справляется со своими профессиональными обязанностями. По мнению специалистов, функциональная неграмотность является одной из главных причин безработицы, аварий, несчастных случаев и травм, как на производстве, так и в быту.
Истоки функциональной неграмотности – в отсутствии интереса к чтению. Причем, надо сказать, что впервые феномен функциональной неграмотности начал проявляться в 60-70 годы, то есть в момент появления и массового распространения телевидения: неожиданно у людей начало пропадать желание читать книги. Особенно это было заметно на детях. Для ребенка, исходящая от книги информация, всегда воспринималась, как развлечение. Но в какой-то момент более привлекательной для него оказалась информация, исходящая не от книги, а от машины.
Причина такого предпочтения – легкость восприятия. Когда ребенок читает книгу, его глаза видят только буквы. Поэтому, чтобы понимать прочитанное, ему нужно за буквами увидеть образ. То есть мозгу приходится включать воображение и производить работу по переводу текстовой информации в образную. Напротив, информация, исходящая от телевизора, содержит образ в готовом виде и потому включения воображения не требует. Иначе говоря, в первом случае, кроме зрения, активен еще и мозг, во втором мозг пассивен, работает только зрение.
Так, телевидение стало первым источником информации, не требовавшим усилий по восприятию и критическому осмыслению. Еще интереснее для ребенка стало общение с компьютером. Вместо скучного пережевывания текста, здесь можно было мгновенно переключаться с одного источника информации на другой: с гороскопов на новостную хронику, с хроники на собрание анекдотов, с анекдотов на видеоролики. При этом быстрая смена кадров не позволяла заскучать, оторваться. Не надо ничего читать, можно просто разглядывать картинки, общаться в сетях или играть в компьютерные игры. Вся работа с текстами сводится к небольшим сообщениям, участию в форумах или ведению дневников.
В результате такого способа восприятия возникает еще одно новое явление, для обозначения которого потребовалось прибегнуть очередному термину. Это так называемое «клиповое сознание», суть которого заключается в том, что вся хранящаяся в памяти информация представляет собой случайный набор разрозненных кадров, картинок, отдельных фактов, между которыми нет никакой связи, а значит, нет и возможности их обработать, объединить, сделать умозаключения. Другими словами, мозг человека освобождается от необходимости мыслить логически, заниматься анализом фактов, приводить их в систему.
Таким образом, если телевидение фактически отключает образное мышление человека, то есть правое полушарие мозга, то компьютер отключает логическое мышление, за которое отвечает левое полушарие. И если при чтении книги требуется согласованная работа обоих полушарий, создающих череду образов и устанавливающих между ними связи, то цифровая техника позволяет обойтись вообще без работы мозга. В итоге происходит вытеснение интеллекта человека интеллектом машины, и интеллект человека перестает быть востребованным.
А все, что не востребовано, неизбежно деградирует. В 2011 году журнал «Science» опубликовал результаты исследования, из которого выяснилось, что студенты, имеющие постоянный доступ к компьютеру, запоминают гораздо меньший объем информации по сравнению со студентами докомпьютерной эры. В другом исследовании говорится, что дети от года до трех, проводящие перед телевизором больше нескольких часов в день, утрачивали часть мыслительных функций. Появился даже термин «цифровое слабоумие», характеризующее изменения в поведении, психике и в мозге человека, связанные с влиянием гаджетов и интернета. В своем крайнем проявлении симптомы цифрового слабоумия схожи с симптомами черепно-мозговой травмы. При этом считается, что причиной, лежащей в основе цифрового слабоумия, является интернет-зависимость. Как следует из годового отчета комиссии Федерального правительства Германии по борьбе с наркотиками и другими видами зависимости, около 250 тысяч молодых людей от 14 до 24 лет признаны интернет-зависимыми, а еще 1,4 миллиона пользователей интернета – проблемными.
2
Интеллект человека на протяжении тысячелетий формировался исключительно благодаря книге. Будучи существом смертным, человек ограничен границами собственной жизни и не может накапливать опыт предыдущих поколений. Но изобретение книги, этого аналога вечности, позволило ему преодолеть ограниченность во времени. Он как будто стал существом бессмертным и получил возможность познавать все, что происходило с сотворения мира. Знания его росли, он становился мудрее, а мозг, активно работая при восприятии все более сложных текстов, постоянно совершенствовался. Поэтому нет преувеличения в утверждении, что цивилизацию, состоящую из высших достижений человеческого гения, создала книга, а человека культурного создало чтение книги.
Однако прекращение чтения неизбежно вернет человека в состояние дикости. То, что сознание нечитающего человека чрезвычайно бедно впечатлениями, что оно замкнуто в узком мирке ежедневных бытовых проблем и не способно заглянуть за горизонт обыденного, это еще самое меньшее из зол. В конце концов, такой человек не осознает своей ущербности и не чувствует себя ущемленным. Хуже другое. Знание, понимаемое как система взаимосвязанных понятий, заменяется информацией, которая представляет собой совокупность случайных разрозненных фактов. В результате нечитающий человек не знает истории, с трудом ориентируется в географии, не понимает смысла социальных установлений. Но, не понимая их смысла, он считает, что установления эти просто не нужны, особенно, если они чем-то ему мешают. То есть происходит разрушение нравственной основы общества. Люди перестают понимать, что есть добро и что зло. Для них добром становится то, что доставляет удовольствие, а злом – что мешает этому. Социальные скрепы рушатся, общество превращается в стадо, движимое физиологическими потребностями.
В итоге человек превращается в некую особь, не умеющую ни читать, ни писать, и не понимающую смысла происходящих в обществе событий. Причем, существование высокой науки вовсе не противоречит сказанному. Будучи крупным специалистом в узкой области, нечитающий человек остается невежественным во всем остальном. А поскольку наука, заточенная на создание технологий, проникает в такие сферы, где действуют укрощенные Творцом силы хаоса, вторжение в эти сферы безнравственного субъекта может поставить на грань катастрофы целый мир. То есть в мире телевизоров, компьютеров и смартфонов вырастают не продвинутые компьютерные дети, а недоразвитые дебилы.