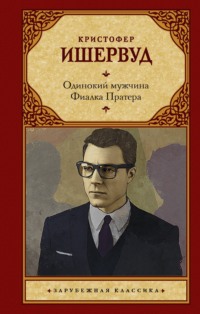Полная версия
Труды и дни мистера Норриса. Прощай, Берлин

Кристофер Ишервуд
Труды и дни мистера Норриса. Прощай, Берлин
Christopher Isherwood
MR. NORRIS CHANGES TRAINS
GOODBYE TO BERLIN
© Christopher Isherwood, 1935, 1939
© Перевод. А.В. Курт, 2019
© Перевод. В.Ю. Михайлин, 2019
© Издание на русском языке AST Publishers, 2020
Труды и дни мистера Норриса[1]
Посвящается У. X. Одену
Глава первая
Мне с самого начала показалось, что глаза у него необычайного светло-голубого оттенка. На несколько ничего не значащих секунд они встретились с моими, пустые и с явственной ноткой страха. Это странное сочетание тревоги, невинности и порока всколыхнуло во мне смутное воспоминание о каком-то нелепом происшествии, совершенно вылетевшем у меня из памяти; кажется, я был тогда в четвертом старшем[2] и дело было в классной комнате. Это были глаза школьника, которого поймали с поличным на мелкой шкоде. Хотя, насколько я мог судить, ни на чем таком я его не поймал, вот разве что он думал в этот момент о чем-то неподобающем; может быть, ему показалось, что я умею читать мысли. Во всяком случае, он, кажется, не видел и не слышал, как я потянулся к нему через все купе – из своего угла в его собственный, – потому что при звуке моего голоса он вздрогнул, да так резко, что эта его нервическая реакция ударила меня, как отдача охотничьего ружья. И я инстинктивно отшатнулся.
Впечатление было точь-в-точь такое, как если бы мы столкнулись на улице лбами. Мы оба смутились, готовые рассыпаться во взаимных извинениях. Я улыбнулся, изо всех сил пытаясь его успокоить, и повторил свой вопрос:
– Прошу прощения, сэр, у вас не найдется спички?
Но даже и теперь он не ответил сразу. Казалось, он что-то наскоро прикидывает в уме, а тем временем его нервно подрагивающие пальцы вцепились в жилет и разыграли целый каскад неуверенных, суетливых жестов. Исходя из общего смысла этой пантомимы, можно было с равной степенью вероятности предположить, что он вот-вот разденется, или достанет револьвер, или же просто решил проверить, не украл ли я у него бумажник. Затем краткий приступ ажитации прошел, и взгляд стал ясным: так исчезает мимолетное облачко, оставив за собой чистое голубое небо. До него наконец дошло, чего я, собственно, от него хочу:
– Ах да. Э – конечно. Разумеется.
Он осторожно дотронулся кончиками пальцев до левого виска, кашлянул и вдруг – улыбнулся. Улыбка у него была совершенно очаровательная.
– Само собой, – повторил он. – С превеликим удовольствием.
Изящным движением двумя пальцами он порылся в жилетном кармашке дорогого на вид костюма из мягкой серой ткани и выудил золотую зажигалку. Руки у него были белые, маленькие и очень ухоженные.
Я предложил ему сигарету.
– Э – благодарю вас. Премного благодарен.
– Сначала вы, сэр.
– Нет-нет. Прошу вас.
Крошечный огонек зажигалки задрожал между нами, мимолетный, как воцарившаяся в купе душноватая атмосфера, результат нашей чрезмерной вежливости. Единственный неловкий жест, единственный выдох – и огонек погаснет; одно неосторожное слово – и атмосфера исчезнет без следа. Сигареты задымились, обе. Мы оба откинулись на спинки сидений, каждый на своем месте. Незнакомец по-прежнему не слишком-то спешил мне доверять: кто знает, не зашел ли он слишком далеко, не окажусь ли я на поверку занудой, а то и просто жуликом. Робкая его душа в любой момент была готова скрыться. А я, в свою очередь, ничего не взял почитать. И провидел впереди семь или восемь часов глухого молчания. Я решительно настроился на беседу:
– Вы не знаете, в котором часу мы будем на границе?
Позже, вспоминая об этом разговоре, я никак не мог понять, что в этом вопросе было такого необычного. Да меня и в самом деле совершенно не интересовал ответ; я всего лишь хотел спросить о чем-нибудь, с чего можно начать разговор и в чем нельзя было бы при этом заподозрить ни дерзости, ни излишнего любопытства. Однако действие на незнакомца мой вопрос произвел прелюбопытнейшее. Мне определенно удалось разжечь в нем интерес к своей персоне. Он окинул меня долгим подозрительным взглядом, и черты его лица едва заметно затвердели. Это был взгляд игрока в покер, которому внезапно приходит в голову, что у противника на руках флеш-рояль и что теперь вести себя придется крайне осторожно. Наконец он ответил, медленно и тщательно подбирая слова:
– Боюсь, что точно вам сказать не смогу. Но, должно быть, где-нибудь через час.
Его взгляд, на секунду потерявший былую напряженность, опять потемнел. Его явно мучила какая-то крайне неприятная мысль, и он даже чуть-чуть отдернул голову, как от назойливой осы. А потом вдруг добавил с неожиданно прорезавшейся сварливой интонацией:
– Эти мне границы… такое ужасное неудобство.
Я был не совсем уверен, как мне следует на это реагировать. У меня промелькнула мысль: а что, если он состоит членом какой-нибудь умеренной интернационалистической организации, вроде Союза Лиги Наций. Я решил рискнуть:
– Давно пора от них избавиться.
– Совершенно с вами согласен. Давно пора.
В искренности его реакции сомневаться не приходилось. У него был крупный, туповатый и мясистый нос и подбородок, который, казалось, привычно съехал на сторону – как сломанная гармоника-концертина. Когда он начинал говорить, подбородок выписывал самые немыслимые фигуры, а на щеке возникала глубокая, сложной конфигурации ямочка, похожая на шрам. В сравнении с румяными щеками лоб был мраморно-белым, как у античной статуи; на лбу лежала замысловато выстриженная темно-русая с проседью челка: тяжелая, компактная и плотная. Приглядевшись повнимательней, я с немалым интересом обнаружил, что он носит парик.
– А в особенности, – я поспешил развить успех, – ото всех этих бюрократических формальностей: проверки паспортов и тому подобного.
Стоп. Все назад. По выражению его лица я сразу понял, что затронул какую-то новую, весьма тревожную ноту. Мы говорили на схожих, но по сути разных языках. Впрочем, на сей раз в реакции незнакомца элемент недоверия отсутствовал совершенно. С обезоруживающей миной неприкрытой, искренней заинтересованности он спросил:
– А у вас когда-нибудь бывали с этим сложности?
Странным мне показался не столько сам вопрос, сколько та интонация, с которой он был задан. Дабы не выказать удивления, я улыбнулся:
– Да нет конечно. Наоборот. Они ведь чаще всего даже не дают себе труда открыть багаж; что же до паспорта, они туда вообще едва заглядывают.
– Везет же некоторым.
Все, что я подумал по этому поводу, должно быть, достаточно ясно отразилось на моем лице, и он спешно добавил:
– Я знаю, оно, конечно, нелепо с моей стороны, но я совершенно не переношу, когда меня принимаются теребить, поднимать с места – обыскивать…
– Что ж тут такого? Прекрасно вас понимаю.
Я улыбнулся еще раз, мне показалось, я понял, что к чему. Старичок всего лишь навсего – невиннейшим образом – пытался провезти какую-нибудь копеечную контрабанду. Отрез шелка жене или другу – коробочку сигар. А теперь, естественно, перепугался. На вид он был достаточно состоятельным человеком, чтобы заплатить любую пошлину за что угодно. Впрочем, у богатых свои причуды.
– Так значит, вы в первый раз едете через эту границу? – спросил я тоном добродушным и покровительственным. Я не дам ему упасть духом, а если дело примет нежелательный оборот, подскажу какую-нибудь подходящую к случаю ложь, способную смягчить сердце таможенника.
– Нет, в последние годы – нет. Обычно я езжу через бельгийскую границу. В силу ряда причин. Н-да.
Выражение лица у него снова сделалось несколько отсутствующим, он помолчал и с мрачным видом поскреб подбородок. Потом внезапно что-то заставило его вспомнить о моем присутствии:
– У меня такое впечатление, что на данной стадии нашего с вами знакомства мне следует представиться. Артур Норрис, джентльмен. Или удобнее будет сказать: человек со средствами? – Он нервически хихикнул, но тут же испугался и вскинулся. – Нет-нет, я вас умоляю, не нужно вставать!
Но мы сидели слишком далеко друг от друга, чтобы обменяться рукопожатием, не поднимаясь с места. Компромиссным решением стал обмен полупоклонами сидя, от пояса.
– Меня зовут Уильям Брэдшоу, – сказал я.
– Боже правый, а вы по случайности не из саффолкских Брэдшоу?
– В общем, да. До войны мы жили неподалеку от Ипсуича.
– Да что вы говорите? В самом деле? Одно время я частенько наезжал к миссис Хоуп-Лукас. У нее было славное такое имение возле Мэтлока. А до замужества она была Брэдшоу.
– Да, совершенно верно. Это моя прабабушка Агнес. Она умерла лет семь назад.
– Правда? Боже мой. Какая жалость… Конечно, мы с ней приятельствовали, когда я был еще совсем молодым человеком; а она была, скажем так, дамой средних лет. В общем, речь идет о девяносто восьмом годе.
Тем временем я потихоньку разглядывал его парик. Мне еще ни разу не доводилось видеть такой тонкой работы. На затылке, где он постепенно переходил в собственные волосы мистера Норриса, разглядеть границу было совершенно невозможно. Вот разве что пробор сразу бросался в глаза, но даже и он, на расстоянии трех-четырех ярдов, вполне прошел бы не слишком строгую призывную комиссию.
– Н-да, ничего не скажешь, – вздохнул мистер Норрис. – Боже мой, до чего тесен мир.
– С матушкой моей вы, конечно, не знакомы? А с дядей, адмиралом?
Я смирился с необходимостью поиграть в игру под названием «найди общих знакомых», скучную, но невзыскательную, которая могла длиться часами. Я уже видел в перспективе целую череду обязательных ходов – дядюшек, тетушек, кузенов, их владений и свадеб, завещаний, закладных и купчих. Затем переход к частной школе и университету, обязательно сравнить впечатления о качестве еды, обменяться анекдотами о преподавателях, знаменитых матчах и состязаниях по гребле. Все было расписано вплоть до мельчайших подробностей, до интонации.
Но, к моему немалому изумлению, мистер Норрис, как выяснилось, вовсе не горел желанием играть в эту игру. Он торопливо ответил:
– Нет, боюсь, что нет. После войны я как-то растерял связи со своими английскими друзьями. По большей части приходилось жить за границей.
Он сказал «за границей», и мы оба автоматически посмотрели в окно. Голландия скользила мимо легко, как послеобеденный сон: плоский заболоченный пейзаж с бесшумным электропоездом, идущим по насыпи вдоль канала.
– Вы хорошо знаете здешние места? – спросил я. С тех пор как я заметил парик, у меня отчего-то уже не получалось называть его «сэр». К тому же, если он носил его нарочно, чтобы казаться моложе, было бы откровенной бестактностью с моей стороны настойчиво подчеркивать разницу в возрасте.
– Я довольно хорошо знаком с Амстердамом, – мистер Норрис быстрым нервическим движением потер подбородок. Это было нечто вроде тика: потереть подбородок и открыть при этом рот, словно ощерившись, но без всякой свирепости в выражении лица – как старый лев в зоопарке. – Н-да уж, довольно хорошо.
– Хотел бы я там побывать. Должно быть, тихое и мирное местечко.
– Совсем наоборот. Уверяю вас, это один из самых опасных городов Европы.
– В самом деле?
– Да-да. Я ужасно привязан к Амстердаму и тем не менее всегда говорил: ему присущи три губительнейших недостатка. Начнем с того, что лестницы во многих домах уж такие крутые, что нужно быть профессиональным скалолазом, чтобы взбираться на них, не рискуя при этом схватить инфаркт или свернуть себе шею. Во-вторых, мотоциклисты. Они в буквальном смысле слова наводняют город и, кажется, считают делом чести ездить по улицам без какого бы то ни было уважения к человеческой жизни. Не далее как сегодня утром я буквально чудом избежал смерти. А в-третьих, там ведь каналы. Летом, знаете ли… такая антисанитария. Ну то есть полнейшая антисанитария. Я вам передать не могу, чего я только там не перенес. Каждую неделю – ангина, как будто по расписанию.
К тому времени как мы добрались до Бентгейма, мистер Норрис успел прочесть целую лекцию об основных неудобствах главнейших европейских городов. Прежде всего меня поразила широчайшая география его путешествий. Он страдал от ревматизма в Стокгольме и от сквозняков в Каунасе; в Риге он скучал, в Варшаве с ним обошлись в высшей степени неуважительно, в Белграде он не сумел отыскать своего излюбленного сорта зубной пасты. В Риме ему досаждали насекомые, в Мадриде – нищие, в Марселе – клаксоны такси. В Бухаресте у него был неприятнейшего рода опыт с ватерклозетом. Константинополь он находил дорогим и безвкусным. Единственные два города, к которым он относился в высшей степени одобрительно, были Париж и Афины. Афины в особенности. В Афинах он отдыхал душой.
Поезд остановился. Бледные, плотного телосложения мужчины в синих мундирах вышагивали по платформе с той смутно зловещей неспешностью, которая вообще свойственна должностным лицам на приграничных станциях. Что-то в них было от тюремных надзирателей. Складывалось впечатление, что никто из нас дальше не едет. В дальнем конце коридора эхом отдался голос: «Deutsche Pass-Kontrolle».
– Наверное, – светски улыбаясь, сказал мистер Норрис, – одно из самых светлых моих воспоминаний связано с бесцельными утренними прогулками по всем этим чудным старым улочкам за храмом Тесея.
Нервничал он страшно. Его ухоженная белая рука безостановочно теребила на мизинце кольцо с печаткой; беспокойные голубые глаза то и дело бросали быстрые взгляды в коридор. Голос сделался фальшивым; пронзительный, исполненный натужного игривого веселья, он более всего был похож на голос персонажа из довоенной салонной комедии. Говорил он очень громко, настолько, что его наверняка было слышно в соседнем купе:
– Там постоянно натыкаешься, причем совершенно неожиданно, на самые что ни на есть удивительные уголки. Одинокая колонна, которая возвышается посреди груды мусора…
– Deutsche Pass-Kontrolle. Приготовьте, пожалуйста, паспорта.
В дверном проеме нашего купе появился человек в мундире. При звуке его голоса мистер Норрис вздрогнул – не сильно, но вполне заметно. Стараясь дать ему побольше времени на то, чтобы совладать с нервами, я торопливо протянул чиновнику свой паспорт. Как и следовало ожидать, он едва на него взглянул.
– Я еду в Берлин, – сказал мистер Норрис, с очаровательной улыбкой вручая чиновнику паспорт; очаровательной настолько, что она изрядно проигрывала в естественности. Чиновник никак на нее не отреагировал. Буркнув в ответ что-то невнятное, он продолжал с видимым интересом листать паспорт, а потом вынес его в коридор, встал поближе к окну и стал рассматривать страницы на свет.
– Весьма примечательно, – беззаботным тоном продолжил мистер Норрис, обращаясь к мне, – что во всей классической литературе вы не найдете ни единого упоминания о холме Ликабет.
Я был просто поражен, увидев, в каком он состоянии; пальцы у него дрожали, голос, казалось, вот-вот выйдет из-под контроля. На мраморно-белом лбу выступили бисеринки пота. Если именно это он имел в виду, когда говорил о том, что не любит, когда его начинают «теребить», если всякий раз, обходя служебные инструкции, он впадал в такую же панику, то облысеть он мог еще в молодости – от одних только нервов. Он бросил в коридор быстрый, совершенно отчаянный взгляд. Подошел еще один чиновник. Повернувшись к нам спиной, они принялись изучать паспорт уже вдвоем. Откровенно героическим усилием воли мистер Норрис умудрился не сбиться с беззаботной интонации разговорчивого гида.
– Насколько нам известно, в древности там должны были кишмя кишеть волки.
Паспорт перекочевал в руки второго чиновника, и тот взял его с таким видом, будто вот-вот готов был унести паспорт с собой. Его коллега сверился с маленькой, черной, изрядно замусоленной записной книжкой. Потом поднял голову и отрывистым тоном спросил:
– В настоящий момент вы проживаете на Курбьештрассе, 168?
На секунду мне показалось, что вот сейчас мистер Норрис упадет в обморок.
– Э – да… так точно…
Как пташка перед коброй, он был не в силах оторвать от своего мучителя беспомощного и завороженного взгляда. Он словно ждал, что его арестуют прямо здесь и сейчас. В действительности же ничего подобного не случилось, чиновник сделал в блокнотике отметку, еще раз что-то буркнул и, повернувшись на каблуках, прошел к следующему купе. Его коллега отдал паспорт мистеру Норрису, сказал: «Благодарю вас, сэр», вежливо козырнул и ушел вслед за первым.
Мистер Норрис с глубоким вздохом опустился на жесткую деревянную скамью. С минуту казалось, что он не в состоянии вымолвить ни слова. Вынув большой, белого шелка платок, он принялся вытирать им лоб, старательно избегая касаться краев парика.
– Я прошу прощения, но не будете ли вы так добры открыть окно, – неверным голосом наконец сказал он. – Как-то здесь сделалось ужасно душно, ни с того ни с сего.
Я поспешил выполнить его просьбу.
– Может быть, чего-нибудь вам принести? – спросил я. – Стакан воды?
Он слабым жестом отмахнулся от моего предложения:
– Весьма любезно с вашей стороны… Нет, не надо. Я через минуту приду в себя. Сердце у меня уже не то.
Он вздохнул:
– Староват я стал для такого рода приключений. Все эти переезды… ничего хорошего.
– Знаете, зря вы все это принимаете так близко к сердцу. – В тот момент я сильнее, чем когда-либо, чувствовал, что должен защитить его, уберечь от всех возможных неприятностей. Эта преданная готовность подставить плечо, которую он с такой подозрительной легкостью во мне пробудил, станет подспудным лейтмотивом всех наших дальнейших с ним отношений. – Нельзя же так расстраиваться из-за пустяков.
– И это вы называете пустяками! – он вскинулся в довольно жалкой пародии на возмущение.
– Конечно. Как и следовало ожидать, все уладилось буквально за пару минут. Он просто спутал вас с кем-то другим, с однофамильцем.
– Вы в самом деле так думаете? – Ему совершенно по-детски хотелось, чтобы его утешили, уверили в том, что все хорошо.
– А у вас есть другое объяснение?
Мистер Норрис, судя по всему, не был в этом уверен.
– Ну, что же – э – вы, вероятно, правы, – с сомнением в голосе сказал он.
– К тому же дело-то обычное. Самых добропорядочных людей принимают за известных на весь мир похитителей бриллиантов. Их раздевают и обыскивают с ног до головы. Удивительно, как с вами не проделали того же самого!
– Ну у вас и шуточки! – хихикнул мистер Норрис. – От одной только мысли о чем-то подобном всякий порядочный человек должен стыдливо зардеться.
Мы рассмеялись оба. Я был рад, что мне настолько легко удалось его приободрить. Но, боже мой, подумал я, что же с ним будет, когда объявится таможенник? Если мои подозрения насчет контрабандных подарков родным и близким были верны, то истинная причина его беспокойства крылась именно здесь. Маленькое недоразумение с паспортным контролем совершенно выбило его из колеи: соответственно таможенник должен довести его в буквальном смысле слова до сердечного приступа. Я уже начал подумывать о том, чтобы поднять нужную тему и предложить ему перепрятать контрабанду в мой чемодан; но он, казалось, пребывал в настолько счастливом неведении относительно грядущих бед, что у меня попросту не хватило духу его тревожить.
Я ошибся. Таможенный досмотр, когда дело дошло до него, для Норриса, казалось, был чистой воды удовольствием. Он не подал ни малейшего признака беспокойства; да и среди его багажа не обнаружилось ничего, что подпадало бы под таможенные ограничения. Он бегло говорил по-немецки, он смеялся и шутил с таможенниками по поводу большого флакона духов Коти:
– Да-да, уверяю вас, исключительно для моего личного пользования. Я не расстался бы с ним ни за какие сокровища. Давайте-ка я капну вам на носовой платок. Такой восхитительный аромат, такой освежающий.
Но вот наконец все осталось позади. Поезд, неторопливо постукивая колесами, въехал в Германию. По коридору, названивая в маленький гонг, прошел стюард из вагона-ресторана.
– А теперь, дорогой мой мальчик, – сказал мистер Норрис, – после всех этих тревог и треволнений и вашей более чем своевременной моральной поддержки, за которую я вам настолько благодарен, что словами этого просто не выразишь, я надеюсь, вы окажете мне честь и позволите угостить вас ленчем.
Я поблагодарил его и принял приглашение.
Как только мы успели поуютнее расположиться в вагоне-ресторане, мистер Норрис немедля заказал себе рюмочку коньяка:
– Вообще-то я взял себе за правило никогда не пить перед едой, но бывают такие случаи, когда сама ситуация прямо-таки взывает к необходимости пропустить по маленькой.
Подали суп. Он съел одну ложку, а потом подозвал официанта и обратился к нему с мягким упреком.
– Вы, конечно, согласитесь со мной, что здесь слишком много лука? – спросил он с самой искренней тревогой в голосе. – Не могли бы вы в виде исключения оказать мне любезность? Я бы хотел, чтобы вы сами его попробовали.
– Слушаюсь, сэр, – сказал официант, страшно, к слову сказать, занятый, и, с видом одновременно высокомерным и почтительным, тут же унес тарелку.
Мистер Норрис был искренне обижен:
– Нет, вы видели? Он не стал пробовать суп. Он не захотел признаться в том, что суп приготовлен не так. Боже мой, какие твердолобые порой попадаются люди!
Однако буквально через несколько минут он уже и думать забыл об этом маленьком разочаровании в человеческой природе. И с величайшим вниманием принялся изучать карту вин:
– Так, поглядим… Поглядим… Как вы смотрите на то, чтобы рискнуть и заказать рейнвейн? Не против? Имейте в виду, чистой воды лотерея. В поездах всегда нужно рассчитывать на худший из возможных вариантов. Но думаю, мы все-таки рискнем. Как вы считаете?
Рейнвейн был подан и оказался превыше всяческих похвал. Такого славного рейнвейна мистер Норрис, по его словам, не пробовал с тех пор, как обедал в прошлом году со шведским посланником в Вене. А еще были почки, его излюбленное блюдо.
– Надо же, – с видимым удовольствием заметил он, – а я, оказывается, всерьез проголодался… Если хотите попробовать настоящие почки, езжайте в Будапешт. Для меня это было просто откровением… Надо сказать, эти тоже приготовлены превосходно. Вы со мной согласны? Поистине превосходно. Поначалу мне показалось, что я распробовал этот противный красный перец, но, видимо, просто разыгралось воображение. – Он подозвал официанта:
– Вы не могли бы передать шефу мое искреннее восхищение и сказать, что с таким изумительным обедом его можно только поздравить? Благодарю вас. А теперь принесите-ка мне сигару.
Принесенные сигары долго обнюхивались и взвешивались между большим и средним пальцем. Наконец мистер Норрис выбрал самую крупную на всем подносе:
– Как, дорогой мой мальчик, вы не курите сигар? Нет, вы положительно должны попробовать. Ну что ж, может быть, вам в таком случае свойственны какие-то другие пороки?
К этому времени он пребывал уже в самом радужном расположении духа.
– Надо заметить, чем старше я становлюсь, тем больше ценю маленькие радости жизни. Я уже давно взял себе за правило путешествовать исключительно первым классом. Стоит того. С вами здесь обращаются с куда большей предупредительностью. Взять хотя бы сегодняшний день. Если бы я не сидел в купе третьего класса, им бы и в голову не пришло меня потревожить. Вот вам немецкий чиновник, от и до. «Нация офицеров запаса» – кажется, так их кто-то назвал? Прямо-таки не в бровь, а в глаз! До чего же верно…
Потом какое-то время мистер Норрис молча ковырял в зубах.
– Мое поколение привыкло воспринимать роскошь с эстетической точки зрения. Однако после войны люди как-то изменили свое к ней отношение. Теперь по большей части роскошь стала просто вопиющей. Удовольствия вкушаются примитивно, грубо. Вы не находите? Порой и сам начинаешь ощущать некоторое чувство вины: столько кругом страданий, опять же безработица. В Берлине в этом отношении очень худо. Очень… впрочем, вы и сами наверняка все знаете. Я, со своей стороны, делаю, конечно, все, что могу, но это же капля в море. – Мистер Норрис вздохнул и дотронулся губами до салфетки. – А мы здесь с вами купаемся в роскоши. Сторонники общественных реформ, вне всякого сомнения, нас бы за это осудили. Но тем не менее, если подумать, не пользуйся люди вагоном-рестораном, весь здешний обслуживающий персонал тоже вынужден был бы жить на пособие по безработице… Боже, боже мой. Жизнь в наши дни – такая сложная штука.
Расстались мы на вокзале Цоо. Мистер Норрис долго держал мою руку, невзирая на толкотню прибывших с нашим поездом пассажиров.
– Auf Wiedersehen, дорогой мой мальчик. Auf Wiedersehen. Прощаться не стану, потому что надеюсь увидеться с вами в самом ближайшем будущем. Все те маленькие неудобства, которые мне пришлось пережить в этой ужасной поездке, с лихвой компенсированы величайшим удовольствием от знакомства с вами. А теперь скажите, не согласились бы вы выпить со мной чаю, у меня на квартире, где-нибудь на этой неделе? Что, если в субботу? Вот моя карточка. Пожалуйста, не откажите.