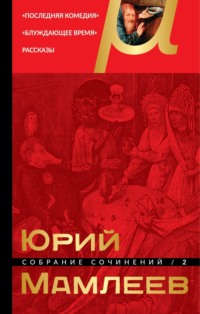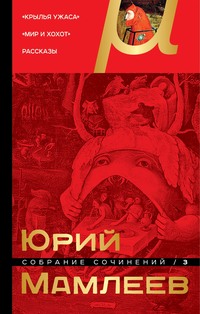Полная версия
Бывает…
– Для чего тебе голова?
Легенда у меня уже была готова.
– Видишь ли, – сказал я печальным голосом, – это моя племянница. Я хотел бы иметь ее голову на память.
– Ты так ее любил? – спросил до дурости веселый Степан.
– Очень любил, а сейчас еще больше…
– Сейчас еще больше… Тогда понятно, – прервал Семен.
– А где ты будешь хранить голову? – опять вмешался Степан.
– Я засушу ее, вообще подправлю, чтобы она не гнила, – ответил я, прихлебывая пивко. – А где хранить… Я даже не думал об этом… Может быть, у бывшей жены.
– Только не храни ее в уборной, – предупредил Степан. – Туда всегда заходят гости, друзья. Не хорошо…
– Это не важно, – оборвал Семен. – Пусть хранит где хочет. Это не наше дело. А что он скажет другим – тоже не наше дело. Мы все равно завербовались на Колыму и скоро уезжаем. Там нас не найдешь.
– Но вы, ребята, уверены, что все будет шито-крыто? – спросил я.
– Мы свое дело знаем. Ты у нас не первый такой.
Тут уж пришел черед удивляться мне.
– То есть как не первый?
– Эх, тюря, – усмехнулся Семен. – Бывает порой. Ведь среди нас есть такие, как ты, плаксивые. Студентка одна была здесь полгода назад: забыла взять волосик с мертвого мужа. Коровой ревела. Пришлось отрыть. Случается, некоторые пуговицы просят, но большинство волосики. Все было на моем веку.
Одна дамочка просила просто заглянуть в гроб, хотя лет десять уже прошло с похорон мужа, из любопытства, – разные есть люди. Правда, насчет головы ты у нас первый такой нашелся, широкая натура, видно, сильно ее любишь. Но, учти, за волосик или так за любопытство мы берем сто, ну, сто пятьдесят рублей, смотря по рылу. А за голову двести пятьдесят выкладывай – без разговоров.
– Само собой… Мне присутствовать? – спросил я.
– Зачем? – удивился Семен. – Если волосик, тогда конечно, потому что надуть можно, хотя мы люди честные. Но головку-то спутать нельзя, тем более всего неделя какая-то прошла с похорон. Мы вдвоем со Степаном управимся. Ну вот наконец-то поллитра вылезло из кармана! Разливай, Степан, на троих, у тебя глаз аккуратный… Да, значит, договоримся о встрече. Товар на обмен, рука в руку, мы тебе голову, ты нам деньги, на пропой души ее…
Все помолчали. Хряснули стаканы с водкой, за дело.
– Девка-то, видно, хорошая была, – загрустил Семен. – Я ведь ее хоронил. Тихая такая была. Ничего у нее не болит теперь, как у нас. Эх, жизнь, жизнь! А я свой труп уже пропил, в медицинский институт…
Встречу назначили через день, утром, у кладбища, в подъезде дома номер три – темном, безлюдном и грязном. Все часы мои перед этим были светлые-пресветлые, и только голос Тани во сне звучал тихо-тихо, даже с какой-то лаской. С нездешней такой прощальной лаской. Они ведь тоже люди, мертвецы-то. Они все понимают, все чувствуют, еще лучше нас, окаянных, хотя по-другому. Понимала она, значит, что мечты ее сбываются. Отрубят ей в могиле голову и принесут мне в мешке в подъезд. Она ведь так хотела этого, а слово мертвых – закон. И еще говорят, когда очень хочешь, то всегда сбывается. Недаром Танечка так просила, кричала почти. И еще хорошо, если бы у всех людей на земле появилось бы такое желание, как у Танечки. У всех людей, в Америке, Европе, Азии – везде, у живых и мертвых одинаково, какая сейчас разница между живыми и мертвыми – кругом одни трупы бродящие. И не топили бы головы, а сложили бы их в одну гору, до Страшного суда. Все равно не так уж долго ждать. И все попутные, обыденные страхи решились бы: никаких атомных войн, ни революций, ни эволюции… Впрочем, что о такой ерунде, как эти страхи, говорить. Думаю я, что тело, в котором Танечка мне явилась, и на колени мои прыгнула, и ручками обняла, это и есть тело, в котором и явится, когда Страшный суд придет. А может, я ошибаюсь. Надо у Прохорова спросить: он все знает, комсорг…
Вот и наступил тот час. Я стоял в подъезде дома номер три, в темноте. В кармане – билеты, туда, за город, на реку… где же еще топить, не в Москве же реке – кругом милиция, да и вода грязная. За городом – лучше, там озера, чистая вода, холодная, глубокая, с такого дна голова Тани уже никогда не всплывет.
Семен и его помощник, как-то озираясь, дико шли ко мне, у Семена в руках болталась сумка. Я думал, что все будет более обыденно. И вдруг – какой-то внезапный страх, как будто что-то оборвалось и упало в душе… Могильщики, странно приплясывая, приближались ко мне. Семен почему-то сильно размахивал сумкой с головой, точно хотел голову подбросить – высоко, высоко, к синему небу.
Разговор был коротким, не по душам. Голова… деньги… голова. Водка.
– Вот и все.
– Взгляни на всякий случай, – проурчал Семен. – Мы не обманщики.
Я содрогнулся и заглянул в черную пасть непомерно огромной сумки. Со дна ее на меня как будто бы блеснули глаза – да, это была Таня, тот же взор, что и при жизни. Я расплатился и поехал на вокзал. Взял такси. Они мне отдали голову вместе с сумкой – чтоб не перекладывать, меньше возни. Сумка была черная, потрепанная, и, видимо, в ней раньше носили картошку – чувствовался запах. Милиционеров я почему-то не боялся, то есть не боялся случайностей. Видно, боги меня вели. Каким-то образом я влез в перенаполненную электричку.
В поезде было очень тесно, душно, много людей стояло в проходе, плоть к плоти. Ступить было некуда. Я боялся, что мою сумку раздавят и получится не то. Таня ведь просила утопить. Неожиданно одна старушка – ну, прямо Божья девушка – уступила мне место. Почему – не знаю. Скорее всего, у меня было очень измученное лицо и она пожалела, ведь, наверное, в церковь ходит.
Сколько времени мы ехали, не помню. Очень долго. А вот и река. Она блеснула нам в глаза – издалека, такой холодной, вольной и прекрасной своей гладью. Я говорю «мы», потому что уверен, что Таня тоже все видела там, в сумке. Мертвецы умеют смотреть сквозь вещи. Правда, ни стона, ни вздоха не раздалось в ответ – одно прежнее бесконечное молчание. Да и о чем вздыхать?! Сама ведь обо всем просила. А для чего – может быть, ей одной дано знать. К тому же Прохоров сказал, что она необычная.
И все же мне захотелось спросить Таню. О чем-то страшном, одиноком, без-дном… В уме все время вертелось: «Все ли потеряно… там, после смерти?!» Надо толкнуть, как следует толкнуть ее коленом, тогда там, в черной сумке, может быть, прошуршит еле слышный ответ… Но только бы не умереть от этого ответа… Если она скажет хоть одно слово ужаса, а не ласки, я не выдержу, я закричу, я выброшу ее прямо в вагон, на пиджаки этих потных людей! Или просто: мертво и тупо, на глазах у всех, выну голову и буду ее целовать, целовать, пока она не даст мне ободряющий ответ.
И вот я – на берегу. Никого нет. Мне остается только нагнуться, обхватить руками Танину голову и бросить ее вглубь. Но я почему-то медлю. Почему, почему? О, я знаю почему! Я боюсь, что никогда не услышу ее голоса тихого, грозного, умоляющего, безумного, но уже близкого мне, моей душе. Неужели этот холодный далекий голос из бездны может быть близок человеку? Да, да, я, может быть, хочу даже, чтобы она приходила ко мне, как в тот раз, во плоти, пусть в страшной плоти – из шкафа, из-за занавески, с неба, из-под земли, но все равно приходила бы. И садилась бы на мои колени, и что-то шептала бы. Но я знаю, этого не будет, если я выброшу голову.
Но я не могу ослушаться голоса из бездны. Ах, Таня, Таня, какая-то ты все-таки чудачка…
Но зачем, зачем ты так жестоко расправилась с собой?! Сунуть мягкую шейку в железную машину! А ведь можно было сидеть здесь, пить чай у самовара. Но глаза, твои глаза – они никогда не были нежными…
Ну, прощай, моя детка. С богом!
Резким движением я вынимаю голову. На моих глазах пелена. Я ничего не вижу. Да и зачем, зачем видеть этот земной обреченный мир?! В нем нет бессмертия!
Я бросаю Танину голову в реку. Вздох, бульканье воды…
Р. S. Позже я узнал, что человек, подходивший к Тане перед ее смертью и что-то шептавший ей, был Прохоров.
Рассказ написан в 70-х годах в Соединенных Штатах Америки, в которых мы с женой оказались после отъезда из Советского Союза в 1974-м, после так называемой эмиграции. Рассказ основан на столкновении, разрыве между абсолютно доказанным на протяжении истории человечества фактом существования параллельных миров за пределами чисто физического мира и нашей ограниченной способностью понять, что происходит там, где и пространство, время и субстанция (материя), совершенно иные, чем у нас. Собственно говоря, в традиционных воззрениях многое из того, что лежит по ту сторону наших органов чувств, нашего непосредственного восприятия, относительно ясно описано исходя из сверхчувственного и других форм опыта, хорошо известных с древних времен. Но при всем этом элемент непознанного, или даже непознаваемого, примитивным обычным человеческим разумом, весьма и весьма широк, в каком-то смысле даже необъятен. Тем более для современного человека, задавленного к тому же капканом так называемого научного мировоззрения.
В конечном итоге это столкновение двух принципиально разных реальностей и порождает в сознании человека чудовищную эйфорию гротеска и истерической реакции.
Все это и породило атмосферу «Утопи мою голову», с ее трагизмом и хохотом.
Рациональность, рацио, попранное и осмеянное, отступает, сдавая свои позиции.
А Танечка, героиня, девочка, продолжает свое существование, пусть и без телесной головы с ее бессмысленными мозгами. Дух и сознание, слава богу, не мозг. А мозг пусть гниет на свалке будущей истории (нового цикла) рода человеческого. Там ему на помойке и место. Одним словом, инструмент пришел в негодность.
Валюта
Шел 1994-й год. Зарплату в этом небольшом, но шумном учреждении выдавали гробами.
– Кто хочет – бери, – разводило руками начальство. – Денег у нас нету, не дают. Мы ведь на бюджете. Хорошо хоть гробы стали подворачиваться, лучше ведь гроб, чем ничего.
– Оно конечно, – смущались подчиненные. – Стол из гроба можно сделать. Или продать его на базаре.
– Я никаких гробов брать не буду, – заявила Катя Туликова, уборщица. – Лучше с голоду подохну, а гробы не возьму.
Но большинство с ней были несогласные, и потянулась очередь за гробами. Выдавали соответственно зарплате и, конечно, заставляли расписываться.
– У нас тут демократия! – кричало начальство. – Мы никого не обманем.
– Гробы-то больно никудышные, – морщился Борис Порфирьевич Сучков, старый работник этой конторы, – бракованные, что ли. Ежели что, в такой гроб ложиться – срам.
– А куда денешься, – отвечала юркая энергичная девушка-коротышка. – Я уже на эту зарплату два гроба себе припасла. Случись помру, а гробы у меня под рукой. – И то правда! – кричали в очереди. – Мы свое возьмем, не упустим.
Борис Порфирьич покачал головой в раздумье. Был он сорокапятилетним мужчиной работящего вида, но с удивлением во взгляде.
В очередь набились и родственники трудящихся, ибо гробы, как известно, предмет нелегкий, и некоторым тащить надо было километров пять-шесть до дому, а кругом ведь живые люди, еще морду набьют… мало ли что.
Борис Порфирьич пришел один, без жены и сына, но с тачкой. На тачке он бы мог целое кладбище перевезти. В молодости он грешил пьянством, и тогда его папаша нередко забирал своего сына Борю из пивной на тачке. С тех пор эта тачка и сохранилась, хотя раз ее чуть не разгрызли злые собаки. Но самого Борю не тронули. Теперь тачка служила ему для перевозки гробов. Она и сама напоминала гроб, но с какой-то фантастической стороны.
Нагрузившись (гробы были дешевые, что тоже вызывало у трудового народа подозрение), Борис Порфирьич поехал домой. По дороге заглянул в пивную, опрокинул малость и продолжил путь.
Дома за чаем обсуждали гробы. Приплелся даже сосед, зоркий пожилой мастер своего дела Мустыгин.
– А нам чайниками дают! – крикнул он.
– Чайниками лучше, – умилялась полная, мягкая, как пух, Соня, жена Бориса Порфирьича. – Как-то спокойней. Все-таки чайник. А тут все же тоскливо чуть-чуть. Вон сколько накопилось их, так и толпятся у стены, словно пингвины.
– Чего страшного-то, мать! – бодро ответил сынок ихний, двадцатилетний Игорь. – Бревно оно и есть бревно. Что ты умничаешь все время?
– Брысь, Игорь, – сурово прервал его Борис Порфирьич, – щенок, а уже тявкаешь на родную мать!
Между тем Мустыгин осматривал гробы.
– Гробы-то ношеные! – вдруг не своим голосом закричал он.
– Как ношеные?! – взвизгнула Соня.
– Да так! Использованные. – Мустыгин развел руками. – Порченые, одним словом. Из-под покойников. Что, я не вижу? Да и нюх у меня обостренный. Я их запах, мертвецов-то, сразу отличу…
– Не может быть, – испуганный Сучков подскочил к гробам. – Вот беда‐то!
– Горе-то какое, горе! – истошно зарыдала Соня.
– Молчи, Сонька! Я до мэра дойду! – И Сучков близоруко склонился к гробам.
Мустыгин покрякивал, поддакивал и все указывал рабочей рукой на какие-то темные пятна, якобы пролежни, а в одном месте указал даже на следы, дескать, блевотины.
– Первый раз слышу, чтобы покойники блевали, – взвилась Соня. Сын ее, Игорь, в этом ее поддержал. Но Сучков-отец думал иначе.
– Просто бракованные гробы, – заключил он. – Как это я не заметил!
– А если блевотина? – спросил Игорь.
– Могли ведь и живые наблевать, – резонно ответил Сучков. – С похмелюги и не то бывает. Ну, забрели, ну, упали… Подумаешь, делов-то.
– Да почему ж блевотина-то? – рассердилась Соня. – Что она, с неба, что ли, свалилась?
– Тише, тише, – испугался Мустыгин, – не хами.
– А во всем Костя Крючкин виноват, – зло сказал Борис Порфирьич. – Он выдавал зарплату. И подсунул мне запачканные. Друг, называется! Предал меня!
– Да он тебе всегда завидовал, – вставила Соня. – Из зависти и подсунул.
– Обидно! – покачал головой Мустыгин. – Гробы должны быть как надо… Это же валюта, – и он вытянул губу. – Раз вместо зарплаты. К тому же международная! Везде ведь умирают – на всем земном шаре.
– Я этого Коське никогда не прощу, – твердо и угрюмо заявил Борис Порфирьич. – Морду ему вот этим облеванным гробом и разобью.
– Обменяй лучше. По-хорошему, – плаксиво вмешалась Соня. – Зачем врага наживать? Он тебе это запомнит.
– Конечно, папань, – солидно добавил Игорь.
– Скажи, что, мол, ты, Костя, обшибся, – трусливо заволновалась Соня. – Со всяким бывает. И давай, мол, по-мирному. Сменяй гробы, и все тут. Эти ведь не продашь, даже самым бедным… Только гроб ему в харю не суй, слышь, Боря?
– Ну, что поделаешь! Сегодня уже поздно, а завтра суббота, – пригорюнился Сучков. – Как неприятно! Вечно у нас трудности. И в профсоюзе я скажу, чтоб ношеными гробами зарплату не выдавали. Наше терпение не бесконечно.
Все опять сели за стол.
– А может, спустишь гроб-то тот самый, бракованный? – замечталась Соня, подперев пухлой ладонью щечку. – А что? Я вот слышала, у Мрачковых только-только дед помер. Они бедные, где уж им нормальный гроб купить. Сбагри им. А с Крючкиным лучше не связывайся, что ты – не видишь человека? Да он тебя живьем съест, при первом удобном случае…
– Все равно отомщу, – прорычал Сучков.
И на следующий день пошел продавать тот самый подержанный и, возможно, даже облеванный гроб. К Мрачковым зашел быстро – не зашел, а забежал…
– Дед-то помер, Анисья! – с порога закричал Борис Порфирьич.
– Все знают, что помер.
– Ну вот, я с помощью к тебе. Хороший гроб по дешевке отдам! А то жрать нечего. Зарплату гробами нам выдают.
– Слышала.
– Ну, раз слышала, так бери, не задерживайся.
Сучков действовал так резко, нахраписто, что Анисья Федоровна в конце концов поддалась.
– Возьму, возьму, – хрюкнула она, – только денег нет. Может, возьмешь чайниками?
– Я тебя, мать, стукну за такие слова, – рассвирепел Сучков.
– Чего меня стукать-то? – защищалась Анисья. – Денег ведь все равно нет. Стукай, не стукай.
Сучков сбегал домой.
– Бери, Боря, бери! – увещевала его Соня. – Не будь как баран. Все-таки чайник лучше, чем гроб. Спокойней. Уютней. Еще лучше – возьми самоварами.
– Какие у нее самовары…
– Все равно бери.
Сучков позвал сына. Вдвоем дотащили гроб, перли через трамвайные линии, сквозь мат и ругань людей. Тачку не использовали, несли на своих.
Мрачковы встретили гроб полоумно.
– Какой-никакой, а все-таки гроб, – сказала сестра Анисьи. – Гробы на улице не валяются. Фу, целая гора с плеч.
Сучков набрал мешок чайников: но почти все какие-то старенькие. Правда, были и полуновые. Сухо распростившись с Анисьей, Сучков (сын еще раньше убежал) с мешком за спиной направился к себе. По дороге выпил, и половина чайников разбилась. Мрачковы гробом остались довольны.
– Выгодная сделка, – решили они.
А вот Борису Порфирьичу пришлось выдержать сцену.
– Чайники-то побитые почти все, – взвизгнула Соня. – Это что же, им побитыми чайниками зарплату выдавали? Не ври!!!
Сучков нахмурился:
– Анисья сказала, что давали новые, но они сами со злости их побили. Да и я разбил штуки две, пока пил с горя. Не тереби душу только, Сонь, не тереби!
Соня присмирела:
– Ладно уж, садись кашку овсяную поешь. Ничего больше в доме нет. А то ведь умаялся.
Сучков покорно стал есть кашу. Соня пристально на него смотрела. Сучков доел кашу, облизал ложку.
– Боря, – вкрадчиво начала Соня, – мне кажется, Мустыгин преувеличил. Я все наши гробы подробно облазила. Ну, правда, тот, что ты сбагрил, был действительно облеванный. А остальные – ни-ни. Чистые гробы, как стеклышко. Один только – да, попахивает покойником и вообще подозрительный.
– Какой?
Соня показала глазами на гроб, стоящий около обеденного стола.
– Его бы хорошо тоже поскорей сбагрить, – продолжала Соня, попивая чай. – Неприятно, правда. Может быть, покойник был какой-нибудь раковый или холерный. Завтра выходной – снеси-ка на базар втихую, незаметно. Хоть на кусок мяса сменяй.
– Да куда ж я его попру на базар?! – рассердился Сучков и даже стукнул кулаком по тарелке. – Что я тебе, новый русский, что ли, все время торговать и барышничать?!
– Ой, Боря, не ори! Подумай, что исть-то будем завтра? Даже хлеба нет.
Сучков задумался.
– Вот что, – сказал он решительно. – Надо к Солнцевым пойти. Немедленно.
– Так у них же гробов полно! – Соня раскрыла рот от изумления.
– «Гробов полно»! – передразнил Сучков. – Без тебя знаю. Но они их приспособили. Вся квартира в гробах, и все пристроены – по делу. Даже корытника своего порой в гробу купают, говорят, что это, дескать, для дитя полезно. Может, и наш приспособят. Один у них гроб – как журнальный столик, другой – для грязного белья, третий почему-то к потолку привесили, говорят: красиво.
– Ну что ж, сходи.
Сучков как помешанный вскочил с места, поднял гроб, что у обеденного стола, на спину и побежал.
Соня осталась одна. Игорь давно исчез куда-то. «Наверное, только ночью придет, – подумала она. – Кошка и та куда-то пропала».
На душе было тревожно не оттого, что назавтра есть ничего не осталось, а от какого-то глобального беспокойства.
– Хоть не живи, – решила она. Но тут же захотелось жить.
Борис Порфирьич пришел через полтора часа. С гробом. Еле влез в дверь.
– Ну, что?! – вскрикнула Соня.
– Морду хотели набить. Ихняя дочка четырнадцати лет так орала, всех соседей всполошила. Дескать, она уже и так вместо кровати спит в гробу, и ей это надоело! «Что нам из гроба, толчок теперь, что ли, делать, – кричала, – хоть папаня на все руки мастер, но хватит уже!» И мать ее поддержала. Как медведица ревела.
Соня вздохнула:
– Слава богу, что ноги унес.
– Так бы ничего, но гроб какой-то нехороший. Избавиться бы от него. Остальные я на неделе обменяю на картошку. Знаю где, – проговорил Борис Порфирьич, садясь за стол. – У самого Пузанова. У него картошка ворованная, он ее на что хошь обменяет. Ворованного он никогда не жалел.
– Да проживем как-нибудь. Игорь уже сам себе пропитание добывает. А что, иначе помрешь. Не до институтов. Но вот гроб этот какой-то скверный…
– Что ты привязалась к нему? Гроб как гроб. Ну да, паршивый. Ну да, бракованный. Но все-таки гроб. Гробы в пивной не валяются. Все-таки ценность.
Соня посмотрела вглубь себя:
– Да ты понюхай его еще раз, Боря. Какой он?
– Ну ладно. Из любви к тебе – понюхаю, так и быть.
Сучков подошел к гробу и стал его обнюхивать и проверять. Даже выстукивать.
– Не стучи – черт придет, – испугалась Соня.
– Сонь, ведь запах от покойника не может так долго держаться. Ну, допустим, пустили этот гроб налево, – наконец сказал Сучков, – но небось почистили его от предыдущего мертвеца-то, да запах и сам должен пройти, ведь не сразу же его из-под покойника – и на зарплату? Запах должен пройти.
– Должен. А вот этот не проходит, – заупрямилась Соня. – В том-то и подозрение. Почему запах трупа так долго держится? Неужели ты не чувствуешь?
– Кажется, чуть-чуть, – остолбенело проговорил Сучков.
– Не кажется и не чуть-чуть, – решительно ответила толстушка Соня, подходя к гробу. – Я тебе скажу прямо, Боря, как бы тебе это ни показалось сверхъестественным: от этого гроба прямо разит мужским трупом. Вот так. Я женщина и завсегда отличу по запаху мужской труп от нашего, бабьего.
– Заморочила! – вскрикнул Борис Порфирьич. – Не хулигань, Соня. Гроб, скажу резко, дерьмо, а не гроб, но трупом почти не пахнет. Что ты законы химии нарушаешь?
– Останемся каждый при своем мнении, Боря, – спокойно ответила Соня. – Пусть Игорь придет и понюхает. Он человек трезвый.
– Он по уму трезвый, а придет пьян. Чего он разберет? Давай лучше в картишки сыграем, – предложил Сучков.
И они сыграли в картишки.
Темнело уже; Соня поставила самовар, достала из-под кровати запас сухарей. Кошка не приходила. Часам к восьми постучали. Борис Порфирьич открыл. Всунулось лицо Мустыгина.
– К вам гость, Соня, от дядюшки вашего.
– От Артемия Николаевича! Из Пензы! – вскрикнула Соня.
Из-за спины Мустыгина появился невзрачный старичок, рваненький, лохматенький, совсем какой-то изношенный, потертый, весь в пятнах.
– Проходите! – откликнулась Соня.
Сучков вопросительно посмотрел на жену.
– Да, дядюшка всегда был чудной, – рассмеялась Соня. – И люди вокруг него были чудные. Вы проходите, старенький!
Старичок оглянулся, высморкался. Мустыгин исчез за дверью: ушел к себе.
– Отколь ты такой, дед? – немножко грубовато спросил Борис Порфирьич.
Старик вдруг бросил на него взгляд из-под нависших седых бровей, сырой, далекий и жутковатый. И вдруг сам старичок стал какой-то тайный.
Соня испугалась.
– Из того гроба я, – сурово сказал старик, указывая на тот самый пахнущий гроб.
Супруги онемели.

– Мой гроб это. Я его с собой заберу.
И старик тяжело направился к гробу.
– Чужие гробы не надо трогать! – жестко проговорил он и, взглянув на супругов, помахал большим черным пальцем.
Палец был живее его головы.
Потом обернулся и опять таким же сырым, но пронизывающим взглядом осмотрел чету.
– Детки мои, что вы приуныли-то? – вдруг по-столетнему шушукнул он. – Идите, идите ко мне… Садитеся за стол. Я вам такое расскажу…
Сучковы сели.
Наутро Игорь, трезвый, пришел домой. Дома не оказалось ни родителей, ни гробов. Все остальное было в целости и сохранности. Потом появилась милиция.
Супруги Сучковы исчезли навсегда.
Веселый рассказ. Основан на фактах сообщения в газете о выдаче зарплаты в форме гробов. Насколько помню, гробы выдавались школьным учителям. Дело происходило в провинции, в середине 90-х годов.
Впрочем, сюжет рассказа был задуман до того, как я прочел о факте гробоплаты. Трудно порой определить, когда литература опережает жизнь, когда они (литература и жизнь) идут параллельно, рука об руку.
Но в рассказе, как всегда в литературе, речь идет не только о фактах, но, главным образом, о внутренней, порой скрытой от глаз, жизни людей.
Кроме того, в «Валюте» мы (читатели – я уже выступаю в роли читателя) находим намек: заигрывание с гробами может плохо кончиться для игруна, а может быть, и для его близких.
Доигрались
Роман Зяблев и Зайцева Тоня, молодые и свободные люди, жили себе в не менее свободном браке. Сдавали престижную квартиру, доставшуюся им по наследству, и не тужили. Подрабатывали художественной фотографией.
Веселая жизнь текла как Ниагарский водопад. С утра раздавались телефонные звонки и сыпались приглашения на самые разнообразные тусовки. Мелькали лица, лилось винцо, ошеломляла музыка.
Но не только на банальные тусовки тянуло их. Тонечка, более чувствительная ко всему незнаемому, чем сам Роман, водила его на мрачовки. Так называла она тихие посиделки на кладбищах в компании двух-трех самых интимных друзей. Среди них Тонечка особо выделяла некоего Артура Каркова, молчаливого субъекта лет тридцати с лишним. Иногда, впрочем, он изрекал что-то непонятное, и Тонечка любила его за таинственность. Появлялся он внезапно и также внезапно исчезал.