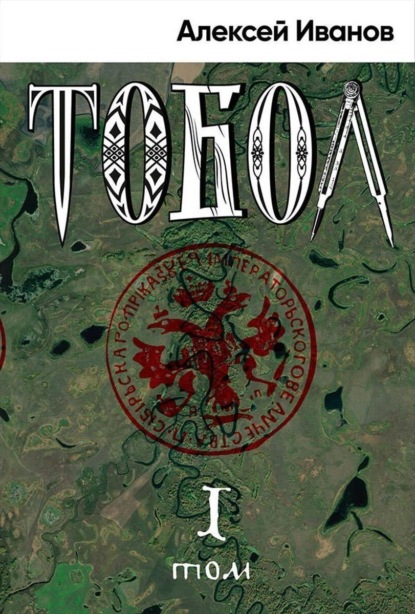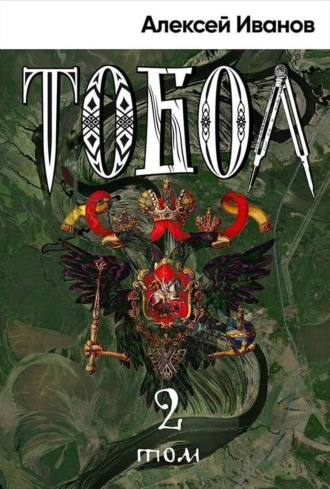
Полная версия
Тобол. Том 2. Мало избранных
– Двести рублей, – сказал Матвей Петрович.
– Уже нету, – развёл ручищами Савелий. – Секарь взял сто.
– Ну не могу же я брать столько же, сколько мой секретарь, – хмыкнул Матвей Петрович. – Сообрази чего-нибудь. Только не новую запашку. Как «белое место» она мне без корысти.
– Коров десятка три, – предложил Макар.
– Не смеши. Мне, что ли, доить их в кабинете?
– А помнишь, год назад в нашей слободе твой приказчик могильное золото покупал? – Савелий быстро перекрестился.
– Помню. Хороший был клад.
– Мы новый бугор нашли. Сами копать не будем, там черти под землёй, а указать можем. Пришлёшь своих холопов с заступами.
– Ну, я подумаю, – неохотно согласился Матвей Петрович. – Посидите в Тобольске ещё недельку, я вас извещу. А теперь убирайтесь.
Губернатора ожидали другие челобитчики.
Только вечером Матвей Петрович смог обстоятельно прочитать бумаги из Петербурга. Царский запрет на каменное строительство изрядно смутил его. С одной стороны, запрет – конечно, хорошо: не надо раскошеливаться. Ведь на возведение кремля он, губернатор, согласился лишь под нажимом архитектона; уломал его упрямый Ремезов. Однако с другой стороны – жаль. Жаль потраченных денег и усилий. Жаль прощаться с гордостью за то, что он, князь, будет сидеть в кремле, пусть и не в таком великом, как другие губернские кремли, Московский и Смоленский, но не хуже Казанского.
Матвей Петрович хотел утром вызвать Ремезова, чтобы объявить ему о царской воле, но Ремезов сам приковылял в губернскую канцелярию.
– Петрович, беда! – вздохнул он, опускаясь на скамью и вытягивая хромую ногу. – Выручай. Свантея-то моего в Бухгольцево войско загребли.
Пока строили кремль, Сванте Инборг, артельный шведских каменщиков, стал Семёну Ульяновичу приятелем и советчиком.
– Почему загребли?
– Да он в той драке проклятущей на площади оказался.
Матвей Петрович откинулся от стола и поскрёб отросшую бороду. Ему очень не хотелось разговаривать с Ремезовым: старик опять начнёт орать и ругаться, требовать и корить. Слишком уж он взбалмошный и неудобный.
– А Свантей нынче тебе уже и не нужен, – сказал Матвей Петрович.
– Отчего это не нужен?
– Указ мне привезли, Ульяныч. Царь по всей державе каменное дело запретил и каменщиков повелел в столицу высылать.
– Зачем? – глупо спросил Семён Ульянович, ещё не осознав сказанного.
– Петербург строить.
– А на Тобольск, значит, наплевать?..
– Не я решил.
Семён Ульянович нелепо заёрзал, подволакивая ногу и стуча палкой.
– Это что получается? Гаси фитилёк?
– Только царя не брани, архитектон, – строго предупредил Гагарин. – Не хочу тебя в холодную сажать.
– Как же так? – ошеломлённо сказал Семён Ульянович. – Не могу в толк взять! Работники у нас есть, кирпича и тёса мы вдоволь заготовили, и всё бросить на полпути? Пущай дождями кладку размоет?
– От дождей кровлями накроем. За кровли не казнят.
Семён Ульянович шевелил бородой, мысли его лихорадочно метались.
– Башни и стены придётся оставить в недоделке, – продолжил Гагарин. – Не обессудь. Слава богу, церковь почти готова. Летом завершим и освятим её. А столп над взвозом и мне жалко, Ульяныч. Дерзкий был замах.
Матвей Петрович, чувствуя вину перед Ремезовым, подумал, что старик сам промахнулся. Слишком много выпросил. Ежели, положим, речь бы шла про одну взвозную башню, так её потихонечку достроили бы, не взирая даже на царский указ. За два-три года незаметно сложили бы до шпица: дескать, нерачительно запасённые кирпичи без употребления бросить. Однако же целый кремль украдкой не построишь. Донесут царю, и покатится башка. Перевалить вину на неуёмного Ремезова, который меры не ведает, Матвею Петровичу было проще, чем переживать за архитектона, лишённого мечты.
– Смирись, Ульяныч, – мягко посоветовал Гагарин. – Ступай домой.
Но в душе Семёна Ульяновича разверзлась такая дыра, что смириться у него не получилось бы и при всём желании. Кремль – его заветный замысел. В суете повседневности и в сутолоке житейских дрязг властный зов кремля вроде бы затих, но это не так: он всё равно звучал в глубине жизни, как стук собственного сердца. А сейчас Семёну Ульяновичу словно бы остановили сердце и сказали: ну, как-нибудь без него живи, руки-ноги-то целы.
– Да невозможно оно! – Семён Ульянович гневно застучал своей палкой, испепеляя Гагарина взглядом. – Мы с тобой тлен, Петрович, а кремль – великое дело! Ему равного в державе нету!
Гагарин разозлился. Ремезов – как царь Пётр: оба шары выкатят и прут напролом. Собственные затеи для них важнее всего прочего на земле. Один столицу на болотах строит и за-ради неё всю державу плетью лупцует, будто клячу, а другому и царский град супротив своего кремля – свинорой. С царём, ясен свет, не поспоришь, но Ремезов-то куда лезет? Возомнил себя пантократором! Полагает, что он посередь Сибири самый главный, да?
– Я смотрю, ты тут в Моисея раздулся? – рявкнул Матвей Петрович на Ремезова. – Окоротись, пока не лопнул! С малого дерева ягоду берут, а под большое – знаешь, зачем присаживаются? Проваливай отсюда!
Семён Ульянович, задыхаясь, вылетел из канцелярии.
Низкое небо над Тобольском залепили тучи. С яруса «галдареи» над заснеженными крышами амбаров и подворий видна была линия кирпичных стен, ровно упокоенных на аркаде печур. Высились неимоверные тумбы недоделанных башен – сизо-багровые, будто окоченевшие на ветру. Внятные и простые очертания кремля приподнимались и разворачивались над частой дробью бревенчатой застройки ещё не в полную высоту и не в полную силу протяжённости, но уже проявили собой ту горнюю надмирность, которую вкладывал в них Семён Ульянович. Они казались странными и нездешними, как тихий густой гул часобитного колокола над гомоном базарной толпы. Величие кремля пока только мерещилось, недовоплощённое, но оно уже незримо преобразило Воеводский двор. Оно означало: дух крепче плоти. То, что не имеет житейского применения, нужнее для бытия, чем все выгоды и пользы. Камень суть прах, а свет – несокрушимее адаманта.
Семён Ульянович решил искать помощи. Заступничества своему делу.
Вечером он уже был на Софийском дворе. Митрополит Иоанн болел, и Николка, прислужник, не допустил бы Семёна Ульяновича до Иоанна, но у митрополита сидели гости – Исаакий, настоятель Далматовской обители, и владыка Филофей из Тюмени, а где два гостя – там и третий поместится. Отцы приехали в Тобольск на праздник Сретения. Семён Ульянович принял благословение и скромно притулился в углу кельи на лавке. Немощный Иоанн полулежал, укрытый до груди стёганым одеялом.
– Ты ведь не о здравии моём узнать сюда пролез, – вздохнул Иоанн, и Филофей отвернулся, пряча улыбку. – Чего хотел, Семён Ульянович?
– Пособления, – признался Ремезов.
– Говори.
Семён Ульянович рассказал, стараясь не распаляться.
– Коли царь запретил, что тут поделаешь? – тихо произнёс Иоанн.
Семён Ульянович требовательно всматривался в лицо митрополита – полупрозрачное и какое-то ветхое от болезни, уже непрочное.
– Прости, владыка, – он перекрестился, – но покориться я и без помощи могу. Я думал, ты у царя дозволенье на кремль сумеешь выпросить.
– Вон кто у нас царский любимец, – Иоанн указал на Филофея.
Семён Ульянович перевёл взгляд на Филофея.
– И рад бы тебе послужить, Семён Ульяныч, – Филофей виновато пожал плечами, – только у меня самого в обители Троицкий храм лишь до глав доведён, а далее надо царю кланяться. Буду на свою стройку денег молить, да ещё и на твою стройку монаршего попущения добиваться, – так Пётр Алексеич ожесточится и обоим нам откажет. Давай через год попробую?
Семён Ульянович знал, что у Филофея собственная забота – собор, и сдержался, чтобы не надерзить. Владыка прав и ни в чём не виноват.
– А ты, отец? – Ремезов повернулся к Исааку.
Он давно был знаком с игуменом, но дружбы меж ними не водилось. Игумен был старше Ремезова на десять лет и во власть вступил ещё до того, как Сенька Ремезов принёс воеводе свой первый чертёж. Для Исаакия Ремезов до сих пор был юнцом. Да и все для него были юнцами. За долгие годы Исаакий такого хлебнул, что ровни ему в Сибири уже не имелось.
Сын самого Далмата Исетского, он овдовел в восемнадцать лет и ушёл к отцу в скит, где принял постриг. Он спасал отца при набегах башкирцев и не раз возрождал сожжённый скит. Он стал первым игуменом обители. Вместе с отцом он укрывал раскольников и за то немало пострадал: его ссылали на покаяние в Енисейск и дважды свергали из настоятелей. Но важнее другое. Исаакий своими глазами видел, как творится божья воля: свершаются чудеса, исцеляются страждущие, плачут иконы, сияет предвечный свет, из которого являются святые, и отца его неизъяснимо облекает благодать. Исаакий сам хоронил старца Далмата, который прожил больше ста лет, и своими руками осязал, что Далмат, земной человек из плоти, по смерти обрёл нетленность. Даже здесь, в келье Иоанна, среди таких же священников, Исаакий казался иным, словно бы то, во что все верили умозрительно, он изведал наяву и в опыте, а потому и сам изменился, и это отчуждало его от простых смертных.
Исаакий пошевелил седыми кустистыми бровями, будто удивился, что кто-то посмел его потревожить. Семён Ульянович даже слегка оробел. Ему почудилось, что Исаакий заговорит так, как заговорила бы Елеонская гора.
– А я, Семён, ещё в Рождество о царском указе узнал, – по-старчески медленно, но просто ответил Исаакий. – И мне оный не указ. Я царю письмо написал, и царь дозволил мне работы не прекращать. И денег прислал.
Семён Ульянович, конечно, слышал, что Исаакий затеял строительство, какое по плечу было только воеводскому Тобольску. Девять лет назад в Далматовой обители заложили Успенский собор – предивный храм в два яруса и в три света, с крещатым венчаньем глав и весь в узорочье: лопатки по струне, пояса «жучков» и «сухариков», арочки ступеньками, тонкие колонки с «павлиньими хвостами», тёсаные очелья на окнах и кокошники с весёлыми завитками «медвежьи ушки». Но Исаакию того было мало, и в прошлом году он приказал сносить бревенчатые стены и башни монастыря, потому что вместо них решил возвести надёжную каменную крепость.
– С чего же тебе такая милость? – осторожно спросил Семён Ульянович.
– Не мне, грешному. Отцу Афанасию.
Афанасий, приёмыш из Тюмени, был духовным сыном Исаакия. Под опекой Исаакия он вырос и возмужал, принял постриг. С Исаакием отбывал ссылку в Енисейске. Когда Исаакий попал в опалу, Афанасий возглавил обитель, не дозволяя пренебрежения к своему воспитателю. Острый умом, Афанасий приглянулся тобольскому митрополиту Павлу, который отправил инока на учёбу в Чудов монастырь, а там сам патриарх Иоаким зачислил Афанасия в крестовые иеромонахи при Патриаршем доме.
Через три года «чёрного попа» из Далматова хиротонисали в епископы Холмогорские и Важские. Но слава пришла к нему не по сану. Когда умер царь Фёдор Алексеевич, стрельцы и князь Хованский устроили в Грановитой палате прения о старой вере. Веру защищал ересиарх Никита Пустосвят. Говорить он умел, будто громовержец, и совсем было заспорил патриарха, но Афанасий выдвинулся вперёд и ответил так, что Пустосвят кинулся на него, как зверь, и вырвал полбороды. Пустосвяту отсекли голову, а епископ Афанасий вскоре уже служил при венчании на царство Петра Алексеевича.
Дружбы самодержца он добился ещё через двенадцать лет. На корабле «Святой Пётр» Афанасий сопровождал царя на Соловки, и посреди сурового Гандвика судно угодило в бурю. Пётр Алексеевич испугался, что погибнет, исповедался и причастился у Афанасия. Но умелый кормщик вывел корабль к Пертоминскому монастырю. В благодарность за спасение царь поставил на берегу возле обители крест. Тогда и завязалась дружба царя и владыки.
У себя в Холмогорах епископ Афанасий боролся с раскольниками, собирал книги и морские карты, строил храмы и привечал художников. На колокольне Спасо-Преображенского собора у него стояла зрительная труба, в неё по ясным ночам владыка изучал светила и планиды небесные. Афанасий самотрудием составил «Описание трёх путей из поморских стран в Швецкую землю» и подарил сей трактат государю, который не раз гостил у него.
«Описание» пригодилось Петру Лексеичу необыкновенно. В 1702 году государь задумал отбить у шведов крепость Нотебург, что стояла на острове в Ладоге и запирала вход в Неву. Для взятия крепости необходимы были корабли с артиллерией. А весной Пётр как раз спустил с верфей Соломбалы близ Холмогор два фрегата – «Святой Дух» и «Курьер». Требовалось как-то перебросить их с Белого моря в Онегу. Пётр вручил трактат Афанасия сержанту лейб-гвардии Михайле Щепотеву и приказал устроить «Осудареву дорогу» по волоку, описанному епископом. Щепотев всё исполнил, и по сей дороге фрегаты были переправлены посуху с моря на озеро. Нотебург, весь в дыму и крови, пал к ногам Петра Лексеича. Но владыка Афанасий скончался за пять недель до победы. Он успел попросить царя о милостях для своего духовного отца Исаакия и обители, где он возрос. И в память об Афанасии с тех пор государь не оставлял Далматову обитель своим попечением. Потому Исаакий и строил свою крепость, когда вся держава строила Петербург.
– У меня такого заступника, как Лёшка Творогов, нет, – мрачно сказал Исаакию Семён Ульянович.
Лёшкой Твороговым Афанасия звали до пострижения в монахи.
– У тебя Матвей Петрович есть, – мягко напомнил Ремезову Филофей.
– Да он меня за червя держит!
– Сам себя оскверняешь, Семён Ульяныч, напоказ в грязь кидаешься. Небось, опять с князем рассобачился? А ты попробуй с ним миром говорить.
– Пробовал!
– Не пробовал, – уверенно возразил Филофей. – Не прими в укор, Семён Ульяныч, но ведь ты исполненья своих дел жаждешь по гордыне. А гордыня – плохой советчик. Вон иконописцы древности – они перед работой постились, молились и каялись во грехах, сам Андрей Рублёв в исихазм погрузился. По укрощению страстей мастера бог его к свершениям и подводит.
– Богомазам ничего не надобно! – вспыхнул Семён Ульяныч. – Они с Господом наедине одной только кистью машут! А зодчеству подавай людей, припасы, деньги, место! Зодчество всегда на торжище!
– Я не о том. Господь всем помогает по-разному, лишь бы человек попросил. Но просьба – это умаление себя. Хоть перед кем, хоть в миру.
– Поклон спину не переломит, Семён, – согласился Исаакий.
– Худой извод перед Гагариным кланяться, – вдруг слабым голосом сказал Иоанн. – Он от лукавого кесарь, и чтить его – пагуба.
– Княже грешен, – кивнул Филофей, – но душа-то у него живая. Не дай ей пропасть, Семён Ульяныч. Пощади. Его по тебе судить будут.
Семён Ульянович ушёл из покоев митрополита в досаде и в сомнениях. Конечно, иного от попов ожидать и не следовало: «покайся», «помилуй», «попроси»… Но ведь Лука-евангелист тоже говорил: стучите, и отворят вам.
Через два дня Семён Ульянович снова явился в губернскую канцелярию и уселся перед Матвеем Петровичем, хмуро глядя в угол.
– Лаять меня пришёл? – проницательно спросил Гагарин.
– Пёс-молчун на дворе не слуга! – тотчас огрызнулся Ремезов.
– От твоей службы в моих карманах один сквозняк.
– На саване карманов нетути.
– Тьфу на тебя, Ремезов! – разозлился Гагарин. – Иди вон!
– Ну, ладно, ладно, – буркнул Семён Ульяныч. – Ну, прости, Петрович. Мы с тобой оба не подарки, дак на дворе и не праздник.
– Праздник будет, когда у тебя язык отнимется!
Ремезов тяжело вздохнул, удерживаясь от ответа, неловко приподнялся и со страшным скрипом подтащил лавку поближе к столу Матвея Петровича.
– Давай вместе придумаем, как царское дозволенье на кремль получить, – миролюбиво предложил он.
– Не до кремля мне сейчас. Там в Петербурхе Нестеров царю в уши дудит, какой я злодей, и мне тише воды ниже травы надобно быть!
Про доносы свежеиспечённого обер-фискала Матвею Петровичу от себя сообщил всё тот же Исайка Морозов, губернский секретарь.
– За печью не отсидишься. Измыслим обоюдно, как царя умаслить.
– Чем мы его умаслим?! – в сердцах спросил Матвей Петрович. – Демидов вон пушки льёт, вот царь его в лоб и целует, а нас куда целовать?
– У нас диковины разные! Возьми да мамонта моего царю отвези!
– И что ему с мамонтом делать? Скакать на ём в бой со шведом?
Семён Ульянович размышлял, чем бы ещё удивить царя.
– Могу чертёж какой-нибудь начертить.
– Есть уже.
– Знаю, где у башкирцев железная гора стоит. Атач называется.
– Это не подарок, а расход казне.
– Ежели согласишься, так на Искере колодец до дна раскопаю. По басне, туда хан Кучум перед бегством свою казну спустил.
– Клад, говоришь? – внезапно задумался Матвей Петрович. У него с молодости была прекрасная память на всякие возможные хитроумные выгоды. – Клад – оно хорошо, Пётр Лексеич любит куриозы…
– Там ствол сажен десять в глубину. Десяток солдат с лопатами нужен.
– Нет, Искер мы трогать не будем, – Матвей Петрович покачал головой. – Разроем его – свои же татары забунтуют. А вот могильное золото – это дело. Тут недавно два мужика с Тобола большой бугор в степи нашли. Мужиков зовут Макар Демьянов и Савелий Голята. Знаешь таких?
– Голяту знаю, – кивнул Ремезов. – На переписи чуть не подрались.
– Мужики укажут тебе бугор, а ты его выпотроши. И будет Петру Лексеичу подарок, какой ему по душе. А там и до кремля дойдёт.
– По рукам? – тотчас спросил Семён Ульяныч.
Глава 3
Дать понимание
Печь – не лошадь, возит только на погост. Семён Ульянович понимал это, а потому старался чаще отлучаться из дома, больше двигаться, всегда иметь какую-нибудь заботу, чтобы не слабеть в праздности. Зимой он взял за правило каждый день ходить на Воеводский двор и проверять кремль – не разворошил ли ветер кровлю из лапника. Причём по Никольскому взвозу Ремезов поднимался пешком: опираясь на палку, упрямо ковылял, загребая снег негнущейся ногой, и для равновесия широко размахивал свободной рукой. Потихоньку тоболяки привыкли, что по утрам старый архитектон, сердито сопя, карабкается на Троицкую гору сам, и с попутных дровней уже никто не предлагал ему довезти до верха.
Но сегодня у Семёна Ульяновича нашлось настоящее дело: его вызвал полковник Бухгольц. Пёс знает зачем. Может, из-за Петьки?.. Никольская церковь, круглая Орловская башня, Святые ворота Софийского двора, Гостиный двор… Хмурый весенний день, кучи грязного снега, вытоптанные до черноты дороги, белёные стены, подмокшие понизу, и обсохшие на ветру тесовые шатры… Мужики, бабы, купцы, монахи, дьячки, лошади с санями, собаки, мальчишки… Семён Ульянович вошёл в Гостиный двор через выезд под часовней, протолкался через торжище, здороваясь направо и налево, и вышел через въезд под таможней. Софийская площадь была освобождена от лавок и балаганов и расчищена солдатами под плац. Народ пробирался на Воеводский двор стороной – вдоль частокола, который огораживал площадь с севера, или через ложбину Прямского взвоза, запертого на спуске громадой недостроенной Дмитриевской башни с двумя сквозными арками. А Семён Ульянович застрял в толпе зевак под обветшалой Спасской башней.
На площади трещали барабаны и сновали солдаты, разбираясь по своим ротам. Семён Ульянович понадеялся увидеть там Петьку. Этот стервец, как записался в армию, перестал чтить отца и мать родных: усвистывал из дому ни свет ни заря и возвращался перед сном, ничего не рассказывал, только шептался с Леонтием про пистолеты и заточку сабель, а на расспросы дерзко огрызался, будто родители ему враги хуже шведов. Он совсем отделил себя от семьи, хотя Семён Ульянович и Ефимья Митрофановна давно простили ему самовольство и только хотели знать, как он служит. Не ругают ли его начальники? Хорошо ли кормят? Не мучают ли маршировкой дурацкой и упражнениями, когда рекруты тычут друг в друга деревянными штыками?
Рекруты на площади были одеты кто во что: одни – уже в мундирах, другие – ещё в домашнем, но все по уставу обмотались ремнями с амуницией. Сержанты раздавали из коробов бумажные патроны – по три в одни руки. Семён Ульянович знал, что патроны холостые, с войлочными катышками вместо пуль: при народе нельзя стрелять настоящими пулями, подшибут какого-нибудь любопытного болвана или бабу полоротую, да и беречь надо было снаряды, пуля не пчела, в шапку не поймаешь.
– Вторая рота, то-овсь! – закричал унтер-офицер.
Толпа солдат обретала стройные очертания батальона.
– Барабанщики, артикулы пять, девять, один! – командовал поручик Кузьмичёв, ровняя шеренгу парней с красными барабанами.
За суетой, заложив руки за спину, наблюдал майор Шторбен.
– Бей! – решительно приказал Кузьмичёв.
Барабаны зарокотали. Прямоугольник из сотни солдат – вторая рота – чуть дрогнул, схватываясь общностью воинского строя, и единым дружным шагом слаженно двинулся вперёд. Толпа зевак загомонила, впечатлённая зрелищем. Человеческое разнообразие рекрутов исчезло: через истоптанную площадь в грохоте барабанов грозно и тяжко наступало огромное угловатое существо, какое-то неживое, неумолимое и угрожающее. Семён Ульянович сразу вспомнил слова Ваньки Демарина, что сражения теперь – это сложные перемещения полков меж редутов и фельдшанцев, поддержанные пушечным огнём с флешей, это остановки для ружейных залпов и пропуска эскадронов, летящих в атаку, это натиск штыковым строем и в итоге – рукопашная. И всем там страшно. Души обмирают, когда друг на друга идут безжалостные батальоны, в которых все солдаты безлично подчинены закону убийства.
Треск барабанов переменился. Колонна рекрутов из длины внезапно потянулась в ширину, ряды развернулись перед толпой в шеренги и встали.
– Плечо! – требовательно скомандовал Кузьмичёв.
Рекруты скинули с плеч ружья.
– Полка! Патрон! Скуси! Дуло! Шомпол! Мушкет! На взвод! Цель! – строго командовал Кузьмичёв, хмуря брови.
Несколько общих движений локтей и рук – и вскоре шеренга солдат ощетинилась стволами ружей, нацеленных на зевак. И тут перед рекрутами из толпы выскочили отчаянные мальчишки. Они давно вертелись в тесноте народа, ожидая, когда солдаты поднимут ружья. Прыгать и кривляться под учебную пальбу стало любимой потехой тобольских сорванцов.
– Братцы, пуляйте! – закричали они. – Мы шведы! Пали по нам!
– Огонь! – не дрогнув лицом, выкликнул Кузьмичёв.
Перед шеренгой просторно раскатился широкий грохот залпа. Взвились синие дымки, в мальчишек полетели войлочные катышки.
– Бесенята! – охнули в откачнувшейся толпе.
У Семёна Ульяновича от ужаса чуть не подогнулась нога.
Каждая шеренга солдат была плутонгом, которым командовал сержант. По правилам боя, передний плутонг давал залп и сразу же убирался назад, выстраиваясь в тылу своей роты последней шеренгой. Вот и сейчас солдаты передней шеренги повернулись и словно растворились между товарищами, а перед толпой зевак оказалась шеренга второго плутонга с уже нацеленными ружьями. Залп, краткая суета убегающих, и перед толпой теперь стоял третий плутонг. Залп, суета убегающих, и перед толпой – четвёртый плутонг. Пока до первого плутонга доходила очередь снова оказаться на первой линии, солдаты успевали достать из подсумка патрон, скусить его кончик, зарядить в ружьё и бросить в дуло круглую пулю, потом шомполом забить пыж, прижимающий пулю к патрону, и взвести боёк кремнёвого замка. Стреляя сменными плутонгами, рота вела огонь без остановки.
А мальчишки вопили и визжали, хватались руками за животы, падали в грязь и корчились, разыгрывая убитых шведов, опять вскакивали и вопили, в упоении призывая палить по ним. Каждый старался превзойти остальных в изображении врагов, которые погибают легко, смешно и позорно.
Содрогаясь в душе, Семён Ульянович понял, какая смертоносная сила заключена в этой воинской премудрости. Вот о чём талдычил ему в те дни Ванька Демарин… Хрен приблизишься к строю, который залпами извергает смерть на супротивника… Но бог с ним, с Ванькой. Где Петька? Сына Семён Ульянович на площади не заметил. Наверное, он в другом батальоне.
Семён Ульянович протолкался сквозь взволнованную толпу и пошагал к Воинскому присутствию через пустую стройку кремля, оставленную на зиму в бездействии. К башням и стенам декабрьские вьюги намели языки снега, а сейчас, весной, они покрылись зернистым настом. Покатые сугробы осели и обтаяли с южной стороны, оголив склоны земляных куч, круглые бока лежащих бочек и смёрзшиеся кучи тёсаных досок. Над бугристым пустырём вкривь и вкось торчали решетчатые клети строительных лесов.
На бывшем Драгунском подворье теперь царил совсем иной порядок. У ворот ходил строгий караул; сам двор был расчищен от снега так гладко, что хоть половики расстилай; в ряд стояли гружённые тюками сани; поленница вытянулась ровненько-ровненько, подобранная полешко к полешку. Никто нигде не валялся с похмелья, не дулся в карты, не бродил, скучая от безделья.
Ординарец ввёл Семёна Ульяновича в горницу и щёлкнул каблуками. В горнице вдоль стены друг на друге громоздились сундуки, засмолённые бочонки и ящики, обтянутые парусиной. В углу возле зачехлённого знамени торчал усатый часовой в мундире и треуголке, с лентами поперёк груди и с ружьём. В новом большом киоте свежей позолотой сияли иконы.