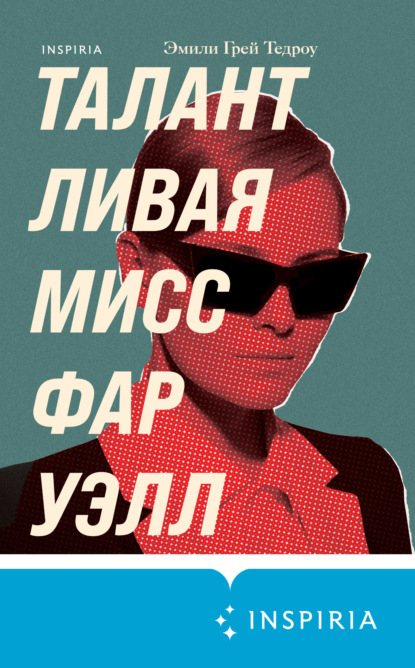Полная версия
Учитель драмы
В пабах отец изображал из себя Гудини, развлекая туристов на мотоциклах, которые взамен угощали его выпивкой. Он умел делать трюк со скачущей зубочисткой. Или он спорил с кем-нибудь, что прикончит три пинты пива быстрее, чем оппонент – три рюмки. Больше всего впечатляло его умение дымить пальцами – секрет заключался в том, что он сжигал боковину спичечного коробка и втирал остатки в большой палец.
Для магазинов у нас с папой была выработана целая схема грабежа. Он заполнял рюкзак продуктами и оставлял его где-то в дальнем безлюдном проходе. Потом в магазине появлялась я, подбирала рюкзак и через главный вход давала стрекача до самого отеля, где мы встречались после того, как папа пропустит пару стаканчиков.
В Пиле не было плохо – лучшие закаты на острове и самое вкусное мороженое. Здесь был форт под уморительным названием «Магнус Бэрфут»[39]. Отец захотел посмотреть на водопад в Глен Мэй, так что мы помочили руки в его мощном потоке. Отец захотел сходить в музей Мананнана[40], так что мы узнали миф о волшебной чаше этого морского божества, которая раскалывалась каждый раз, когда кто-то три раза произносил над ней ложь.
– Ну все, нам крышка! – пошутил папа.
Я хитро прищурилась и улыбнулась. Чем дольше отец держал меня вдали от других детей, тем сильнее я путалась, где кончаются его преступления и начинаются мои. По-воровски пробираясь по улицам, с тоской смотрела на школьниц в форме и на девчонок с велосипедами, которые вставляли игральные карты в спицы.
– Давай, попросись к ним, – сказал мне отец, заметив, как я разглядываю группу детей. Они разрисовывали репу, готовясь к чему-то под названием Hop tu naa (только в двенадцать лет, когда я уже год жила на острове, до меня наконец дошло, что так они называли Хэллоуин).
Щеки вспыхнули от неловкости. Я покачала головой – безнадежна.
– Что не так?
– Я не такая, как они.
– Почему?
Можно было выделить три причины, не отдавая ни одной особого приоритета:
1. Ни денег.
2. Ни школы.
3. Ни мамы.
Эта триада сводила меня с ума. Мои мысли носились по бесконечному кругу: деньги-школа-мама.
– Давай, рассказывай, – настаивал папа. Он был навеселе и пах послеполуденным пивом, так что поведать ему о печалях можно было без опасений.
– И это все? – он рассмеялся. – Да мы на раз-два с этим разберемся, как думаешь?
Я кивнула и просияла, подумав, что мы наконец вернемся обратно в Ирландию.
– Так чего же мы ждем? – спросил он, доставая пачку сигарет. – Приступим!
Замечтавшись о вексфордской клубнике, виклоуском ягненке и указателях на ирландском языке, я даже не заметила, как мы вошли в здание Гленмейской Начальной Школы. Папа облокотился на стойку регистрации и выразительно продекламировал свой любимый монолог: что он «американец» по происхождению; что я англичанка (как и моя «покойная» мать) и что мы переехали на остров из-за налогов (он полагал, что так мы кажемся «солиднее»).
– Мне только понадобится свидетельство о рождении, – сказала секретарь.
– Мы отправили его почтой на прошлой неделе, – сказал мой отец, глазом не моргнув.
– Боже, – пропыхтела женщина, перерыв все ящики с файлами. – Я прошу прощения. Я совсем недавно здесь сижу. Оно найдется, я уверена. – Она передала моему отцу лист бумаги. – Вот адрес местного магазина, где продается школьная форма. Вам нужно взять зеленый килт, не синий! Потому что вы в начальной школе.
– Голубой килт. Понял.
Она расхохоталась так, что ее грудь затряслась. Протянув руку и «неформальным» жестом коснувшись руки отца, она повторила:
– Я сказала зеленый.
– Точно. Прошу прощения. Мы, отцы-одиночки, просто безнадежны. Не могли бы вы, пожалуйста, написать ваш телефон на обратной стороне? Просто на тот случай, если я решу купить ей бронзовый кардиган.
В моей памяти все девочки из Гленмейской Начальной Школы слились в одну составную мэнскую школьницу. Она была блондинкой в зеленом кардигане с пухлыми щеками от маминых ужинов и аккуратной прической, потому что заплетал ее кто-то трезвый.
Мои одноклассницы считали меня «чудилой», и не только из-за моего «английского» акцента (хотя вместо того, чтобы стать Генри Хиггинсом, я так и осталась Элизой Дулитл[41]). Я стала общепризнанным изгоем, потому что мы с папой начали ходить в Кафедральный собор Пила, а католиков на острове было примерно столько же, сколько и солнечных дней.
После опыта с Маргейд мой отец осознал, что женщин, склонных к самопожертвованию, лучше искать там, где на стене висит изображение Мессии. Как и большинство идей папы, это сработало. Католические мессы – источник массы женщин, изголодавшихся по вере хоть во что-нибудь. Можно даже сказать, что именно религия приводила их к отцу: ведь в ней вера всегда главенствует над разумом. Как только мы начали посещать службы, проблемы с провизией и перемещением по городу исчезли. Женщины из церкви обеспечивали нас домашней едой и возили отца по городу, словно он Герцог Эдинбургский. Они даже организовали приходской вечер одиноких сердец специально для папы, где он встретил женщину по имени Ниниан (за глаза папа называл ее «Нюней»).
Они сходили на несколько свиданий – сначала одни, а потом со мной на буксире. Как-то мы пошли в паб, я пила колу, а папа обхаживал Нюню, делая вид, что уже все про нее знает.
– Могу поспорить, тебе нравятся детишки, – сказал он.
– Конечно! Особенно твоя девочка, – Нюня повернулась ко мне. – Я так рада, что ты смогла к нам сегодня присоединиться. – Потом снова обратилась к отцу: – Она такая взрослая. Прямо настоящая маленькая леди.
Я жевала свои чипсы и искоса поглядывала на нее.
– Могу поспорить, тебе нравится пить красное вино на пляже, – сказал папа.
Нюня рассмеялась и поправила его:
– Вообще-то белое.
– И еще я могу поспорить, что тебе нравятся симпатичные голубоглазые американцы. Уж здесь я точно не ошибаюсь!
– Ха-ха. Ты прав!
– Что же, кажется, у нас есть план. Пляж, белое вино и игры в угадайку с голубоглазым американцем и его прелестной дочерью.
А потом, когда мы вместе сидели у моря, папа обнял Нюню за талию:
– Если мы хотим стать чем-то особенным друг для друга, ты должна знать… Есть одно правило.
– Какое?
– Вернее, два правила.
– Ну, какие же? – воскликнула Нюня с девичьей непосредственностью, для которой у нее было слишком много лишнего веса и мимических морщин. Она была «симпатичной» женщиной, что в моем понимании почти всегда приравнивалось к «высокой». Ее ноги напоминали немецкую архитектуру – так говорил папа.
– Правило первое – поцелуев будет столько, сколько только возможно.
Нюня сразу подчинилась, подавшись вперед, чтобы коснуться губами его уха.
Я стояла неподалеку, швыряла камни в воду и притворялась, что не слушаю.
– Во-вторых, мы не можем съехаться… Но вторым правилом можно поступиться, если для тебя это важно.
Реверсивная психология сработала идеально, и в мгновение ока мы уже переехали в Нюнин недешевый коттедж в деревушке под весьма ироничным названием Портаун[42].
Ироничным, очевидно, потому, что бедной Нюня не была. Развод и последовавшие за ним выплаты алиментов позволили ей наполнить свой дом шиком восьмидесятых. У нее было несколько телефонов, клюшки для гольфа и современная мебель с белоснежными пластиковыми панелями. Даже была микроволновка – немыслимая роскошь – и каждое утро она ею пользовалась, чтобы мгновенно подогреть запеченный картофель, завернуть в фольгу и уложить в мой ланчбокс. Казалось, что я предала мамины сэндвичи с ветчиной и сливочным маслом, так что каждый день я запихивала картошку в школьную парту и оставляла гнить.
Как я теперь вспоминаю, характеристики из школы сообщали по большей части о моем «нежелании» вписываться и адаптироваться. Думаю, доля правды в этом была. Отъезд из Ирландии вселил в меня чувство обособленности, скрывать которое я не умела. Вместо того чтобы все-таки попытаться, я начала строить из себя отщепенку, жутковатую рыжую девчонку, которая на всех странно пялится и предпочитает одиночество. Я вела себя эксцентрично: например, демонстративно читала книги с папиными стихами или поджигала пластиковые спинки сидений в школьном автобусе. У меня всегда были сальные волосы, а кардиган так лип к ребрам, что всем было понятно, что я не ем целыми днями.
Еда ассоциировалась у меня с домом и заставляла сильнее всего скучать по маме, поэтому я выживала на жвачках и воздухе. Чем голоднее я становилась, тем больше забывала – и тем яростнее мой недокормленный мозг пожирал себя. Я не могла вспомнить звук маминого голоса или ее подарок на последний день рождения. Из-за всего этого казалось, что как-нибудь я проснусь и не вспомню, как с ней связаться, если вдруг решусь.
Так что однажды я подняла крышку своей школьной парты и циркулем нацарапала свой старый телефонный номер, и как только все цифры обрели понятные очертания на школьной собственности, я почувствовала себя лучше. Моя история больше не была лунным бликом на воде. У нее была своя сила и форма.
Тем вечером телефон прозвонил как-то иначе. Рационально я понимала, что такого быть не могло, но, клянусь богом, будучи в каком-то кристально-чистом всеведенье, я поняла: это звонит учитель.
При общении с власть имущими мой отец пользовался гримасой изумления. Точно такая у него была на случай, когда кто-то убирает за своей собакой на пляже. Казалось, рассказ учителя о моем нарушении его больше развлек, нежели разозлил. По крайней мере, так было, пока он не спросил:
– Просто любопытно, а что это был за номер? Который она нацарапала на своем столе, полном мусора?
Последовала долгая тишина – вероятно, учитель зачитывал цифры вслух – и он уже с выражением беспокойства опустил глаза на мой табель. Почти сразу он бросил трубку и позвал меня наверх, подальше от обеспокоенного лица Нюни, которое так и просило кирпича.
Когда дверь за мной закрылась, я ожидала, что отец меня выпорет. Вместо этого он сел на кровать и оперся локтем на одно колено. Вся злость куда-то испарилась, и он бережно – очень бережно – со мной заговорил.
– Ты была такой хорошей девочкой с тех пор, как мы уехали от Мардж. Я знаю, этот год был непростым. – Он притянул меня к себе, чтобы я могла устроиться у него под боком.
Его внешность сильно поменялась после того, как мы приехали на остров: лицо потускнело и стало более одутловатым. Но, положив голову ему на грудь, я почувствовала, что в нем самом только кожа да кости. Тогда во мне зародился новый страх: а что, если я тоже теперь выгляжу иначе? В тот момент я твердо решила оставаться настолько собой, насколько это возможно, чтобы мама смогла меня узнать.
– Ты превратилась в английскую девочку прямо у меня на глазах, – продолжил папа. – Ты вложила в это всю душу. Ты заставила меня тобой гордиться. И я не хотел все портить разговорами о маме. Но теперь ничего другого не остается из-за этого «акта вандализма», как выразился твой учитель.
Я хотела что-то сказать, но слова застряли у меня в горле.
– Ты не сможешь ей позвонить, – сказал он. – Ее нет.
Первая мысль: «А где она?» Я не могла придумать ни единого способа найти маму, если она переехала. Хотя можно было попробовать поискать на острове ирландский телефонный справочник…
Я не понимала, сколько мы молчим – время будто перематывали, как кассету. Меня охватил страх. Лицо отца казалось чужим.
– Ты меня понимаешь? – он помахал рукой у меня перед глазами. – Твоя мать мертва.
Затошнило. Под тонкой тканью кардигана выступил пот.
– Как? – сумела я произнести.
Он выглядел потерянным, его тоже захлестнули эмоции.
– Она покончила с собой. Утопилась. Понимаешь?
– Где? Когда?
Он помолчал, зная, что эти детали сделают мне только хуже.
– Уотерфорд. Несколько недель назад.
Напоминало чувство вины: мы часто выбирались туда на каникулы всей семьей. Неожиданно мне захотелось, чтобы у Нюни было пианино. Я извлекла бы из него такую мелодию, которая обратила бы все остальное в белый шум.
– Как ты узнал? – спросила я, дрожа всем телом.
– Ты помнишь Джеймса? Мы поддерживали связь.
Я помнила Джеймса. Самый толстый, самый противный отцовский приятель со стройки. Мама презирала его. Отец же относился к нему с антропологической привязанностью – как Джейн Гудолл[43] любила своих шимпанзе, но никогда не считала себя одной из них. Если бы мама узнала, что новость о ее смерти сообщил Джеймс, она бы еще раз умерла.
– Нам нужно вернуться на ее похороны.
– Они уже были.
– Нет.
– Да. Мне очень жаль, малышка. Они были в прошлую субботу. Джеймс сказал, что все было так, как она сама бы хотела. Везде стояли вазы с желтым зеленчуком, священник спел псалом, который ей нравился. Помнишь, тот, который начинается с «Рассуди меня, Господи»?
Я вынырнула из-под папиной руки и спряталась под одеяло. Закрыв глаза, я надеялась, что шок и тошнота уйдут. Не спала, а пребывала скорее в вегетативном, обморочном состоянии: глаза были закрыты, а мир вокруг шумел и бил тяжелыми волнами.
Сон не смог выжечь сидящее глубоко ощущение, что виновата я. На следующее утро, проснувшись в той же позе, в какой уснула, я нашла на подушке подарок от Нюни. Молитвенная карточка. На картинке была изображена святая в голубой накидке с удивленным, растерянным лицом ребенка: Мариана, святая покровительница потерянных родителей.
Все стало понятно.
Я таращилась на святую сироту и осознавала, что было слишком поздно каяться в своих грехах. День ярмарки – не единственный раз, когда я бросила маму. Каждый раз, когда видела полицейского и не обращалась к нему, каждый раз, когда преклоняла колени на исповеди и говорила, что мой самый тяжкий грех – помянуть имя Господа всуе, я отказывалась от своей матери. Ее смерть – наказание мне, и приговор соответствовал преступлению. Покинув маму, я заслужила ее потерять.
Трейси Бьюллер
Есть места горние,Куда нас не зовут,Склоны горные, лицаСуровые, целыеСтороны, чьи именаНам не узнать…Кей Райан, Без именГлава восемь
В прежние времена, в нашем доме в Катскилле, дети во сне вечно пускали слюни, а в их общей спальне постоянно стоял спертый запах пота и влажных подгузников. Но в гостевом коттедже Мелани, где главный кондиционер беспрерывно гонял по комнате охлажденный воздух, они выглядели как барочные херувимы на пуховом облаке.
И не только дети чувствовали себя лучше у Эшвортов. Не считая необходимости отвечать на звонки Рэнди (перекидывать их на Фитца не получалось, потому что он обычно был слишком взвинчен, чтобы говорить долго, а Рэнди слишком занят, чтобы действительно его слушать), я была освобождена почти ото всех ежедневных обязанностей. Мне не нужно было убираться, потому что это делала Джаниса, или готовить, потому что Мелани почти каждый день приглашала присоединиться к ним с Габи за пиццей с салатом кейл или «пастой» из киноа. В Вудстоке я снова начала смеяться, шутить и, что важнее всего, по-настоящему общаться с детьми. Вместе мы исследовали территорию, скакали по грязи за лягушками, собирали нагретую солнцем чернику. Мы играли с чужими игрушками, читали книги Эшвортов, нежились в их органических пенах для ванн и смотрели их телевизор с двумястами каналами в высоком разрешении.
При этом нельзя сказать, что Мелани составляла мне плохую компанию. В моменты обострения сарказма она потешалась над своими соседями – «хиппи на полставки» – с ней даже можно было неплохо повеселиться. Меня поражала ее энергия, особенно когда она занималась на заднем дворе йогой, для которой была явно слишком взбалмошной и нервной. Будто американская чирлидерша, она сгибалась и разгибалась в позе воина. Аплодисментов была достойна и ее дерзкая гламурность: она тратила больше часа на уход за волосами, пока местные женщины высшего класса отказывались от эпиляции и пахли маслом гхи.
Почти весь июль я активно принимала участие в ее вечерних заплывах в личной купальне. Когда дети уже были в кроватях, мы отправлялись оттуда вброд по реке Соу Килл, держа бокалы с вином над головой.
Мелани была не самым ловким пловцом и часто жаловалась на сильное течение, ведь сама она выросла в спокойном христианском пригороде, где в каждом водоеме были ограждения, похожие на жемчужные нити, и спасатели под боком.
Теперь ей нравилось плескаться голышом недалеко от берега, где вода была спокойнее. Потом она забиралась на матрас из пенки и прятала свой «бюст» в бюстгальтер, пока я скромно отворачивалась, слушая ее щебетание. Внимала ее описаниям лета на побережье в Джерси в детстве. Я схватилась за сердце, когда она шепотом призналась, что двадцатилетний парень ее изнасиловал, хотя она говорила, что не была готова к сексу. Она все рассказывала. Все. Об опустошении после смерти матери. Обо всем, что считала «зазорным» рассказывать в трезвом состоянии.
«Я люблю-ю-ю тебя», – говорила она в конце каждой исповеди, всегда одинаково растягивая слова и как будто бы в нос. От этой манеры у меня сводило зубы.
Я пыталась отвечать ей взаимностью изо всех сил. В конце концов, тщательное изучение всего, связанного с ней, и было своего рода любовью. Когда она закончила очередной номер «О Мэгэзин», я незаметно его стянула и почитала о неустанной борьбе за «лучшую версию себя». Я прослушала плейлисты Мелани, рассматривая их как ключ к ее подсознанию. Немного пугающим было то, что в подборке воодушевляющих гимнов для девичника нашлись песни о предательстве: Кэти Перри, падающая в темноту с разбитым сердцем[44], и Тэйлор Свифт с ее щебетанием – «Как странно, что я совсем тебя не знала»[45].
– Моя свадьба – это просто чума, – выпалила она как-то во время нашего очередного похода через реку, закрывая собой пушистое облако, розовое от заката.
– Чума?! – спросила я, будто знала единственное значение этого слова – «инфекционное заболевание». Как и Рэнди, Мелани любила объяснять мне американские идиомы. Это утверждало ее в мысли, что я была бестолковой иммигранткой без намерения обвести ее вокруг пальца.
– Ну, то есть это лучшая свадьба, на которой я когда-либо бывала. Я знаю, это звучит ужасно. Очень самонадеянно и ограниченно. Но в том году еще три мои подруги выходили замуж, и, смотря на их фуршет и цветочные композиции, я все думала: «У меня было лучше».
Беседы с Мелани всегда крутились вокруг «вещей». Она стала описывать декоративные аквариумы и свое платье за четырнадцать тысяч долларов, навевая на меня такую скуку, что я уже начала рассматривать скалу из песчаника на другом берегу.
– Что же, свадьбы надолго впечатываются в память, – сказала я, – человеку нужно думать о чем-то.
Она стояла по пояс в воде, стараясь приспособить доску для плавания Габи под поднос для коктейлей.
– А какая у тебя была свадьба? Я во время своей была как на иголках и постоянно ждала, что что-то пойдет не так. Виктор был таким хорошим, что и поверить было сложно.
– Это почему? – спросила я.
– Ну, Вик был даже слишком внимателен, понимаешь? И эти его бесконечные широкие жесты… Но чего уж говорить, это было до того, как он бросил меня как дурную привычку и уехал в Лондон. Что, в некотором смысле, тоже можно назвать широким жестом. Ха! Ты была так же безумно счастлива в день своей свадьбы?
– У нас была замечательная свадьба, – сказала я, все еще не отрывая глаз от каменного массива.
На самом деле я обливалась холодным потом весь «день своей свадьбы», преодолевая этап за этапом этой скромной церемонии, ведь так и не сказала Рэнди, что все еще была замужем за сидевшим в тюрьме Озом. Рэнди, борясь со страхом, доверил все юридические аспекты мне. Каждую минуту я ждала, что он повернется и начнет задавать более серьезные вопросы по поводу брачных документов, которые я попросила его заполнить, но в итоге так никому и не отдала.
– Мы провели церемонию на Дорожке Поэтов в Райнбеке. Свидетелем был коллега Рэнди. Кольца нес Фитц.
Я все еще помнила, как Рэнди, сбиваясь от волнения, произносил: «Грейси, ты подарила мне семью, когда я нуждался в ней больше всего. Твое обаяние очаровывает меня, твой ум заставляет меня расти, а твоя искренность меня восхищает». Ха-ха.
К моему великому облегчению, после обмена кольцами Рэнди был настолько поражен своим великим свершением, что влил в себя галлон шампанского и протанцевал всю ночь в «Траттории Гиги», которую мы сняли для приема гостей.
– Твоя мать была там? – спросила Мелани. – А отец передал тебя жениху?
– Ты когда-нибудь оттуда прыгала? – спросила я, указывая рукой на скалу.
– Прыгала в воду? Ты с ума сошла?
– А там высоко? Футов двадцать, как думаешь? Может, двадцать пять?
– Наверняка.
– Я хочу попробовать прыгнуть.
Папа превратил меня в адреналиновую наркоманку. Свои лучшие отцовские качества он проявлял на ярмарках и в аквапарках – в тех местах, где пульс зашкаливает от волнения и страха.
Оз тоже любил опасные развлечения. Наверное, поэтому мы так быстро поладили. После свадьбы мы занялись сквоттингом – жили в пустых лондонских квартирах. Когда у нас появились деньги, мы прыгнули с тросами с Лондонского моста. Мы даже взяли с собой пару бесстрашных «клиентов» прыгнуть с нами с парашютами в Стамбуле.
– Не-е-е-е, – завизжала Мелани, которой все это явно нравилось. – Слишком высоко!
– Высота не ускоряет падение. На самом деле на больших высотах притяжение слабее.
– Правда?
– А ты не изучала физику в университете?
Она покачала головой. Она только два года отучилась в Ратгерсе.
– Расслабься, – сказала я и отшутилась: – Я не собирась подавать на тебя в суд, если сломаю ребро.
Она показала язык.
– Там уже все равно не моя территория. Границы собственности проходят по середине реки.
– Ну, твоих соседей я тоже не засужу. Сначала удостоверюсь, что там безопасно.
Я сказала ей, что ныряла с гораздо более высоких скал на Лазурном побережье, и это было правдой.
Хоть река и была глубокой, я занырнула на самое дно, чтобы удостовериться – не хотелось сломать шею при прыжке. Расстояния должно было хватить, так что я уцепилась за ближайший выступ и по крутому подъему полезла наверх, отчего заныли лодыжки.
С высоты вода казалась тише, изредка беспокоясь волновой рябью. На противоположном берегу стояла Мелани и мелодраматично прикрывала глаза рукой.
– Я не могу на это смотреть! Ой, Трейси! Не надо!
Но я уже сделала шаг навстречу беспечному полету: прямые ноги, носки вытянуты. Приближаясь к поверхности воды, я открыла глаза – ошибка новичка. От удара голову откинуло назад, и я на секунду ослепла. Погружение казалось очень долгим, и как только я обрела контроль над телом, стремительно вынырнула, опьяненная и напуганная.
– Боже мой! Боже мой! Ты в порядке? – кричала мне Мелани.
– Это было восхитительно! – ответила я ей. – Ты должна попробовать!
Я плыла к берегу, чтобы прыгнуть еще раз, но наткнулась на огромный камень, скрытый водяной гладью. Он был всего в нескольких футах от места, где я вошла в воду. От мысли о том, что я могла в него врезаться, адреналин подскочил. Тогда бы я попала в больницу, где лечить бы меня не стали, если бы получилось спрятать свое удостоверение личности. В противном же случае Мелани узнала бы мое настоящее имя.
От этого в голове зазвенело, и на секунду на меня напала паранойя.
– Ты знала, что тут камень? – крикнула я.
Но уже изрядно подвыпившая Мелани меня не слышала. Плескаясь на мелководье, она кричала:
– Боже мой! Я бы никогда так не смогла! Мне даже смотреть на тебя было страшно!
Я поплыла к ней, но когда оказалась рядом, не смогла вставить ни слова – она все повторяла по кругу:
– Ты такая храбрая! Ты бы себя видела!
Решила молчать, и так запыхавшись от плавания и прыжка. Незачем было рассказывать о том, как меня трясло. Гораздо лучше, если в ее глазах Трейси Бьюллер осталась бы сильной женщиной, которая делает все с уверенностью и легкостью.
– Ты будто левитировала! – продолжала Мелани в приступе восторга. – Или занималась йогой! Поза горы! Это было так грациозно!
– Ой, ну конечно, – произнесла я, источая сарказм, пока завязывала волосы. – Мисс Грация[46], ага? Да, это точно я.
Вечерние заплывы были одной из самых приятных повинностей в качестве гостьи Мелани. Были другие, просто ужасные, – например, подача заявления в Программу для Иностранных Архитекторов Широкого Профиля. Предполагалось, что после ее окончания меня сертифицируют как архитектора в Штатах, основываясь на моей «зарубежной квалификации».
– Все говорят, что это легко, – твердила мне Мелани, пытаясь придать беззаботность своему глубокому, тяжелому взгляду. – Никакого давления, разумеется. Если НСРКА[47] не примет твою заявку, я просто найду инженера, чтобы он получил разрешение на строительство.