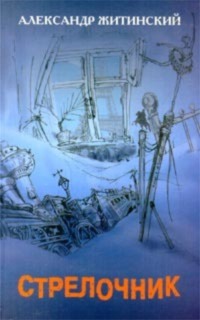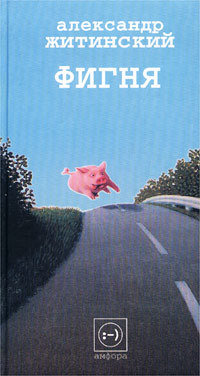Полная версия
Гейша

Гейша
Питонов закрыл глаза и сидел так с минуту, отдыхая. А когда раскрыл их, то увидел новую посетительницу. Она была в длинных белых одеждах.
«Фу ты, черт! Накрасилась-то как!» – неприязненно подумал Питонов.
– Специальность? – строго спросил он.
– Гейша, – сказала женщина.
Питонов прикоснулся пальцами к векам и почувствовал, какие они горячие. Он опустил руки, перед глазами поплыли фиолетовые круги. В фиолетовых кругах, как в цветном телевизоре, сидела женщина и смотрела на Питонова.
– Как вы сказали? – осторожно спросил он, мигая, чтобы круги исчезли.
– Гейша.
– А что вы… э-э… умеете делать?
– Я гейша, – в третий раз повторила женщина. Она, видимо, считала ответ исчерпывающим.
– Хорошо, – сказал Питонов. – Хорошо…
Он посмотрел в окно. Там все было на месте. Питонов потянулся к звонку, чтобы вызвать секретаршу, но ему стало стыдно. Он сделал вид, что передвигает пепельницу.
– Курите… – зачем-то сказал он и с ужасом почувствовал, что краснеет. Это было так непривычно, что Питонов на мгновение растерялся.
Женщина закурила, помогая Питонову справиться с волнением. Он снял телефонную трубку и решительно подул в нее.
– Шестой участок? Вызовите Долгушина…
Питонов взял карандаш и принялся чертить восьмерки на календаре. Спокойствие вернулось к нему.
– Долгушин? Слушай, Долгушин, тебе люди нужны? Тут у меня… гражданка… Нет, не станочница. И не подсобница… Кто! Кто! Гейша! – выдохнул Питонов и подмигнул гейше. – Ты мне, Долгушин, прекрати выражаться! Я тебя спрашиваю: тебе гейши нужны? Нет, так нет, и нечего языком трепать!
Питонов повесил трубку и виновато взглянул на гейшу.
– Конец рабочего дня. Все нервные какие-то… Знаете что? Зайдите завтра, что-нибудь придумаем.
Когда гейша ушла, Питонов подошел к окну и внимательно посмотрел на свое отражение в стекле. «Старею», – подумал он, трогая виски.
Он выключил свет и пошел домой.
На Садовой что-то строили. Питонов шел под дощатым козырьком вдоль забора, на ходу читая приклеенные к забору объявления.
«ТРЕБУЮТСЯ ГЕЙШИ», – прочитал он и остановился. Гейши требовались УНР-48. Объявление было напечатано на машинке. Был указан телефон. Питонов на всякий случай записал его в книжку и пошел дальше.
«ПРЕДПРИЯТИЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ГЕЙШИ». Этот плакат, выполненный краской на фанерном листе, Питонов заметил на трамвайной остановке. Он улыбнулся ему, как доброму знакомому. И уже в трамвае, развернув «Вечерку», прочитал, что «тресту „Североникель» требуются дипломированные гейши с окладом 120 руб.».
«Дурак Долгушин», – подумал Питонов, пряча газету в карман.
Дома Питонов долго ходил по комнате, насвистывая «Марсельезу». Потом он пошел к соседу за словарем иностранных слов. Объяснение слова показалось ему обидным, и он посмотрел год издания словаря. Словарь был издан десять лет назад.
– Ну, это мы еще посмотрим! Это мы еще поглядим! – весело сказал Питонов словарю и отнес его обратно.
На следующее утро Питонов пришел на работу в выходном костюме. Он распорядился, чтобы у проходной повесили объявление о гейшах, а в кабинет поставили цветы.
Но гейша не пришла.
Еще через день Питонов дал объявление в «Вечерку». Гейши не было.
Через неделю он снова позвонил Долгушину.
– Ну что? Так и работаешь без гейши? – спросил Питонов. – Эх, Долгушин, Долгушин! Отстаешь от времени. От времени, говорю, отстаешь. Вот что, Долгушин, кто у вас там есть пошустрей? Коноплянникова Мария? Готовь приказ. Временно назначим ее исполняющей обязанности гейши. Я подпишу… Почему сдельно? Удивляюсь я тебе, Долгушин. Ты что, газет не читаешь? Поставим ее на оклад. Все у меня.
Осенью, просматривая записную книжку, Питонов наткнулся на телефон УНР-48. Под ним было написано «ГЕЙША» и подчеркнуто двойной чертой. Что-то шевельнулось в душе Питонова. Он посмотрел на голубую стену кабинета, на фоне которой когда-то впервые увидел гейшу, и позвонил в УНР.
Ему сказали, что новая гейша с работой справляется хорошо.
«Какую гейшу прохлопали! – подумал Питонов и вычеркнул номер из книжки. – Надо переводить Коноплянникову Марию на постоянную должность… Надо переводить».
И он устало закрыл глаза.
1972Балерина
В обеденный перерыв Савельев выскочил из проходной выпить пива. Он занял очередь, но тут мимо прошла балерина, задев его крахмальной пачкой. Никто не обратил на нее особого внимания, только продавщица в своей будке неодобрительно сказала:
– Задницу даже не прикрыла! Срамота одна!
Но Савельев этого не слышал, потому что уже отделился от очереди и поплыл за балериной, как воздушный шарик на ниточке. Он забыл о пиве и о том, что обеденный перерыв кончается.
Она шла по тротуару, как часики на рубиновых камнях: тик-так, тик-так. Дело было в июле, и за ней оставались следы. Следы были небольшие, глубоко отпечатанные в горячем асфальте. Это были следы ее пуантов.
Они выглядели как отпечатки маленьких копыт какого-то симпатичного животного.
Савельев попробовал было тоже идти за ней на пуантах, ступая след в след, но чуть не сломал палец на ноге. Тогда он отбросил эту мысль, тем более что мужчина в комбинезоне, шагающий на пуантах, вызывает вполне естественное недоверие.
В глубоком детстве родители учили Савельева игре на домре, но он стал слесарем.
Он шел за ней на расстоянии десяти метров и смотрел на ножки. И вот что странно: в голове у Савельева не рождалось ни одной неприличной мысли. Он испытывал восторг, и только. Это свидетельствует о нем положительно.
Они вышли на набережную. Балерина вспрыгнула на парапет и пошла по нему, слегка балансируя рукой с отставленным мизинчиком. Савельев на ходу попробовал, как это делается – отставить мизинчик. У него ничего не получилось, потому что мизинец был заскорузлым, навеки приученным к держанию слесарного инструмента. На парапет Савельев вспрыгивать не стал.
Так они дошли до Марсова поля. И тут Савельев заметил, что с Кировского моста спускается марширующая колонна людей в черных фраках. Впереди шел старик с надменным лицом. У него в руке была палочка, а люди в колонне имели при себе музыкальные инструменты, на которых играли.
Они играли что-то знакомое даже Савельеву.
Балерина замерла на парапете, стоя на одной ножке. Другую она держала на весу перед собой, как бы подавая ее для поцелуя. Савельев приблизился к висящей в воздухе ножке и, встав на цыпочки, поцеловал ее в пятку. Балерина скосила глаза и шепотом сказала:
– Мерси!
И легонько, концом носочка, щелкнула Савельева по носу. Оркестр продолжал свое движение, огибая памятник Суворову. Позади оркестра пожилой человек катил перед собою огромный барабан, успевая изредка ударять по нему палкой с мягким набалдашником. Общая картина была чрезвычайно красивой.
Савельев постарался придать своему телу возвышенное положение. Балерина взмахнула руками и тоже сменила позу. При этом она успела сказать Савельеву:
– Слушай музыку.
У Савельева было такое чувство, что он перерождается. Он где-то читал, что такое бывает с людьми.
Но он не успел ничего сказать балерине, потому что она уже крутилась на парапете, как волчок, непрерывно отбрасывая ногу в сторону. Это была нога, которую поцеловал Савельев.
– Да постой же ты! – ошеломленно сказал он, чувствуя, что восхищение и восторг заполняют его до кончиков волос.
Однако в этот момент из-за памятника Суворову кошачьей походкой вышел мужчина в черном, до пят, плаще. Оркестр уже обогнул памятник и остановился на широкой аллее Марсова поля, ведущей к Вечному огню. Там они продолжали играть, теперь уже что-то тревожное, отчего Савельев насторожился.
Милиционер остановил движение, и мужчина в плаще стал, крадучись и замирая, приближаться к балерине. Она сделала движение руками, которое Савельев сразу понял. Оно означало отчаянье и страх. Мужчина в плаще замер на проезжей части, готовясь к прыжку. Савельев подобрался и сделал шаг вперед.
Соперник, видимо, немного испугался Савельева, потому что вопросительно оглянулся на милиционера. Раздался глухой удар барабана, и милиционер подпрыгнул, сделав в воздухе быстрое движение ногами. Савельев вдруг почувствовал, что его руки изобразили над головой гордое и вызывающее колесо, и он двинулся на соперника, твердо ступая с носка. Носок неудобно было тянуть, потому что Савельев был в лыжных ботинках, но он старался.
Балерина спрыгнула с парапета, зависнув на мгновенье в воздухе, и побежала, мелко семеня и отставив руки назад, за Савельевым. Она обогнала его и остановилась между ним и соперником, уперев одну руку в бок, а другою указывая в небо. Человек в плаще отшатнулся и заслонил лицо руками. Слева большими плавными прыжками приближался милиционер. Савельев положил ладони на талию балерины. Она тут же начала вращаться, как шпиндель, так что ладоням сделалось тепло.
Справа трагически замерла очередь за апельсинами.
– Я человек простой, – сказал Савельев, вкладывая в слова душу.
– Двадцать три, двадцать четыре… – шептала она.
Человек в черном скакнул к ним и изобразил хищную птицу. Это у него получилось очень похоже. Милиционер продолжал приближаться, но делал это не по прямой, а по дуге.
– Ап! – сказала балерина, и Савельев трижды обвел ее вокруг хищника, держа за пальчик. Потом она взмахнула ножкой и полетела к сопернику, который ловко поймал ее и склонился над ней то ли с мольбой, то ли с угрозой. Савельев не успел понять. Он уже был в воздухе, выполняя прыжок, который в фигурном катании называется «двойной лутц».
– Где ты учился, фуфло немытое? – зловеще прошептал соперник, когда Савельев приземлился.
– В ПТУ, а что? – сказал Савельев.
Очередь, жонглируя апельсинами, пробежала сквозь них и обратно. Это было потрясающе красиво, потому что милиционер в это время успел открыть движение, а оркестр, повернувшись через левое плечо, зашагал к Вечному огню.
«Похоже на конец первого акта», – подумал Савельев.
Балерина лежала на клумбе под памятником Суворову, среди роз, вытянув руки к оттянутому носочку ступни. Она тяжело дышала. Первый акт тяжело дался всем троим. Соперник в черном закурил, глядя на балерину с неприязнью. Савельев по инерции подбежал к балерине легкими грациозными прыжками и протянул левую руку, подняв правую над головой. Комбинезон мешал двигаться изящно, но Савельев старался.
Балерина, склонившись к белой ноге, стирала пятнышко грязи с колготок, слюнявя палец.
Раздался звонок трамвая. Начинался второй акт. Соперник скинул плащ, под которым неожиданно оказался карабин. Это озадачило Савельева, не готового к такому повороту событий. С моста бежали еще трое в черных масках, стреляя на ходу из револьверов.
Одним прыжком Савельев вскочил в проносившееся мимо авто. Балерину он подхватил под мышки. Ее безжизненное тело продолжало сопротивляться движению. Те трое залегли за столбами, а соперник, пригнувшись, побежал к розам. Милиционер уже мчался на мотоцикле, передавая что-то по рации.
«Вот тебе и балет!» – успел подумать Савельев, отстреливаясь.
Балерина лежала на заднем сиденье, напоминая скомканную тюлевую занавеску.
Бандиты бежали за авто по брусчатке, выдергивая из карманов гранаты. Шофер был уже ранен. Савельев одной рукой перевязывал шофера, другой успокаивал балерину, а зубами выдергивал кольцо у «лимонки».
Они неслись по набережной, и голуби вырывались из-под колес взрывообразно. Савельев хладнокровно расстреливал преследователей. Ему спокойно помогал милиционер, мчавшийся рядом. Правил движения никто не нарушал.
Соперник в черном плаще, а теперь без него, юркнул под мост и там отравился. Савельев не успел передохнуть, как авто, резко затормозив, встало у ларька. Савельев выскочил из машины. Во рту пересохло, раны еще горели.
– Две больших… Буду повторять… – задыхаясь, сказал он, потому что как раз подошла его очередь.
И пока наполнялась кружка и росла над нею кружевная нашлепка пены, похожая на пачку балерины, Савельев посмотрел на часы, успев оценить расстояние до проходной и время, оставшееся до конца обеденного перерыва.
Времени было в обрез, но как раз столько, чтобы успеть выпить две кружки и вбежать в проходную легким, балетным шагом, держа свою балерину над головой.
1976Тикли
В канун Нового года выяснилось, что главная проблема современности – тикли. Эту новость принес в лабораторию аспирант по кличке Шатун. Он был хромой и бородатый. Из бороды у него вечно торчали запутавшиеся формулы, которые он выщипывал грязными ногтями и скатывал в шарики.
Шатун сел на магнит, положил короткую ногу на длинную и изрек:
– Вот вы тут сидите, а между прочим, тикли – это вещь!
Шатун всегда бредит вслух при посторонних, поэтому на его слова никто не обратил внимания. Все продолжали исследовать пространство – каждый свое, и никому не было дела до тикли.
– Тикли! – сказал Шатун. – Дегенераты!
И он вылил на пол три литра жидкого азота из сосуда Дьюара. Азот зашипел, лихорадочно испаряясь, и скрыл аспиранта в белом дыму. Когда дым рассеялся, Шатуна в лаборатории не было. На месте, где он сидел, валялась буква греческого алфавита, похожая на пенсне.
– Не верю я в эту тикли, – проворчал Суриков-старший.
Я взглянул на него и увидел, что тикли лежит у него на макушке, свернувшись змейкой. Оно было янтарного цвета, почти газообразное. Суриков-старший оттолкнулся от стола и сделал два оборота на своем винтовом табурете. Тикли взмыло вверх, изображая над Суриковым нимб, а потом упало на пол и поползло к окну, как гусеница.
– Надо проверить в литературе, – сказал Михаилус.
Он прошелся по лаборатории, едва не наступив на тикли. Затем Михаилус снял с полки журнал «Physical Revue», положил под гидравлический пресс и стал сжимать. Журнал противно заскрипел и превратился в тонкий листок. Михаилус вынул его, взглянул на просвет.
– Шатун прав, – безразлично сказал он, пуская листок по рукам.
Когда листок дошел до меня, я увидел, что на нем написано по-английски одно слово – «тикли». Михаилус уже одевался с озабоченным видом. Уходя, он сунул в карман пальто букву, оставленную Шатуном, надеясь, что этого никто не заметит. Тикли в это время ползло по оконному стеклу вверх к форточке. Я встал и распахнул форточку, чтобы оказать тикли мелкую услугу. Тикли посмотрело на меня зеленоватым глазом, доползло до форточки и улетело.
– Подумаешь, тикли! – сказал Суриков-старший. – У меня своих забот хватает.
На следующий день Михаилус уже вовсю исследовал тикли. Суриков-старший весь день ныл, что у него жена, кооперативная квартира и двое детей, поэтому он не может тратить время на тикли. Тем не менее поминутно заглядывал через плечо Михаилуса, стараясь ухватить ход вычислений. Михаилус писал, пока не кончилась бумага. На последнем листке он написал докладную директору, жалуясь на нехватку бумаги для исследования проблемы тикли.
До обеда тикли опять залетало к нам. На этот раз оно было похоже на одуванчик без ножки – белое круглое облачко, в центре которого находился все тот же зеленоватый глаз. Тикли повисло над выкладками Михаилуса, водя глазом из стороны в сторону и, по всей вероятности, проверяя правильность расчетов. Жаль, что оно лишено было мимики. Я так и не понял, верно ли рассуждал Михаилус на своих листках.
Повисев над Михаилусом, тикли улетело вон, точно шаровая молния.
– И все-таки тикли есть, – сказал Михаилус тоном Галилея.
– Конечно, есть. Что за вопрос? – пожал я плечами.
– Дилетант! – сказал Михаилус.
Я обиделся и ушел на свидание с любимой девушкой. Мы встретились, как всегда, на карусели, в парке культуры. Карусель не работала, потому что механизм замерз от холода. Зато на пальто моей девушки была приколота брошка, которую я сразу узнал. Это была тикли. Тут я понял, что по вечерам тикли становилось женского рода. На карусели было холодно. Наше кресло, скрипя, покачивалось на железных прутьях. Длинные тени убегали по снегу в глубь парка.
– Откуда у тебя тикли? – спросил я. – Как тебя зовут?
Она заплакала и ушла, а тикли осталась висеть в воздухе, как снежинка. Разговаривать с тикли я не решился, потому что не был уверен, поймет ли она меня.
На следующее утро, в последний рабочий день перед Новым годом, тикли встретило меня на моем столе. Оно выглядело усталым и озабоченным. В тот день оно было гладким и твердым, как мрамор. Зеленоватый глаз старался не смотреть на меня.
Снова пришел Шатун, настроенный агрессивно. С его свитера сыпались на пол какие-то цифры, точно перхоть. Шатун размахивал газетой.
– Статью читали, олухи? – закричал он.
Суриков первый бросился к Шатуну, почуяв неладное. Он выхватил газету, которая уже была изрядно замусолена и согнута так, чтобы статью сразу можно было найти.
– «Тикли и гуманизм», – прочел Суриков заголовок. – Читать дальше? – спросил он.
– Мура, наверное, – предположил Михаилус. – Что они могут смыслить в тикли?
– «Сегодня, когда передовые ученые всех стран…» – начал Суриков, но Михаилус перебил:
– Суть, суть читай!
Суриков заскользил глазами по строчкам, отыскивая суть. Шатун не выдержал, выхватил у него газету.
– «Аморфный гуманизм тикли не имеет ничего общего с классической и даже с квантовой механикой…» – прочитал Шатун, размахивая указательным пальцем.
Он задел им тикли, и оно рассыпалось на мелкие блестящие пылинки, которые изобразили в воздухе ленту Мебиуса и печально поплыли по направлению к форточке.
– Ну конечно! – сказал Суриков. – Еще неизвестно, есть тикли или нет, а под нее уже подводят базу…
– Под него, – сказал я. – Утром оно среднего рода.
На меня посмотрели чуть внимательнее, чем обычно.
– Тикли есть. Я это вчера доказал, – заявил Михаилус.
– Можешь пронаблюдать? – издевательски спросил Шатун.
– Нужен прибор. Но это уже не мое дело, – развел руками Михаилус.
Тикли бросилось в стекло, точно бабочка. Я подошел к окну и распахнул его настежь.
– Ты что, с ума сошел?! – закричали коллеги.
– Посмотрите, как улетает тикли, – сказал я.
– Чокнутый – факт, – сказал Шатун.
Тикли вытянулось в длинную ленту и полетело по направлению к парку культуры. Две синички пристроились к нему и сопровождали, пока тикли не скрылось из глаз. Суриков-старший закрыл окно и постучал себя по лбу логарифмической линейкой. Этот жест он адресовал мне. И все стали стучать по лбу логарифмическими линейками. Последним это сделал вахтер, когда я уходил домой. Неизвестно, где он ее взял.
Ночью наступил Новый год. Моя любимая девушка не пришла, потому что я так и не вспомнил, как ее зовут. Я сидел один перед телевизором и чокался шампанским с экраном. На третьем тосте экран разбился, вспыхнув ослепительным светом, и Новый год прошел мимо по соседней улице.
– Тикли! – позвал я.
Тикли высунулась из стеклянной дымящейся дыры, где только что танцевала Майя Плисецкая. На тикли было короткое вечернее платье, а ее зеленоватый глаз смотрел на меня простодушно и доверчиво, как новорожденный слоненок.
– Тикли, посиди со мной, – попросил я. – Ты меня понимаешь?
Она написала чем-то на стене: «Я тебя понимаю».
– Скоро они научатся тебя наблюдать, – сказал я.
«Пусть попробуют!» – храбро написала тикли.
– Тикли, дай я тебя поцелую! – обрадовался я. – Ты молодец, тикли!
«Ты тоже молодец, – написала она. – Целоваться не надо».
Я налил ей шампанского, и тикли отхлебнула глоточек. Видимо, она делала это впервые, потому что ее глаз сразу заблестел, и тикли стала летать по комнате быстро и бесшумно, оставив свое вечернее платье на диване.
– А кто еще умеет тебя видеть? – спросил я осторожно.
«Никто, – написала тикли. – Только ты! Ты! Ты!»
– Это значит, что я умнее Михаилуса? – спросил я.
«Ух, какой ты глупый!» – радостно написала тикли.
Она почти вся истратилась на последнюю надпись, которая осталась гореть на стене зеленоватым светом. От тикли остался небольшой кусочек, вроде драгоценного камня, и я сказал:
– Тикли, ты больше со мной не разговаривай. Давай помолчим…
Потом я протянул к ней ладонь, и тикли опустилась на нее, как светлячок. Я осторожно зажал ее в кулак, и мы уснули вместе.
В новом году я больше не видел тикли. Его никто больше не видел, даже Шатун, который сконструировал прибор и хвастался, что появилась принципиальная возможность наблюдать тикли. Но я не очень горюю, потому что тикли в ту новогоднюю ночь, которую она провела в моем кулаке, успела многое изменить. Она прочертила на ладони несколько новых линий судьбы, а старые подрисовала так, что вся моя жизнь пошла по-иному. Мне кажется, что в этом неоспоримое доказательство существования тикли.
1971Урок мужества
Объявления, передаваемые по радио, иногда привлекают своей загадочностью. Недавно я услышал такое: «Музей Суворова приглашает на уроки мужества. Справки по телефону…»
С мужеством у меня всегда обстояло туговато. Временами я испытывал острый его дефицит и готов был обменять изрядную долю ироничности или обаяния на маленький кусочек мужества. Поэтому я подумал, что было бы совсем недурно получить предлагаемый урок в музее Суворова.
Музей Суворова, который находится против Таврического сада, по посещаемости уступает всем известным мне музеям. В среднем в его залы приходит не более полутора человек в день. В тот день, когда я пришел туда, тихая половинка статистического человека уже удалилась, и я был в музее один.
У дверей, инкрустированных перламутром, на бархатном стуле спала старушка, похожая на графиню. Над нею висел двуглавый орел, который тоже спал обеими головами. Я потоптался перед графиней и робко кашлянул. Старушка интеллигентно вздрогнула во сне, но не проснулась. Орел же открыл один из четырех глаз, который оказался мутноватым и пьяным.
– Я насчет урока мужества, – обратился я к орлу.
Орел поцокал кривыми клювами, и графиня проснулась. Я повторил свои слова. Графиня удивленно воззрилась на меня, потом поднялась со стула, обнаружив на нем бледно-зеленую круглую потертость, и почти испуганно спросила:
– А какой нынче год, не скажете?
– Говорят, год Дракона, – ответил я.
– Дракона… – задумчиво повторила она. – А по номеру, по номеру не припомните?
Я назвал порядковый номер года.
– От Рождества Христова? – уточнила старушка.
Я подтвердил, что да, от Рождества Христова.
Графиня возвела глаза к орлу, пошевелила губами, что-то высчитывая, а затем объявила:
– Пора в отпуск.
– Дайте мне урок мужества, а потом уходите в отпуск, – попросил я.
– Да-да, непременно! Это уж непременно! – оживилась графиня и скрылась за перламутровыми дверями.
Через минуту там послышались легкие и мягкие шаги, обе створки двери распахнулись, и передо мною предстал маленький человек в напудренном парике, в длинном камзоле и при шпаге. С первого взгляда я узнал в нем Суворова. Это несколько ошеломило меня, и я отступил на шаг.
– Добро пожаловать, милостивый государь! – быстро проговорил Суворов, глядя на меня снизу вверх абсолютно умными глазами.
От волнения я забыл, как его зовут. Помнил, что Генералиссимус, но отчество совершенно выпало. Генералиссимус Алексеевич? Генералиссимус Ильич?..
– Здравствуйте, Генералиссимус… – сказал я.
– О! – протестующе воскликнул Суворов, поднимая тонкие ладони. – Мы с вами не на плацу. Можете запросто – Александр Васильевич.
«Тезка, – почему-то подумал я. – Мы с Суворовым тезки».
Я последовал за ним через зал, вспоминая все, что читал когда-то или слышал о Суворове. «Переход через Альпы» – так! «Тяжело в ученье – легко в бою» – есть! «Плох тот солдат, который…» Дальнейшее сомнительно.
Мимо нас проскользнула графиня, нагруженная хозяйственной сумкой.
– Александр Васильевич, миленький, я в отпуск ухожу, в отпуск, может, и не свидимся больше. Вы бессмертный, вам-то что, а мне уж помирать пора, – протараторила она на ходу, на что Суворов довольно резко ответил:
– Чушь, любезная, чушь! – и добавил что-то по-французски.
Графиня разразилась французской тирадой, покраснела, сделала книксен и упорхнула.
Мы прошли еще один зал, где висели пыльные знамена. При виде их Суворов поморщился.
Распахнулась дверь, обнаруживая кабинет с бархатными креслами и резным бюро темного дерева. На бюро стоял зеленый телефонный аппарат. Суворов отстегнул шпагу, стянул парик и сложил то и другое на бюро.
– Я полагал, что опять пионеры, – объяснил он. – Пионеров мне положено встречать при шпаге. У нас хозрасчетная организация, – продолжил он, понизив голос, – так что приходится идти на мелкие ухищрения. Присаживайтесь…