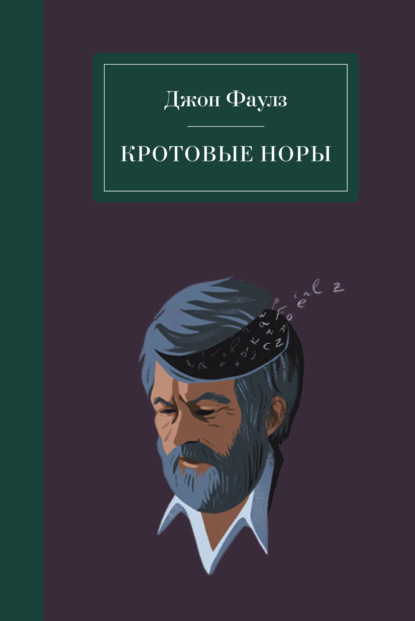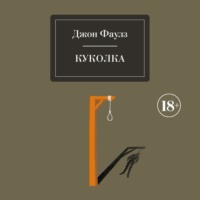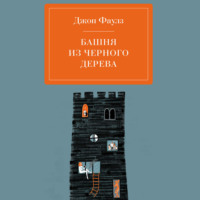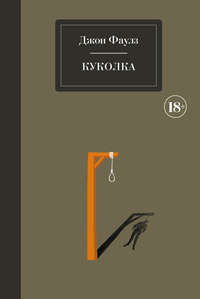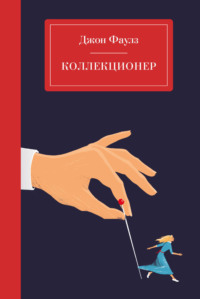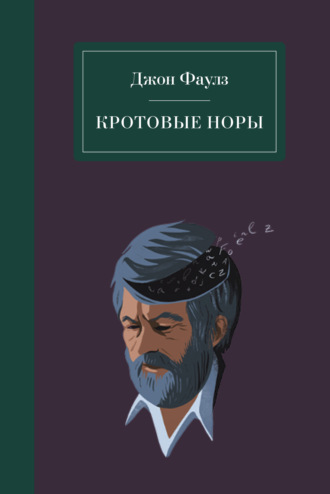
Полная версия
Кротовые норы

Джон Фаулз
Кротовые норы
John Fowles
Wormholes[1]
Copyright © J.R. Fowles, 1998
© Тогоева И., перевод на русский язык, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
Предисловие
Когда впервые возникла речь о сборнике, я, честно говоря, вовсе не был в восторге от этой идеи. Я прекрасно понимал, что воспринять ее мне мешает не только чуть циничное, по существу, порожденное нашей культурой отсутствие симпатии к самому себе как известному писателю («Джону Фаулзу!»), но и такое же отвращение к существующему ныне климату, который определяет оценки и суждения, относящиеся к литературе. Сказанное может заставить читателя прийти к выводу, что я – образцовый пуританин, абсолютно лишенный какого бы то ни было тщеславия, однако вывод этот легко опровергнуть известной мне по собственному опыту истиной, в равной степени относящейся к любому писателю, будь то женщина или мужчина. Все писатели в силу своей профессии слепо и порой по-глупому эгоцентричны. Где-то глубоко, возможно, на самом донышке души, в каждом из них живет уверенность, что никто и никогда не мог бы написать лучше. Тщеславие, выливающееся в подобную самоуверенность, на самом деле и есть отличительная черта, характерная для всего писательского рода. Преувеличенное сознание собственной уникальности – состояние, свойственное всем художникам: в яростных бурях каждодневного существования, где, кажется, буквально все в бездумном и непреодолимом гневе восстает против любой веры, любой философии, они как бы хватаются за то единственное бревно, что обещает помочь им выплыть. Нам некуда деться от этого архетипического стремления, часто противоречащего всем социальным и политическим убеждениям, – стремления держаться за собственную самость, за собственную неповторимую индивидуальность. Это в каком-то смысле подобно той «благородной гнили», которую мы так ценим в некоторых винах, фруктах и сырах. Весьма часто в бескрайнем и бесцветном пространстве, населенном теми, кто в значительной степени лишен творческого дара, это может быть воспринято как стремление в нескончаемых (крысиных) гонках протолкаться поближе и отхватить себе кусок побольше от того пирога, которого (и всякий в глубине души это прекрасно понимает) на самом-то деле вовсе и не существует: я имею в виду бессмертие.
На фоне мрачной картины каждодневного существования меня всю жизнь преследовал один и тот же образ – образ мозаики. Одна из моих ранних книг должна была называться «Тессеры»[2] и состоять из не очень тесно связанных между собой эпизодов, отдельных цветовых мазков. В то время мне постоянно казалось, что я могу лучше всего быть понят, увиден – или почувствован – сквозь череду очень малых событий, через собрание малых кирпичиков мыслей и чувств. Может быть, именно поэтому название книги, с которым мы недолго поиграли в самом начале, было «Осколки», опирающееся на известную строку T. С. Элиота[3]: «Осколками я окаймил мои руины». Потом меня убеждали снова использовать свободное переложение строки из Декарта: «Я пишу, следовательно, я существую». В некотором смысле это звучало тщеславно, в духе преувеличенного сознания собственной уникальности, на что я уже намекнул выше; и все же, как я надеюсь, это правда – в более рациональной психологической трактовке. Во всяком случае, уже с начала третьего десятка я не мог, с обреченностью приговоренного на пожизненное заключение, не думать о себе единственно как о писателе, и более всего – как о романисте; впрочем, сравнение с приговоренным в камере, возможно, слишком уж отдает Камю[4]. Моя воображаемая камера, несомненно, приносит совершенно иные, порой гораздо более радостные настроения и счастливые моменты. Я выражаю себя, отдаю (и продаю) себя лучше всего как повествователь, а не как поэт или драматург (хотя порой мне и хотелось бы так о себе думать). В прошлом я довольно часто отвергал роман как faute de mieux[5]. Так что я отказался и от второго названия.
Выбор названия – всегда занятие увлекательное и в то же время кошмарное. В конце концов я обратился к коллеге-писателю Питеру Бенсону, который хорошо меня знает, да и живет в деревушке поблизости, тут же, в Дорсете. Он предложил назвать сборник «Кротовые норы». Название сразу же пришлось мне по душе. Он, разумеется, предложил использовать это словосочетание в том смысле, как оно употребляется в современной физике. Оксфордский энциклопедический словарь толкует его так: «Гипотетические взаимосвязи между далеко отстоящими друг от друга областями пространства-времени». Название показалось мне вполне подходящим, хотя бы метафорически, поскольку весьма сложное пространство-время, в котором я существую, пусть и очень далекое от современной физики, есть пространство-время моего собственного воображения. Это бремя, как мне представляется, хорошо показано в статье Кэтрин Тарбокс в посвященном моим работам номере журнала «Литература двадцатого столетия»[6]. Ее статья понравилась мне больше всех остальных. Все серьезные писатели непрестанно ищут – каждый для себя – «кротовые норы», которые могли бы связать их с иными областями, иными мирами. Я часто сижу, зарывшись, словно крот, в старые книги, которые время от времени собираю; я живу в очень старом доме, у меня большой старый сад, так что я прекрасно знаком и с буквальным значением слов «кротовые норы»: отсюда и выбор названия. Во всяком случае, мне вряд ли понравилось бы такое, что не могло бы – хотя бы иногда – вызвать у меня улыбку.
Так вот, я отдаю – или продаю – желающим (вроде того, как это делается в еще более древней профессии) частицы себя, частицы того, что я есть, четко сознавая, что очень многим они вовсе не доставят удовольствия: скорее всего, в связи с тем, как бестактно не совпадают они с принятыми нормами академических и журналистских знаний и умений. Я надеюсь, читатель все же увидит, какую важную роль играли в моей жизни природа и естественная история, хотя я редко пишу об этом впрямую, и почему я обычно ссылаюсь на них, когда спрашивают, что оказало на меня влияние. Tenthredinifera, tenthredinifera, tenthredinifera… Этим тессерам я дам объяснение позже.
Эта первая горсточка мозаичных кирпичиков, скорее всего, приведет в ярость любого приличного ученого, и мне нужно хотя бы отчасти принести извинения за их хаотичность: ведь если меня уложить, словно мертвое тело для вскрытия, это уже никоим образом не буду я. Я чувствую, что есть все-таки одно место, где я, по всей видимости, могу ввести читателя в заблуждение: я недостаточно подчеркиваю важность для «Любовницы французского лейтенанта» – странного маленького французского романа Клэр де Дюра «Урика», изданного в 1824 году[7] и опубликованного в моем переводе на английский в 1994-м[8].
В одном мне с этой книгой очень повезло: моя большая приятельница Джен Релф оказала мне неоценимую помощь в собирании и отборе того, что здесь имеется. Мне всегда импонировала Джен – как человек и как женщина – не только острым и проницательным умом, но и столь же острым чувством независимости. Хочется верить, что я всегда был или хотя бы пытался стать феминистом, но ее чувство юмора, ее эрудиция со всей убедительностью помогли мне понять, насколько я несостоятелен в этом качестве.
Джон ФаулзВведение
Есть какой-то странный спиралевидный ритм в том, как мысль снова и снова подходит к проблеме, что вас тревожит, повторяется, возвращается вспять, напрочь разрушая временную последовательность…
Д. Г. Лоуренс[9]Как романист Джон Фаулз не нуждается в рекомендациях. Его популярность, как и его каноническое место в английской литературе, не подвергается сомнению по меньшей мере уже два десятилетия. Однако его работы не из области художественной литературы гораздо менее известны, отчасти потому, что разбросаны по эфемерным периодическим изданиям, научным журналам и (если ему приходилось писать предисловия или введения) книгам других авторов, издававшимся менее значительными тиражами и не столь популярным, как его собственные произведения; эти книги зачастую больше не издаются. Так что новая публикация Джона Фаулза оказывается весьма представительным собранием его беглых набросков и глубоко личных писаний; сюда входят эссе, литературоведческие статьи, комментарии, автобиографические заметки, воспоминания и размышления.
В этом томе собрано около тридцати работ самого разного объема – от одностраничных до весьма пространных статей, – и занимают они период от 1963 года (когда появился первый роман Джона Фаулза «Коллекционер») до наших дней[10]. Таким образом, книга представляет эволюцию взглядов писателя на литературное творчество, на то, как литература соотносится с жизнью и нравственностью, – взглядов, постепенно менявшихся на всем протяжении зрелого и плодотворного периода его творчества.
Процесс отбора материала шел нелегко. Большинство статей в томе воспроизведены полностью, но в некоторых случаях, как это было, например, с пространной статьей под названием «Острова», включение полного текста потребовало бы исключения других, не менее важных и более кратких работ. Моей целью в процессе отбора и осуществления необходимых редакционных сокращений всегда было лишь одно: дать читателю почувствовать все разнообразие интересов Фаулза и того, что Кольридж[11] назвал «той жизнью и страстью, что обитают в душе». (Кстати говоря, я и есть тот самый «ученый друг», на которого ссылается автор в последнем эссе – «О природе природы», тот самый друг, кто, цитируя высказывания Уильяма Хэззлита[12] о Кольридже и, вероятно, в какой-то момент возмущаясь манерой Фаулза мыслить и говорить, то и дело отвлекаясь от темы, заявил, что, скорее всего, у самого Джона ум столь же тангенциальный[13], что и у Кольриджа! К счастью, мое утверждение было воспринято как скрытый комплимент.)
Отобранные для этого сборника статьи представляют читателю хронику различных тем и вопросов, мучивших, занимавших или восхищавших Фаулза в течение всей жизни, а нить, их соединяющая, не может быть никакой иной, кроме автобиографической. Разумеется, все писательские работы в той или иной степени автобиографичны, являют собой «правдивую ложь», будь то художественная литература или произведения иного характера. Пристрастия писателя, наваждения, его обуревавшие, пронизывают все творчество, и читатели, знакомые с романами Джона Фаулза, найдут здесь множество размышлений и отголосков тем, с которыми уже встречались в его книгах: утрата domaine[14], женщина как princesse lointaine[15] проблемы эволюции, естественная история, свобода и чувство ответственности, хаотичность и роль случая, литература и литературность и – роль писателя. Здесь также отражены его политические взгляды, его приверженность – на протяжении всей жизни – убеждениям левого толка, поддержка «зеленого» движения, охраны природы и исторических памятников. А дар повествователя, рассказчика, что так справедливо восхищает читателя в романах Фаулза, вполне очевиден и во многих статьях этого тома. Например, в эссе «Кораблекрушение» начальные строки сразу же создают мощное ощущение времени (этакого «давным-давно, в незапамятные времена…»), места действия и чувства причастности, когда рассказчик, ведущий повествование от первого лица, втягивает читателя в пространство «здесь и сейчас» своего рассказа.
Стиль Фаулза весьма интересен: он пишет живо, учено, его утверждения часто провокационны, а время от времени смелы до дерзости и способны вызвать яростные споры. Например, такое: «Писать – все равно что есть или заниматься любовью: это процесс естественный, а не искусственный»! И, помимо всего прочего, он пишет вполне доступно: прежде всего «для читателя, который не является ни критиком-литературоведом, ни писателем» («Заметки о неоконченном романе»). В то же время собранные здесь статьи представляют интерес для ученых и писателей, где бы они ни жили, утверждая – как это часто на практике делает сам Фаулз – ценность и важность романа и оспаривая кассандр от литературы[16], предрекающих роману скорую и неминуемую гибель.
Публикуемые здесь работы свидетельствуют еще и о ворчливо-неоднозначном отношении писателя к литературоведческим кругам, а также к наиновейшим теориям в области литературы и литературной критики; о его упорном несогласии допустить самую возможность того, что Ролан Барт[17] так громко назвал «смертью автора». Фаулз то и дело утверждает, что его совершенно сбивают с толку интеллектуальные игры теоретиков литературы; так, например, в статье «Франция современного писателя» он жалуется: «Я прочел, правда, далеко не все из того, что пишут Деррида[18], Лакан[19], Барт и их коллеги-мэтры, и оказался совершенно сбит с толку и скорее разочарован, чем просвещен». В более ранней статье о Кафке он называет литературоведческие круги «корпорацией гробовщиков», готовых на убийство ради того, чтобы провести вскрытие. «Мои квазинаучные взгляды» на литературу, говорит он, вряд ли могут заинтересовать ученых; и тем не менее, несмотря на постоянные насмешливо-иронические оскорбления, ученые оказались заинтересованы. Более того, самый странный из романов Фаулза – «Мантисса» – доказывает, что писатель не просто знаком, но вполне овладел деконструкцией и компетентно разбирается в теории постструктурализма. Но странным образом неостановимый поток ученых гостей и аспирантов, готовящих диссертации, отыскивающих путь к дому писателя в Лайм-Риджисе – а это вполне резонно могло бы рассматриваться как неизбежная плата за то, что писателя принимают всерьез, – по-видимому, вселяет в Джона что-то похожее на ужас. Тут и задумаешься: не тот ли это страх, что хорошо знаком ученым, также как писателям и людям других творческих профессий, – страх оказаться обезоруженным или даже разоблаченным? «Писатели, – утверждает Фаулз, – точно фокусники, прекрасно знают, как вводить в заблуждение». А фокуснику (или магу) менее всего хочется, чтобы его шаманские трюки, его особая магия оказались выставленными на всеобщее обозрение.
Писания Фаулза отражают разнообразие его интересов, их сплетенность, соотнесенность друг с другом. Ни его работы, ни его интересы не подпадают под точные, удобные всем категории, и задача распределения статей по разделам оказалась вовсе не из легких. Читателю, пожелавшему отыскать в книге точку зрения Фаулза на определенный предмет, лучше просмотреть «Указатель», а не «Содержание» тома, чтобы найти ключ.
В конце концов материалы как-то сами собой рассортировались на четыре основные группы, так я их и распределила; в каждом разделе статьи расположены в хронологическом порядке. Может показаться соблазнительным усмотреть в них свидетельство линейного развития интеллекта, но мне они представляются чем-то гораздо более интересным: я вижу в них тот самый «странный спиральный ритм» мысли, снова и снова возвращающейся к тревожащей ум проблеме, мысли, всегда устремленной вперед и тем не менее размывающей или разрушающей представление о времени как о последовательности, так что фрагменты, осколки, tesserae, когда-то долженствовавшие дать свое имя этой книге, складываются в узор калейдоскопа: встряхни – или перекомпонуй, – и перед глазами возникнет иной образ. Окаймление руин? Быть может. Но, как утверждается в очерке «Что стоит за «Волхвом», «такие осколки и правда создают прекрасное окаймление». Как говорит нам сам Фаулз в интервью с Дианн Випон[20], каждая статья, или очерк, или любая другая работа вне художественной литературы, независимо от темы, – это «отдельный кирпичик мозаики в моем цельном портрете»; однако, если принять во внимание постоянно меняющийся облик этой уникальной натуры, каждый читатель увидит в текстах иную мозаику, иного Джона Фаулза.
Как застенчиво напоминает нам персонаж «автор» в «Любовнице французского лейтенанта», природа, личность писателя всегда неизбежно расщеплена, поскольку автор, будь то он или она, оказывается и тем авторским «я», кто пишет, и тем, кого пишут, существом, обитающим и внутри литературного произведения, и вне его. В этом сборнике мы найдем часто повторяющиеся размышления на ту же тему. Очерк «Голдинг[21] и Голдинг» – заслуженная дань уважения Уильяму Голдингу – противопоставляет обычного человека, мягкого, доброго, пожилого, неузнанного и, возможно, непознаваемого, сконструированному образу писателя – «Голдинга», присвоенному читающей публикой и «выстроенному исключительно из слов». Самая коротенькая работа в этом томе – «Клуб «Дж. Р. Фаулз» – тоже представляет собой размышление о расщепленной природе писателя-зверя. Она была написана в ответ на просьбу издательства «ЭККО-Пресс», публиковавшего весной 1995 года специальный выпуск журнала «Антей», посвященный тому, как писатели осмысливают себя в роли писателей. Издательство просило о «небольшой экспериментальной шуточно-автобиографической работе в прозе о творческом опыте писателя». Образцом служило знаменитое мини-эссе Борхеса[22] «Борхес и я», раннепостмодернистская декларация о характере творческого акта, где Борхес говорит о себе как о собственном «другом», как о существе, расщепленном надвое: о том его «я», что пишет, действует, говорит и которым «создано несколько хоть чего-то стоящих страниц», и о том «я», что наблюдает, которому «суждено быть навсегда забытым». Самая разительная черта, отличающая эссе Борхеса от эссе Джона, – то, что Борхес видит себя расщепленным надвое: «я» и «другой», субъект и объект, тот, кто видит, и тот, кого видят, в то время как «я» Фаулза расколото на множество других «я», представляет хаотическое разъединение многих, зачастую весьма неохотно сосуществующих частей. Это «я» – «клуб» – состоит из множества членов; многие из них находятся в постоянном раздраженном несогласии друг с другом: взять хотя бы псевдофеминиста, обуреваемого чувством чисто мужской вины из-за обид, нанесенных женщинам его прошлым, более юным «я» – тем «я», у которого было так много общего с Николасом из «Волхва».
В то же время некоторые повторяющиеся мотивы здесь аккумулируются и сливаются в одно целое: осознание писателем себя как человека, утратившего свое место, романтика в изгнании, технофоба, рассорившегося с миром компьютеров и виртуальной реальности; потребность в одиночестве, в обретении зеленого, возрождающего убежища, священной долины – это весьма существенная черта, в значительной мере определившая его страстную любовь к миру природы. («Одиночество – ссылка в географическом и социальном смысле – для меня очень важно»[23].)
Интервью с Дианн Випон, которым завершается эта книга, – самое последнее из столь многих интервью, данных Фаулзом за долгие годы творчества. Мы обнаруживаем, что и здесь он размышляет над большинством проблем и тревог, затронутых на предшествующих страницах, развивая и уточняя мысль. В некоторых областях взгляды Фаулза остаются на удивление последовательными и неизменными с начала 60-х годов, когда к писателю пришла известность; но чтобы увидеть, в чем его взгляды изменялись, как менялась позиция писателя, полезно обратиться к этому интервью – оно многое разъясняет и к тому же дает новую информацию.
Первый раздел – «Писательство и я» – включает наиболее автобиографические из нехудожественных произведений Джона Фаулза, и именно здесь (хотя и не только здесь) мы находим его самые исповедальные строки о греховном наслаждении, получаемом от «игры в Бога» – так он называет писание художественной прозы. Писание, оказывается, занятие весьма эротическое. Создание романов, сотворение иного мира есть занятие «неотвязное, изолирующее, вызывающее постоянное чувство вины»; персонажи книг «непрестанно требуют ласки», писатель непременно влюбляется в каждую из своих героинь и – пусть только в воображении – с каждым новым романом опять и опять изменяет собственной жене. Его взаимоотношения с романом, пока тот пишется, напоминают любовную связь, полную обид, волнений, тайных наслаждений и радостей. «Это нечестивые наслаждения», – пишет он.
При описании путешествий приходится совершать и другие измены: с la Françе sauvage[24] и с agria Ellada[25]. Обе они изумительно красивы, далеки отовсюду, изобильны и щедры. Первая – это, разумеется, Франция: Франция «бескрайних сельских ландшафтов и глухих деревушек», где впервые Фаулз открыл для себя мотив утраченного домена. Этот мотив будет неотступно преследовать писателя, вновь и вновь возникая в его произведениях, оставаясь с ним навсегда: Солонь из «Большого Мольна» Ален-Фурнье[26], дикая природа Франции Джона Фаулза – романтика наших дней. С agria Ellada – с дикой природой Эллады, в которую Джон «безнадежно влюбился в первый же день приезда», – роман его длится всю жизнь. Пережитое в связи с Грецией несомненно оказалось исключительно важным, оставило глубочайшее впечатление, как бы впечаталось в душу писателя, и, хотя две статьи о Греции, возможно, в чем-то повторяют друг друга, я, нисколько не колеблясь, включила сюда обе.
Название второго раздела – «Культура и общество» – сознательно использованная аллюзия на работу крупного марксистского литературоведа и писателя Рэймонда Уильямса[27], так что сюда я включила откровенно политический комментарий Джона. На самом деле Джон очень редко высказывает открыто политические утверждения, хотя сам он вполне открыт – язвительно открыт – в своей приверженности левым взглядам, социализму, республиканизму, пусть даже и восклицает то и дело: «Чума на все политические партии![28]».
В статье о войне из-за Фолклендских островов Фаулз осуждает британские СМИ за то, что они превратили партийную политику в публичное развлечение весьма низкого пошиба, и сожалеет о безответственном использовании языка ради достижения партийно-политических целей. «Самое важное, чему учит нас [писателей] наша профессия (в этом мы сходны с политиками), это сознавать пугающую способность образа и слова вызывать к жизни нечто глубоко захороненное и заглушать голос трезвого разума», – пишет он. И правда, история предоставляет нам вполне достаточно свидетельств такой власти слова и образа и тех ужасов, которые они могут за собою повлечь. Но затем мы видим, что автор резко отворачивается от высказанного им сравнения, возможно, как раз из-за воспоминаний о тех самых исторических свидетельствах, не желая уж слишком уподобляться политикам: «Дурное, потворствующее дурным желаниям искусство наносит вред немногим; дурная, потворствующая дурным желаниям политика вредит миллионам людей». Не многие стали бы возражать против последней части этого утверждения, но что касается первой, то я, например, не верю, что дурное искусство безобидно, как не верю и в то, что хорошее искусство бессильно. Искусство Фаулза – искусство идейное; оно не является нейтральным ни морально, ни политически. «Долг искусства, – утверждает он в статье «Вспоминая о Кафке», – пытаться изменить к лучшему все общество в целом». Этот взгляд подтверждается и в его интервью с Дианн Випон. Писатели, говорит он, унаследовали морально-этическую функцию от средневековых священнослужителей, для которых литература тоже являлась полем действия. Подобно Д. Г. Лоуренсу, которым он так восхищается (несмотря на все мои усилия – в качестве правоверной феминистки – его разубедить!), Фаулз откровенно признает, что дидактичен. Лоуренс считал, что цель романа – учить; именно поэтому Ф. Р. Ливис его канонизировал[29], возведя в ранг представителя «великой традиции». Стоит задуматься: а сделал бы Ливне то же самое в отношении Фаулза? Разумеется, Фаулз, как и Лоуренс, пишет, чтобы быть услышанным; когда он пишет о Лоуренсе, он неустанно, как истинный проповедник, пытается спасти нас и заламывает руки в отчаянии от нашего совершенно явного коллективного нежелания быть спасенными.
Писатели, которые, как мне представляется, более всего говорят Фаулзу, с кем он более всего чувствует себя связанным, – те, что по той или иной причине разделяют его чувство изгнанничества, чувство, что он – человек в какой-то мере посторонний или, по его собственным словам, «сварливый затворник, отшельник». Собирая работы для третьего раздела этого тома, я была совершенно потрясена количеством свидетельств пристрастия Джона к литературным «изгоям», историческим эксцентрикам, раскольникам того или иного толка, как из-за содержания их книг, так и из-за личности каждого из этих авторов.
Так же как для Эбенезера Ле Пажа, героя и литературного alter ego Дж. Б. Эдвардса[30], для Фаулза характерна «раздражительность по отношению к новому» и чувство исключенности из современного общества. Для Фаулза это – неприятие постиндустриального общества виртуальной реальности и информационных технологий; для самого Эдвардса это было нечто вроде «постоянной супротивности, несговорчивости» – типичных черт пожизненного диссидента, с которым явно отождествляет себя Фаулз. Мир Эбенезера Ле Пажа – «Остров в Английском канале»[31] – становится для Фаулза метафорой, обозначившей «остров собственного «я», яростно сопротивляющийся всем и всякому, кто попытался бы его захватить или подчинить своему господству.