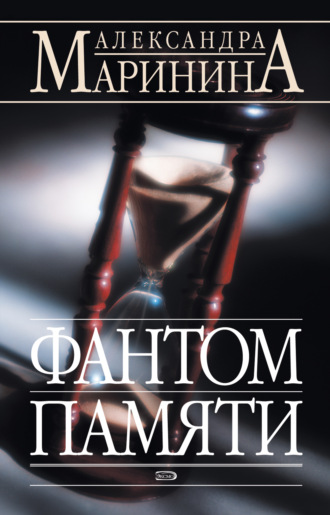
Полная версия
Фантом памяти
И это тоже было одной из старых привычных песен. Слушая маму, я постепенно успокаивался. Лина возила Женьку в Швейцарию, и у нас дома висит фотография. У НАС ДОМА. Значит, у нас с Линой по-прежнему общий дом, она не ушла от меня, я не бросил ее. Уже хорошо. Мама разговаривает со мной, как прежде, стало быть, в наших отношениях ничего не изменилось. Моя мама – человек, щедро наделенный пессимизмом и обогащенный знаниями о московских больницах, стало быть, она собирается меня устраивайте в платную клинику, а коль так – мои финансовые дела вовсе не плохи, раз она полагает, что я смогу за это заплатить. О том, что у меня происходит с деньгами, матушка всегда бывала приблизительно осведомлена. Похоже, два года – это не такой уж большой срок, чтобы жизнь могла перевернуться как-то кардинально. Может, я зря боюсь?
Через два дня я обустраивался на новом месте. Просторная комната, больше похожая на гостиничный номер, с телефоном, телевизором, холодильником, собственным санузлом и даже с балконом. Два окна, выходящие на красивый ухоженный парк, Утопающий в нежно-зеленом мареве юной листвы. Безупречно вежливый персонал. Отменная кормежка. Ну и все к этому прилагающееся в виде фитнес-центра, бассейна, сауны, теннисного корта, массажистов, водолечебницы и чего-то еще, что я не запомнил с первого раза, когда на меня обрушили поток новой информации. Находилось все это благолепие в ближнем Подмосковье и имело, насколько я понял, два отдельных сектора: один – для очень, ну просто очень заслуженных ветеранов, которых государство обеспечивало высококачественным, но бесплатным медицинским обслуживанием, другой – для всех, кто может платить.
После общения с матушкой я слегка приободрился и решил разработать собственную программу выхода из кризиса. Цель программы – заставить мозг вспомнить исчезнувшие невесть куда год и девять месяцев. Пути достижения цели – объективный и субъективный. Объективный путь – это сбор информации о том, что реально происходило за минувшие два года, иными словами – чтение газет и журналов за весь «темный» период. Субъективный – тщательное, вдумчивое прочтение двух своих книг, той, которую я к моменту поворота с Садового кольца написал только наполовину, и второй, про риэлтеров. Я был уверен, что, поймав ту эмоциональную волну, на которой писались книги, проникнув в мысли, которые заложены в тексте, я восстановлю свое состояние и себя самого на тот забытый период.
План был, вероятно, хорош, но проверить его эффективность оказалось не так легко. Читать я не мог. То есть мог, конечно, но только крупный шрифт, при хорошем освещении и недолго. Об этом меня предупреждал и талдомский доктор Василий Григорьевич, дескать, от чтения будет первое время болеть голова, но я не поверил. Как это так – от чтения голова будет болеть? Я с детства был книжным мальчиком, для меня страницы с буквами, складывающимися в волшебные слова, из которых сплетается чудесная, увлекательная, неповторимая история, – это святое, это источник восторга и слез, это ни с чем не сравнимое чувство, которое появляется, когда вдруг начинает казаться, что ты проник в тайный смысл текста, в душу автора, что ты видишь, слышишь и осязаешь его скрытую боль, его личные сомнения и его собственные открытия. Чтение – это счастье а разве от счастья может болеть голова?
Выяснилось, что может, и еще как! По моей просьбе матушка привезла две мои последние книги, а также ворох газет и журналов, собранных с миру по нитке в ее квартире и у знакомых. Ворох был внушительным, но одолеть мне удалось всего две газеты и один журнал за четыре дня. Я выяснил, что у нас уже больше года новый президент и новое правительство, узнал кое-что из деловой и светской хроники, убедился, что курс доллара по-прежнему растет, но ни к каким существенным выводам меня это не подвинуло. Я понимал, что две газеты и один журнал – это ничтожно мало, но ускорить темп информационного насыщения собственной продырявленной памяти не мог.
Попробовал переключиться на свои книги, все-таки в них шрифт покрупнее, но дело двигалось ужасающе медленно. Начал я с «Времени дизайна» и, как порядочный читатель, читал с самого начала. Время шло, а я так и не добрался до того места, на котором остановился перед тем, как собрался осесть на даче…
Новый доктор Эмма Викторовна отнеслась ко мне с полным, можно сказать, пониманием. Правда, я так и не смог определить, было ли это понимание следствием ее высокого профессионализма и уважения к страданиям больного или же проистекало из высокой платы за пребывание в клинике. Она честно заявила, что лечить меня в стационаре бессмысленно, так как проведенное на самой лучшей диагностической аппаратуре обследование показало, что полученная мною травма не является тяжелой и я вполне могу находиться дома. Более того, мне совсем не обязательно все время лежать, я уже могу вставать, ходить и гулять по парку, если голова не кружится. Голова не кружилась, но гулять мне не хотелось. Мне даже из палаты выходить не хотелось. Мне было страшно. Я считал сначала дни, а потом уже и часы, оставшиеся до появления Муси Беловцевой. Только она скажет мне, остался ли я по-прежнему знаменитым Андреем Кориным. И только она знает точно, в каком состоянии мои финансовые дела. Только она скажет мне правду.
– Ты принял правильное решение. Тебе не нужно себя насиловать, если ты чувствуешь неуверенность. И твоя мама совершенно права.
Мама-то права, только по-своему. Она беспокоится о моем здоровье и считает, что мне нужно находиться под присмотром врачей. Я о своем здоровье не пекусь, пребываю в уверенности, что на мне пахать можно, но выходить из клиники не хочу до тех пор, пока не перестану бояться. Мама этого не понимает, а вот Муся поняла сразу. Как хорошо, что она наконец приехала! Пухленькая, кругленькая, она напоминала мне пушистую персидскую кошку, которая была у нас, когда я еще учился в школе. Эта голубоглазая абсолютно независимая особа могла часами лежать то на брюшке, то на боку, то на спине, вытянувшись эдакой шерстяной колбаской и растопырив в разные стороны лапки в серо-голубых «чулочках», и производила впечатление жутко ленивой. Однако каждый день, но отчего-то в разные часы, у нее наступало время «икс», когда она в течение примерно пятнадцати минут носилась по квартире как сумасшедшая, играя с каждой ерундовинкой, попадавшейся ей на пути, будь то конфетный фантик, упавший со стола карандаш или закатившаяся в угол монетка. Сбросив накопившуюся энергию, кошка снова замирала и делала вид, что спит, спала всегда и будет это делать всю оставшуюся жизнь.
Муся Беловцева была на нее очень похожа. Она умела подолгу сидеть неподвижно, внимательно слушая собеседника, не ерзая и не выказывая нетерпения. Потом вставала и начинала делать то, что нужно. Быстро, энергично, без лишних слов и, казалось, не зная усталости. Потом снова садилась и не торопясь рассказывала о результатах, не повышая голоса, не жестикулируя и вообще не делая ни одного лишнего движения. Глядя на нее и одновременно слушая ее рассказ, просто невозможно было себе представить, что все, о чем она говорит, было ею проделано в столь короткие сроки. Когда Муся сидела, она производила впечатление ленивой, толстой и малоподвижной сонной кошки. Как только она вставала, пушистая персидская кошечка мгновенно превращалась в огнедышащую самку гепарда с которой, как известно, в животном мире никто не может соперничать по части скорости передвижения. В данный момент Муся была кошечкой, потому что сидела напротив меня в мягком, удобном кресле и вникала в мои проблемы.
Я уже успел задать ей самые главные вопросы и с огромным облегчением услышал, что «Время дизайна» и «Треугольный метр» продаются очень хорошо, пользуются большим успехом у читателей, и пресса по этим книгам вполне приличная. Открыто хвалить у нас в стране как-то не принято, поэтому благосклонность критиков оценивается по тому, сильно они ругают или не очень. Или же просто констатируют, что «читателей порадовали очередным шедевром». С книгами, таким образом, все было в порядке. Выяснилось, что и с деньгами тоже. Однако Муся ничего не смогла мне объяснить по поводу моих отношений со Светкой, видно, я и впрямь пошел у дочери на поводу и никому ничего не сказал о ее планах вечно любить некоего безумно талантливого Гарика и заняться его раскруткой. Впрочем, ничего удивительного, я никогда особенно не делился с Мусей своими семейными делами, она была для меня не другом, а деловым партнером. Надежным, высокопрофессиональным, честным. Но не более того. Почему же я не дал Светке денег, которые обещал ей? Более того, мои финансовые отношения с издателем по поводу последней книги были выстроены в точности по той же схеме, что и прежде, и все деньги были переведены на мой банковский счет, к которому имеет доступ Лина, моя супруга, и с которого я не могу снять ни рубля так, чтобы она об этом не узнала. Выходит, или Светка что-то не так поняла, или я уже в момент подписания договора, в январе, знал, что денег девочке не дам. Почему же я передумал? Вероятно, были причины, и весьма серьезные. Но если так, то почему же я не сказал об этом Светке? Она ждет, надеется… А я, приняв решение не давать денег, все тянул и тянул, не желая огорчать ребенка неприятным разговором. Вполне в моем духе. Никогда не любил говорить людям неприятные вещи. Да, все это так, но вот почему же я принял такое решение? Муся не знает, я – тем более, о Лине и матушке и речи нет, они точно не одобрили бы финансовое вспомоществование неизвестному Гарику, поэтому им-то я наверняка ничего не говорил. Кто же может знать?
– Надо решить вопрос с моим мобильным телефоном. Мать сказала, что я в прошлом году сменил номер. Новый номер-то она мне сказала, а вот пин-код я забыл. Батарея села через день после аварии, и я теперь не могу его включить.
– Это не вопрос, – Муся сделала очередную запись в блокноте. – Что еще?
– Еще я хотел бы, чтобы о моей амнезии знало как можно меньше людей. Главврач в Талдоме по моей просьбе сказала журналистам, что память у меня восстановилась, вот пусть все так и думают.
– Почему?
– Знаешь… У меня нет разумных аргументов, все это на уровне ощущений… Я учитываю менталитет русского человека. Амнезия – это память, а память – это голова. Я не хочу, чтобы обо мне говорили как о человеке, у которого не все в порядке с головой.
– Понятно, – тонкая серебристая ручка скользнула вдоль раскрытого блокнота. – Но мне придется тебя огорчить, Андрюша. Об этом уже пишут все газеты. Твоя дочь Светлана постаралась. Когда она приезжала к тебе в Талдом, там было полно журналистов, и она не отказала им в интервью, когда вышла от тебя. После этого, конечно, прошли публикации о том, что у тебя все в порядке, но Светлана продолжает общаться с журналистами и рассказывает им все как есть.
– Вот черт! Светка, Светка… Я же просил тебя, и ты мне обещала… Что ж ты меня так подвела? Конечно, я понимаю, тебе хотелось бы оставаться членом семьи известного писателя, появляться вместе с ним на светских тусовках и потом видеть свою фотографию в газетах. Но я лишил тебя этого удовольствия, и теперь ты пытаешься восстановить для себя статус «дочери знаменитости» и купаться в лучах внимания со стороны прессы. Это так по-детски, но можно ли тебя в этом упрекать? Ты, бедненькая, наверное, думаешь, что настал твой звездный час. Глупенький мой попугайчик! А может быть, ты охотно идешь на контакты с журналистами, знакомишься с ними и надеешься, что эти знакомства помогут тебе в дальнейшем раскручивать твоего ненаглядного музыкального гения? Ты готова пожертвовать интересами отца во имя интересов любовника. Что ж, банально и истерто от бесчисленного использования в жизни и в искусстве. Кстати, я и не уверен, что это не правильно. Родители – это прошлое, а любовники, женихи и мужья – это будущее. Молодые должны идти вперед, а не оглядываться на предков.
– Я постараюсь что-нибудь придумать, чтобы дезавуировать эту информацию, – спокойно продолжала Муся. – Но ты в свою очередь подумай, Андрюша, нужно ли это делать. Если твоя память не восстановится, все равно об этом узнают. Ты же не можешь провести остаток жизни, прячась от людей.
– Она восстановится, – возразил я упрямо. – И я буду сидеть здесь, в этой клинике, до тех пор, пока не вспомню все.
– На это могут уйти месяцы и даже годы, – Муся всегда была пессимисткой. Но я стоял на своем.
– Это может случиться в любой момент, даже завтра, даже через пять минут. Я сделаю все, что в моих силах. А уж если не получится, тогда и будем думать, как поступать.
– Думать надо уже сейчас, Андрей. Если я от твоего имени или от своего начну опровергать то, что сказала твоя дочь, то она в глазах всех окажется лгуньей. Мы нанесем ущерб ее репутации. А потом окажется, что лгали мы с тобой. И мы станем не только обманщиками, но и подонками, оболгавшими молодую девчонку. Я-то ладно, с меня какой спрос, я всего лишь литагент, а вот ты – другое дело. Ты – любимец народа, тебя обожают, у тебя толпы поклонников, ты считаешься тонким знатоком человеческих душ. Ты хоть понимаешь, что такое развитие событий угробит тебя как писателя? Не как автора самых популярных в стране книг, а именно как писателя, как человека, олицетворяющего мысли и чувства нации?
Сказано, честно говоря, громковато, я таких сравнений явно не заслужил. Куда мне до «совести нации»! Но Муся, как всегда, права, ибо она не только пессимист, но и стратег, в отличие от меня. Она умеет смотреть вперед, а я, как обычно думаю только о сегодняшнем дне. Впрочем, если бы она не умела смотреть вперед и просчитывать ситуацию, она не стала бы литагентом, точно чувствующим, какого писателя в какое издательство имеет смысл предлагать, чтобы потом, спустя два-три года (раньше не получится), заработать на этом. С доводами Муси я вынужден был согласиться, но на мою твердую решимость в кратчайшие сроки добиться восстановления памяти это не повлияло.
– Я подумаю, – пообещал я. – Но прошу тебя никому пока ничего не говорить. Кто знает – тот пусть знает, с этим уже ничего не поделать. Но лишний раз поднимать тему не нужно. Хорошо?
– Хорошо, – согласилась Муся. Ее большие голубые глаза за стеклами очков в изящной округлой оправе смотрели внимательно и чуть настороженно, ну точь-в-точь как глаза нашей персидской кошки. Как ни странно, но ту нашу кошку звали Марьяной, в сущности – та же Мария, Муся. И до, и после Марьяны у нас в семье были и другие кошки и коты, и длинношерстные, и гладкошерстные, мои родители любили этих животных, и количество их колебалось от одного до трех единовременно, но в Мусе Беловцевой я всегда видел только ту, бежевую пушистую голубоглазую Марьяну. – Какие еще будут просьбы, поручения?
– Да вроде все, – я пожал плечами. – Кажется, ничего не забыл.
– Ты абсолютно уверен, что не хочешь, чтобы я разыскала Лину и попросила ее приехать?
– Не нужно, Муся. Она не смогла дозвониться мне на мобильник и позвонила матери, та ей все сказала и как врач объяснила, что со мной все в порядке и никакого пожара нет. Пусть спокойно совершенствует свой английский и не дергается. Ну что толку от ее присутствия в Москве?
– Как скажешь. Может быть, найти кого-то из твоих друзей?
– Зачем? – удивился я.
– Андрюша, для восполнения пробела памяти есть два пути: можно все вспомнить, а можно просто все узнать. Читать тебе пока трудно, да и потом, из газет ты узнаешь о чем угодно, но только не о твоей собственной жизни. Не проще ли посадить в этой комнате двух-трех близких друзей и попросить их, чтобы они рассказали тебе о твоей жизни за последние два года, а? Таких друзей, от которых у тебя нет тайн, с которыми ты привык всем делиться. Тебе не кажется, что это разумный выход? Скажи мне их имена и телефоны, я всех найду и завтра же привезу к тебе.
Легко сказать… Друзья, с которыми я привык всем делиться. Да где ж их взять-то, таких друзей? У кого-то они, может, и есть, но только не у меня. Есть приятели, с которыми я с удовольствием парюсь в бане и пью пиво раз в три-четыре месяца. Есть куча знакомых в среде журналистов и литераторов, поскольку мы все вместе учились в литинституте. Есть женщины, с которыми я спал то однократно, то по несколько месяцев и с которыми расставался легко и без сожалений, ибо не любил лишних хлопот и душераздирающих разговоров о будущем. Есть Борька, Борис Викулов, друг детства, и в детстве у меня от него действительно не было тайн, но впоследствии мы учились в разных институтах, получили разные профессии и наши интересы стали пересекаться все реже и реже. Я знал, что, если со мной что-нибудь случится, Борька прибежит на помощь первым и в лепешку расшибется, чтобы сделать все, что нужно. И я тоже сделал бы для него все, что в моих силах. Мы исправно поздравляли друг друга с днями рождений и Новым годом. После того, как умер мой отец, Борька дважды в год – в день рождения папы и в годовщину кончины – встречался со мной на кладбище, он любил папу и никогда не пропускал дни поминовения. А когда умерла сестра Вера, количество наших ежегодных печальных встреч возросло до четырех, ведь мы росли втроем – Борька, Вера и я, жили в соседних квартирах, и мои родители были для Борьки почти такими же родными, как и его собственные. Но четыре получасовые встречи в год и несколько коротких телефонных звонков – это не та степень близости при которой можно знать друг о друге все. Привет – привет, как бизнес? Двигается. Как тебе пишется? Потихоньку. Как жена? Цветет. Как дети? Растут. Как мама? Работает, не сидится ей дома. Редко видимся, надо бы собраться, посидеть… Да, надо бы. Ладно, спасибо, что не забыл, созвонимся, бывай. Борис действительно мой друг в том смысле, что не предаст и подставит плечо. В любой ситуации, я был в этом уверен. Но это совсем не та дружба, которая могла бы мне сейчас помочь.
А где та? Где он, тот человек, мужчина или женщина, который знает о том, как я мучаюсь, когда пишу книгу, потому что боюсь, что она получится хуже предыдущих, и когда не пишу, потому что боюсь, что больше у меня не будет вдохновения и сил? Где тот человек, который знает о моих романах, обычно скоротечных и необременительных? Где тот друг, которому я жалуюсь на жизнь, на жену, на любовницу, на себя самого? Нет у меня такого друга. Давно уже нет. Собственно говоря, после детской дружбы с Борькой, с которым мы сидели за одной партой все десять школьных лет, у меня больше не было друга. Смешно, да? Андрюха Корин, веселый, компанейский, предмет обожания большинства девчонок на курсе благодаря умению играть на гитаре и петь русские романсы, а также минорные песенки собственного сочинения, – и вдруг нет друзей. Как-то так вышло, что приятели были, а друзей – нет. Все, что мне хотелось выплеснуть из себя, я выплескивал не в дружескую жилетку, а на бумагу. Сначала от застенчивости, ведь сказанное другу естественным образом исходило бы от меня и касалось меня, а написанное на бумаге касается вымышленного персонажа. Вроде бы и душу облегчил и, с другой стороны, себя голым напоказ не выставил. Потом вошло в привычку, особенно когда прочел рецензию на свой рассказ, написанный на четвертом курсе. В рецензии так и было сказано: это невольно вырвавшийся крик одинокого человека, такой искренний и пронзительный, что не может не вызвать слез. Что ж, если мне быть одиноким, чтобы хорошо писать, значит, так тому нужно и быть.
Вот я и был замкнутым и скрытным. То есть внешне я был общительным, дружелюбным и вообще душкой, я готов был обсуждать с кем угодно любые темы, кроме меня самого, моей личной жизни, моих мыслей и эмоций. Я совершенно не производил впечатления буки. И о том, что у меня нет по-настоящему близкого друга, знали только мама и жены, сначала первая потом – вторая. Даже Муся – и та не знала, по крайней мере, сейчас на ее лице было написано недоверие, смешанное с удивлением.
– Ты хочешь сказать, что у тебя нет близких друзей? Никогда не поверю.
– Поверь, пожалуйста, – сухо ответил я. – И еще я тебя попрошу подробно рассказать мне о наших делах. Мы ездили осенью во Франкфурт?
– Да, конечно.
Муся взглянула на часы и виновато улыбнулась.
– Прости, Андрюша, но мне надо бежать, я же только вчера поздно вечером прилетела, а сегодня с утра помчалась к тебе. У меня на сегодня запланирована куча дел. Давай о делах поговорим в другой раз, они никуда не убегут, там нет ничего срочного. Я приеду к тебе, – она полистала ежедневник, – в среду, шестнадцатого, привезу все договоры и всю прессу по твоим последним двум книгам. Да, и зарубежную прессу тоже, и все отчеты о продажах книг за границей за девяносто девятый и двухтысячный годы.
– А телефон? – напомнил я. – Муся, мне нужен не только пин-код, мне нужен новый номер, чтобы никто не мог меня найти, кроме тебя, мамы, Лины и Женьки. Когда я захочу с кем-то пообщаться, я сам буду звонить.
– Не беспокойся, – она улыбнулась, но это уже была улыбка не пушистой Марьяны, а оскал пока еще умиротворенной Самки Гепарда: Муся готовилась сорваться с места и мчаться по делам, – этот вопрос я решу сегодня же и кого-нибудь пришлю к тебе с новой сим-картой.
Самка Гепарда, сильная и гибкая, вскочила с кресла, щелкнула замком сумки, круто повернулась на каблуках изящных туфелек и уставилась на меня в упор.
– Хочешь совет, Андрюша?
Голубые глаза пожелтели. Пушистая шерсть опала прямо на глазах, потемнела и заблестела. Я наблюдал эту метаморфозу множество раз за последние годы и ненавидел такие моменты потому что сам был ленивым и инертным и люто завидовал тем, кто умел быть быстрым и энергичным, как Муся.
– Давай, – вяло согласился я.
– Не сиди сиднем. Здесь прекрасный тренажерный зал, большой бассейн, опытные массажисты. Раз уж ты все равно устроил себе отпуск, так займись собой наконец. Глядишь, и мысли быстрее по мозгам побегут.
От кресла до двери нужно было пройти по меньшей мере пять-шесть шагов, но мне показалось, что Муся преодолела это расстояние одним прыжком.
Почему-то я был уверен, что стоит мне увидеть Мусю Беловцеву, как память немедленно вернется. И у меня были основания для такой уверенности. Вот пришла Светка, но ведь мы с ней виделись так редко, что, по большому-то счету, мою жизнь нельзя считать связанной с нею. Вот матушка появилась, но и с ней я, ежедневно общаясь по телефону, ничего существенного, важного не обсуждаю. Все больше о Женьке говорю, поскольку это ей действительно интересно, потом о своем здоровье, о котором она, конечно же, заботится, но которого, на мой взгляд, так много, что тем для обсуждения нет, а в третью очередь – о Лине. Но о жене тоже много не скажешь, слишком перехвалишь – матушке неприятно, будешь критиковать – дашь пищу для несправедливых выводов, приходится тщательно дозировать информацию и контролировать каждое слово. К моей ежедневной жизни писателя матушка имеет весьма косвенное отношение.
А вот Муся – совсем другое дело. Так сложилось, что я постепенно переложил на нее все дела, оставив за собой только сочинительство. Даже об интервью журналисты должны были договариваться с ней, а не со мной. И вопросы о моем участии в телепередачах, в радиоэфирах, в презентациях и прочих мероприятиях нужно было согласовывать с ней. Если зарубежные издатели приглашали меня для переговоров, встреч с читателями или журналистами, то Муся непременно ехала вместе со мной, предварительно заказав такую гостиницу, какую я хочу, и билеты на тот рейс, каким я предпочитаю лететь. Она прекрасно владела английским, немецким и французским языками и в таких поездках выполняла для меня еще и функции переводчика. Положа руку на сердце, можно утверждать, что больше, чем Муся Беловцева, обо мне не знает никто. Разумеется, Муся, как я уже объяснял, знает далеко не все, но остальные, включая матушку и жену Лину, знают еще меньше.
И мне казалось, что стоит войти в комнату человеку, с которым в моей жизни связано так много, как вспышка озарит и оживит мою увядшую память. Однако этого не произошло.
И все равно ее приход словно придал мне силы. Муся здесь, и все непременно должно пойти на лад в самом скором времени. В среду, шестнадцатого, она привезет все материалы и документы, касающиеся моей писательской деятельности, я их внимательно просмотрю, и мне многое станет понятным. Сегодня десятое мая, четверг, и у меня есть шесть дней для того, чтобы подготовить мозг к вспышке, на которую я так надеюсь. За эти шесть дней я должен прочесть внимательнейшим образом обе мои книги, постараться настроиться на эмоциональную волну себя самого «тогдашнего», проникнуть в подтекст и в собственное подсознание и помочь забастовавшей памяти. Либо к Мусиному приходу я все вспомню, либо приведу свою голову в состояние полной боевой готовности, и тогда принесенные Мусей бумаги сыграют роль детонатора. Осталось всего шесть дней, и потом – прощай, амнезия! Я от тебя избавлюсь.
Настроение поднялось, я пододвинул торшер поближе к креслу и уселся с «Временем дизайна» в руках, с радостным волнением переворачивая страницы в ожидании озарения, которое непременно произойдет, вызванное вот этим словом… нет, вот этим… ну, может быть, вот этим… или следующим… или следующей фразой… или следующей главой…









