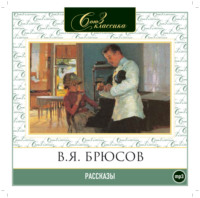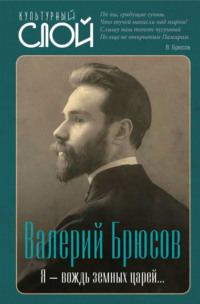Полная версия
Сочинения
Программа
Глава 1. Моя автобиография до 1535 г.
2. Приключение в трактире. М-ъ, Вейер, Велли.
3. Бегство. Лютеране и сионисты. Первая ночь вдвоем.
4. Дальнейшее бегство. Кельн. Объяснение.
5. Бонн. Розыски Агриппы. Католицизм.
6. Свидание с Агриппой.
7. Решение умереть.
8. «Я дрожа сжимаю труп».
9. Дни перед смертью. Меня посещает Агриппа.
Гуманисты.
10. Новая угроза. М-ъ. Бегство из Бонна.
11. Встреча с Л.
12. Вызов на дуэль.
13. Перед дуэлью. Свидание с Л.
14. Дуэль.
15. «Из ада изведенные».
16. Счастье. Опять М-ъ.
17. Второе лицо. Шабаш.
18. Ведьма! Непокойный дух.
19. Исчезновение. Поиски. Маги и колдуны.
20. У доктора Фауста. Мефистофель.
21. В монастыре. Нечистая сила.
22. Заклинание дьявола. Арест.
23. Допрос. Пытка. Приговор суда.
24. Тюрьма. Смерть.
25. У моего отца. Последняя встреча с Л.
26. Смерть Агриппы.
1904–1905
Набросок плана,
в котором действие расписано по дням: 1534
16 авг. Ночь. Встреча с Рен.
17 авг. Путь через Геердт (и ночлег в Дюссельд).
18 авг. Отъезд из Д. Ночлег в бар.
19 авг. Вечером приезд в Кельн. Ночлег 1-й в К.
20 авг. Искания в Кельне. Стуки. Ночь в К. Утро в К.
21 авг. Ожидания приезда Генр… Ночь 3 в К. Утро 2.
22 авг. Больна.
23, 24, 25, 26, 27 – Болезнь.
28, 29, 30, 31, 1 сент. – Прогулки.
2 сент. День прог. Вечер ласк слова.
3 сент. Утро. То же, переменна.
4, 5, 6, 7, 8. Посещ. церкви.
Воскресенье.
7 понед.
8 вторн.
Сент. 9 среда – шабаш.
По одному из планов видно, что одно время Брюсов думал показать в романе расправу инквизиции с «ведьмами» – сожжение на костре: 17. Допрос. Пытка. Приговор. 18. В тюрьме. Двое. Сожжение на костре.
Алтарь победы
Книга первая
I
Наш корабль уже был в виду берегов Италии, и я весь был занят одной мыслью, что скоро увижу Рим, «золотой», как его называют поэты, по улицам которого выступали Фабии, Сципионы, Суллы и сам божественный Юлий. Скромному провинциалу, сыну удаленной Аквитании, мне тогда казались трижды-четырежды блаженными те, кому Рок судил родиться у подножия Капитолия, куда, по священной дороге, восходило, чтобы приносит триумфальные жертвы, столько сланных, незабвенных мужей, память о которых не исчезнет, пока «Римлянин власть отцов сохраняет». В тот час я не думал о жестоких унижениях, нанесенных древней столице нашим временем, о пренебрежении императоров к городу, вскормившему их власть, наподобие волчицы – кормилицы двух первых царей, о печальном состоянии многих прославленнейших памятников старины, на что так жалуются все путешественники, о Новом Риме, гордо вставшем на берегах Боспора Фракийского, – и жаждал лишь одного: слушать рассказы о «Вечном Городе», этом средоточии, как мне казалось, величия, доблести, мудрости и вкуса.
Я и мой новый друг, Публий Ремигий, с которым я познакомился во время морского переезда, – мы сидели на носу корабля на сложенном канате, подставляя свое лицо свежему ветру, и мой собеседник должен был неустанно удовлетворять мое любопытство. Впрочем, он делал это охотно, так как ему, проведшему в Риме всего одну зиму, нравилось выставлять себя жителем столицы и похваляться своим знанием ее перед столь внимательным и доверчивым слушателем, каким я тогда был. Любивший болтать и не стеснявшийся примешивать вымыслы к правде, Ремигий покровительственным голосом объяснял мне, что представляет собою современный Рим, рассказывал о старинных театрах, постановки которых соперничают с самой природой, о цирках и амфитеатрах, где можно видеть самых диковинных животных, о красоте дворцов и храмов, покрытых золотом, величественности бессчетных форумов, переливающихся один в другой, роскоши необъятных терм, где есть все, что может пожелать человек: писцины для плавания, библиотеки для услаждения ума, толпа красивых мальчиков для сладкого времяпровождения, о всей многообразности жизни столицы, где рядом соприкасаются великие богатства и нищета, где мудрецы и консулы сталкиваются на площади с разбойниками и проститутками, куда весь мир шлет все самое замечательное, что имеет, о том Риме, который, словно тысячелетнее дерево, каждый год дает новые побеги. С наибольшим же увлечением Ремигий говорил о вещах, ему, по-видимому, особенно близких: толковал мне, в какой таберне какое можно получить вино, где на сцене можно видеть арабийских танцовщиц или кастабальских кулачных бойцов, а где можно слушать гелиопольских флейтисток или любоваться цезарейскими пантомимами, а также, как устроены и где расположены в городе те веселые дома, в которых молодежь ищет дешевой любви и где на дверях комнат, занятых девушками всех стран, читаются милые имена: Лидия, Мирра или Психея.
– Рим, мой дорогой, – говорил мне Ремигий, словно изъясняя урок непонятливому ученику, – средоточие мира. Рим так велик, что взором обнять его нельзя. В Городе, где бы ты ни был, ты всегда оказываешься в середине. Что в других странах находится по частям, в нем одном соединено вместе. Ты в Риме найдешь и утонченность Востока, и просвещенность Греции, и причудливость далеких земель за Океаном, и все то, что есть в нашей родной Галлии. Жители всех провинций и народы всех других стран смешиваются здесь в одну толпу. Рим – это в сокращении мир. Это – океан красоты, описать который не в силах человеческое слово. Кто однажды побывал там, не захочет никогда жить в другом месте.
Так как оба мы ехали в Рим, чтобы учиться, то я стал также расспрашивать Ремигия о разных римских профессорах и их обыкновениях. С величайшей готовностью Ремигий поспешил мне ответить и на эти мои вопросы. Не без остроумия он начал рассказывать о том, как реторы перебивают друг у друга учеников, заманивая их всевозможными обещаниями; как иные из профессоров богатым ученикам прямо прислуживают, словно их рабы, устраивают для них обеды, на которых прислуживают красивые рабыни, и почтительно дожидаются у порога спальни, пока проснется юноша, прошлую ночь проведший слишком буйно; как состязаются между собой преподаватели реторики, стараясь сократить срок преподавания и публично объявляя, что берутся обучить всем высшим наукам, один – в полтора года, другой – в год, третий даже – в шесть месяцев.
– Что касается трудности учения, – сказал мне Ремигий, – этого ты не бойся. У тебя есть деньги, и этого одного достаточно, чтобы стать мудрым, как Цицерон. Наш век – век великой легкости. Что было для наших предков трудно и тягостно, ныне, благодаря успехам просвещения, стало просто и всем доступно. Для Цезаря подвигом было переправиться в Британнию, а в наше время изысканные люди едут на острова Британнского океана, чтобы отдохнуть несколько недель летом в приятном, нежарком климате. Пирр хотел испугать бедного Фабриция невиданным зрелищем слона, а теперь всякий желающий за несколько медных монет может кататься на слонах, содержимых при любом большом амфитеатре. И всю ту науку, что двести лет назад надо было добывать с крайним напряжением, обливаясь потом на лекциях каких-нибудь греческих обманщиков, или за которой надо было ехать в Афины, в наши дни преподают шутя, для тебя самого незаметно, в самые короткие сроки. Клянусь Геркулесом, ты и не почувствуешь, как войдет в тебя вся реторика, а тем временем мы успеем с тобой вдоволь насладиться всеми приятностями Города, и этого будет довольно, чтобы воспоминаний достало тебе на всю последующую жизнь и чтобы жизнь свою ты не почитал потерянной.
Такие рассказы в меня вселили уверенность, что в Риме ждет меня немало веселого, да и я сам ехал в Город исполненный самых светлых надежд, даже мечтая втайне, что благоприятный случай позволит мне там чем-либо выделиться из числа других сверстников: ведь юность всегда самонадеянна, а я был еще очень молод. В приятной беседе с Ремигием, в которой я, впрочем, играл больше роль слушателя, незаметно прошло время. Скоро уже стали отчетливо видны громадные сооружения Римского Порта, длинные молы, высокие стены домов, храмов, амфитеатров, белые колонны портиков и тихо покачивающийся лес мачт от бесчисленных кораблей, военных и торговых, стоявших в гавани. Кругом нашего корабля тоже виднелось немалое число других судов, начиная с громадной гептеры, опередившей нас, до маленьких гребных лодок, зыбко качавшихся на волнах, поднятых нашим кораблем.
Раздались громкие приказы магистра корабля, и матросы забегали по палубе, приготовляясь к причалу. Все другие наши попутчики стали собирать свои вещи, и мы с Ремигием последовали их примеру.
II
Мы переночевали в Порте, в гостинице, и утром нашли себе места в одной реде, отправлявшейся после полудня в Рим. Время до отъезда мы решили посвятить осмотру города, в котором немало любопытных зданий, несмотря на его сравнительно недавнее происхождение. Бродя без цели по улицам, зашли мы в отдаленную часть города, около канала, соединяющего Тибр с морем, пустынную в тот час, отдаваемый обычно полуденному отдыху. Здесь одно происшествие привлекло внимание не столько мое, сколько моего товарища.
На углу набережной и одной из поперечных улиц мы увидели двух скромно одетых девушек, которых явно притеснял человек высокого роста, в сирийской шапке. Девушки пытались уйти от него, но он, загораживая им дорогу, чего-то настойчиво от них добивался, видимо, к большому их замешательству. Если бы я был один, я, конечно, не подумал бы вмешиваться в уличную ссору, но Ремигий любил приключения и был то, что называется, забияка. Не раздумывая, он бросился вперед, и через несколько минут его спор с сирийцем перешел в ожесточенную брань.
Когда я отважился приблизиться, я услышал такие слова Ремигия:
– Если ты думаешь, приятель, что сирийский колпак придал ума твоей голове, ты весьма ошибаешься: и святое Писание говорит нам, что в гробах повапленных бывает смрад и нечистота. И если ты полагаешь, что довольно нарумянить щеки и завить бороду, чтобы женщины всего мира побежали за тобой, то знай, что говорит поэт о боге Любви: «Лютый и дикий, злой, как ехидна!» А что до твоих намеков, будто ты толкаешься среди придворных слуг и что поэтому всякому твоему доносу дан будет ход, то вспомни, как смотрели на сикофантов древние греки, наши учители во всяческой мудрости: они доносчиков почитали наравне с волками. Говорю тебе, если ты не оставишь тотчас этих двух девушек в покое, я схвачу тебя поперек тела и сброшу в воду, а ты уже оттуда выплывай, как знаешь. И если, проплывая, барка разобьет тебе в это время череп, она только избавит Рим от лишнего негодяя.
Сириец оглянулся кругом и убедился, что поддержки ему ждать неоткуда, так как набережная была совершенно пустынна, двери складов и сараев, тянувшихся вдоль нее, плотно заперты и на судах, стоявших в канале, не виднелось ни одного человека. К тому же и я, как ни были мне всякие уличные споры ненавистны, не поддержать товарища в опасности считал нечестным и всячески выражал готовность прийти к нему на помощь. Поэтому сириец, не обладая, по-видимому, особым мужеством и не желая один иметь дело с двумя противниками, от своих притязаний предпочел уклониться и, отступая, сказал нам:
– Напрасно, молодые люди, не в свое дело вы вмешиваетесь. Я этих девушек вовсе не обижал, но, напротив, желал им оказать некоторую услугу! Я их предупреждал, что кое в чем они поступают неосмотрительно и это может повести их к беде. Если они меня слушать не хотят, тем для них хуже будет.
Две девушки были далеко не похожи друг на друга. Одна, которая казалась моложе, была одета хотя и бедно, не без некоторого щегольства; у нее было милое лицо германки, с детскими глазами и алыми губами; во время спора она как бы пряталась за свою подругу и, минутами, почти готова была заплакать. Другая девушка, одетая в паллу темного цвета и бывшая старше на вид, с лицом суровым и строгим, не отступала перед угрозами сирийца, но давала им решительный отпор. Услышав его последние слова, она сказала горячо:
– Лжешь, сириец! Думаешь, мы забыли, с какими предложениями ты к нам обращался! Женщине повторять их непристойно, но если эти благородные молодые люди избавят нас от твоих притеснений, у нас найдутся защитники, которые дадут тебе должный ответ.
– А ты забыла, – возразил сириец, – что ты и твоя сестра прятали между своими вещами в гостинице!
– Гнусный соглядатай! – воскликнула девушка. – Не знаю, что тебе показалось, когда заглядывал ты в какую-нибудь щель или замочную скважину, но, клянусь святым Крестом, ни в чем предосудительном мы не повинны!
Тут сириец или утратил от раздражения свою осторожность, или захотел устрашить нас, только он произнес такие знаменательные слова:
– Ни в чем предосудительном! Или я не видел, как ты с сестрой убирала в ящик пурпуровый колобий? Разве это не значит злоумышлять на священную жизнь божественного императора! Знаешь ли ты, что этого одного достаточно, чтобы отправить вас обеих в тюрьму, а также и тех, кто вступается за лиц, виновных в таком злодеянии!
Признаюсь, после такого заявления словно холод Британнии пробежал по моим членам, так как я вовсе не хотел испытать участь Аполлинария и Мараса, замученных по сходному обвинению на Востоке в правление цезаря Галла. Подступив осторожно к Ремигию, я потянул его за плащ, давая ему понять, что самое благоразумное для нас – от этого темного дела уклониться. Но бесстрашный Ремигий, словно змей, раненный стрелой или камнем, бросился на сирийца, бывшего головой выше его, подступил к нему вплотную и так ему крикнул:
– Слушай, сирийский шут! Твоя родина славится канатными плясунами и скаковыми лошадьми. Так покажи нам искусства твоей страны и уходи отсюда так скоро, как только можешь, приплясывая или нет, по своему выбору. Иначе, клянусь Юпитером и пресвятой девой Марией, придется тебе по опыту узнать, какова вода в этом канале, пресная или соленая!
Повадка моего друга была столь решительна, что сириец не посмел более медлить ни минуты. Бормоча угрозы и ругательства, он стал быстро отступать, пятясь задом, и, достигнув первого поворота, почти бегом бросился прочь, вдоль низких каменных оград, и скоро скрылся из виду. Мы на поле битвы остались как победители.
Девушки начали усердно благодарить нас за заступничество, но Ремигий сказал им:
– Или я сильно ошибаюсь, или этот негодяй не кто иной, как императорский соглядатай из корпуса agentes in rebus, один из тех, кого называют curiosi. Они шныряют всюду, стараясь разыскать измену, так как только за измену, хотя бы самую маленькую, им и платят. Наверное, побежал он сейчас к одному из своих начальников, чтобы на вас сделать донос. Я бы на вашем месте не стал медлить здесь, но поспешил бы прочь из негостеприимного для вас Троянова Порта, так как в наши дни нельзя особенно рассчитывать на правосудие. Я, Публий Ремигий из Массилии, и мой друг, Децим Юний Норбан, из Лакторы, племянник сенатора Авла Бебия Тибуртина, с удовольствием окажем вам свое покровительство и готовы сопровождать вас, если последуете вы тому совету, что я даю вам, наподобие богини Минервы, которая, во образе мудрого Ментеса, склонила юного Телемака к путешествию.
Девушки, однако, решительно отказались от нашей дальнейшей помощи, сказав, что путешествуют не одни, но со своей родственницей. Они назвали свои имена, которые оба оказались мало обычными: младшую звали Лета, старшую Pea; они были сестры и, подобно нам, направлялись в Рим, только не из Галлии, а из Испании, из Сагунта, где недавно умер их отец. Ремигий стал предлагать, чтобы они провели с нами некоторое время, говоря, что в городе есть приятный общественный сад и подле лавровая роща, но девушки нашли такую прогулку неприличной и нам пришлось удовольствоваться с их стороны одной благодарностью за великодушное заступничество.
Впрочем, Лета, когда опасность миновала, была склонна шутить с Ремигием и как будто колебалась, не принять ли его предложение, но ее старшая сестра резко ее остановила.
– Неужели ты не позволишь даже поцеловать тебя в награду за все, что мы для вас сделали? – спросил Ремигий Лету, пытаясь обнять ее.
– Может быть, мой поцелуй стоит дороже, – лукаво возразила та, уклоняясь от объятия.
Pea вмешалась и сказала:
– Если вы избавили нас от одних оскорблений, чтобы подвергнуть другим, вам трудиться не стоило.
Тогда Ремигий стал просить, чтобы девушки, по крайней мере, назначили нам встречу в Риме, обещая показать им все достопримечательности Города.
– Только, – возразила Лета, – не в первые дни по нашем приезде. Я не хочу, чтобы тебе было стыдно идти со мною рядом. Когда я научусь наряжаться, как Римлянки, и, как они, заплетать волосы, я охотно позову тебя сопровождать меня.
Ремигий заверил ее, что она и теперь прекраснее всех других девушек всего мира, но опять Pea вступила в разговор и сказала:
– Мы едем в Рим не за тем, чтобы забавляться. Мы девушки бедные, и наши дни должны будем посвящать работе. А в свободные часы нам останется время только посетить церковь или поклониться мощам святых, что вряд ли для юношей, каковы вы двое, будет занимательно.
Мне стало стыдно, и я начал убеждать своего друга прекратить его настояния. Кончилось тем, что нам не осталось другого, как мирно проводить девушек до указанной ими гостиницы, причем Ремигий не переставал делать весьма нескромные намеки понравившейся ему Лете, которые заставили бы краснеть любую девушку моего родного города. Но Лета, не смущаясь, отвечала ему, и обмен остротами продолжался во все время пути.
Когда мы уже прощались, Pea, почти не проронившая во всю дорогу ни слова, внезапно обратилась ко мне с вопросом:
– Твое имя точно Юний?
– Так, по крайней мере, – ответил я немного обидчиво, – зовут моего отца и звали деда и моих предков. Имя это не бесславно в истории. И каждому человеку свойственно знать свое имя.
– А сколько тебе лет? – спросила девушка.
Как всем юношам, мне хотелось казаться старше своих лет, и я ответил:
– Если ты это хочешь знать, мне девятнадцать лет.
– Неправда! Наверное, восемнадцать! – живо возразила Pea.
Смутившись, так как она была права, я сказал:
– Да, мне будет девятнадцать лет через несколько месяцев. Но откуда ты это знаешь?
Она ничего мне не ответила, только загадочно улыбнулась и потом произнесла:
– Мы еще с тобой увидимся, Юний.
После этого мы расстались у двери гостиницы, где жили девушки. Ремигий был несколько опечален тем, что столь любопытное приключение не привело нас ни к чему, но вознаграждал себя насмешками надо мной за внимание, оказанное мне старшей из сестер, которую он упорно называл «старушкой».
– Если ты так нравишься старым женщинам, – говорил он, – будь спокоен за свою участь: в Риме у тебя не будет недостатка в деньгах.
Я же в глубине души был обеспокоен всем этим происшествием, в котором участвовал против воли, и не без боязни помышлял о том доносе, который может сделать на нас неизвестный сириец.
III
Недолгая дорога от Римского Порта до Города оказалась крайне утомительной. Кроме нас, в реде ехали два купца, торопившиеся по своим делам, и Ремигий тотчас поспешил блеснуть перед ними своими познаниями. Он объявил, что он также сын купца, и завел бесконечный разговор о торговле с серами и синами шелком и другими товарами, о преимуществах сухопутного пути через Бактриану перед морским через Египет и Индию, о сирийском холсте, фригийском сукне, галатской шерсти, золотошвейных изделиях атталийцев, о знаменитой ярмарке в Батне, о налогах, порториях и разных сборах. Воспользовавшись этим, я большую часть дороги мирно дремал, пока мимо мелькали огороженные виноградники, оливковые рощи и ряды великолепных вилл. Сквозь сон я слышал еще речи о саксонских пиратах, долгое время не пропускавших купеческих кораблей в Британнию, о разбоях франков, прогнанных Феодосием за Рейн, о торговле с берегами Понта Эвксинского, которая в наши дни решительно пришла в упадок после войн с готами и разрушения ими многих городов, и мой Ремигий во время этого разговора, как из рога Фортуны, сыпал имена, названия, цифры, проявляя такое же знание торгового дела, как раньше Рима и реторики. Я не мог еще раз не подивиться на разносторонность дарований, какими одарили боги этого юношу, готового то вести философский спор, то вмешаться в уличную драку, и, под говор своих спутников, заснул, наконец, крепким сном.
Когда я проснулся, был уже вечер и мы приближались к Городу. Дорога стала гораздо более оживленной, поминутно то встречались нам, то обгоняли нас всадники, колесницы, повозки, скакали вестники, везя какие-либо правительственные распоряжения, быстро проезжали карпенты, в которых виднелись важные лица, может быть, каких-нибудь сановников; медленно тащились плавстры, запряженные мулами; шли пешеходы и порой мерным шагом проходил отряд войска под предводительством конного центуриона; с краев дороги доносились жалобные просьбы нищих, просивших милостыни, кто «ради Христа», кто «во имя Юпитера»; вдоль дороги стояли теперь ряды мраморных гробниц, и с них смотрели на нас каменные лики мужчин и женщин, в сумраке казавшиеся особенно важными, а вдали темной громадой уже вырисовывались огромные очертания Рима. Наша реда, запряженная парой добрых лошадей, ехала быстро, и скоро мы приблизились к Портуенским воротам.
Почти тотчас за воротами наша реда остановилась около храма Фортуны Сильной, и здесь пришлось нам испытать все неприятности осмотра портитора. Затем мы попрощались с нашими спутниками, и Ремигий, держа себя как человек опытный в путешествиях, выбрал из толпы носильщиков, окружавших нас, двух дюжих молодцов, которым приказал нести наши вещи. Ремигию очень хотелось, чтобы я некоторое время еще провел с ним в какой-либо транстиберинской копоне, чтобы «возлиянием богам», как говорил он, отпраздновать мое прибытие в Рим. Но я отговорился тем, что крайне устал, и мы, назначив друг другу встречу на следующий день, расстались: Ремигий направился в дом вдовы Траги, где обычно находил себе в городе пристанище и кредит, а я приказал нести свой сундук и свой мешок на Виминал, в дом моего дяди, сенатора Авла Бебия Тибуртина.
Странно мне было впервые в жизни идти по Риму, уже почти во мраке, переходить Тибр по мосту Проба, видеть молчаливые стены высоких домов, слабо освещенных кое-где фонарями перед ларариями, угадывать торжественные очертания неизвестных храмов и дворцов Палатина, нырять во мрак портиков, которыми опоясано большинство улиц, встречать прохожих, за которыми шли их рабы с фонарями в руках, слышать пьяные голоса из шумных копон, встречавшихся по пути во множестве; порою, и нередко, попадались мне уличные женщины с густо набеленными лицами, с черными бровями, соединенными в одну черту; эти женщины хватали меня за край плаща, называли «милым мальчиком» и звали провести ночь с ними; я вырывался из их рук, думая, что у меня еще будет время повеселиться в Риме, и упорно шел вперед, пока носильщик не объявил мне, что мы у цели.
Маленькая улица, на которой мы стояли, была безлюдна и темна, и в доме моего дяди не было ни видно огней, ни слышно голосов. Поэтому не без смущения я решился постучать в дверь, прочитав на пороге сделанную полустершейся мозаикой старинную Римскую надпись: «Берегись собаки». Прошло довольно много времени, пока, произнося бранные слова, подошел к двери, громыхая цепью, которой он был прикован, раб-привратник и, приоткрыв вход, спросил меня, кто я и что мне нужно. Я объяснил, что я – племянник Тибуртина, что у меня есть к нему письмо от его сестры, и после долгих переговоров меня впустили, наконец, в вестибул, слабо освещенный двойной висячей луцерной.
Привратник поручил меня другому, вызванному им рабу, дряхлому старику, Мильтиаду, который провел меня через безмолвный и пустынный атрий в таблин. Дядя еще не спал, и я увидел дородного человека в домашней одежде, сидевшего в глубоком кресле, с украшениями из слоновой кости, перед мозаичным столом, на котором стоял золотой кубок и серебряный кувшин с вином, издававшим сладостный запах, лежали на хрустальном блюде кусочки дыни, исписанные цифрами таблички и абак. Около, почтительно склонив голову, стоял какой-то человек, вероятно, раб-вилик, с которым дядя сводил счеты по одному из своих загородных поместий. Мильтиад, исполняя назначение номенклатора, провозгласил мое имя и скрылся.
Первую минуту дядя был крайне раздосадован моим появлением и мрачно нахмурил брови, но когда я объяснил ему, кто я, напомнил ему, что он сам предложил мне жить в его доме, и передал ему письмо моей матери, он смягчился и заговорил со мной дружески.
– Так значит, ты и есть Децим Юний, мой возлюбленный племянник, сын сестры моей Руфины и Тита Юния Норбана, декуриона Лакторы, внук Децима Юния Норбана, бывшего пресидом Новемпопулании при божественном Константине. Добро пожаловать, племянник, и да будут к тебе благосклонны лары и пенаты этого дома, где еще ни разу не угасал священный огонь перед семейным алтарем с того самого времени, как Камилл возобновил Город. Вижу из письма, что сестра и твой отец – в добром здравия, и радуюсь этому, потому что хорошие люди в наши дни нужны империи. А ты прибыл в Рим, чтобы продолжать свое учение, и хорошо сделал, ибо каков же тот Римлянин, – а ныне, клянусь Юноной, Римляне все жители империи, – кто никогда не был в Городе, матери всех других городов и провинций. Но с самого первого раза говорю тебе, и ты запомни мои слова хорошенько: если ты думаешь, что в Риме ждут тебя прежде всего удовольствия, ты весьма в значении слова Римлянин ошибаешься. Повторяй всегда слова нашего поэта: «Ты над народами властию править, Римлянин, помни! Вот искусства твои!» И куда бы наши императоры ни переносили столицу республики, всегда средоточием власти останется Рим и от Римского сената будут новые императоры получать утверждение своего сана. В Вечном Городе ты, мой сын, учись, раньше всего другого, вечной мудрости и древней доблести квиритов: не веселию праздношатающихся, по строгой нравственности, терпению в работе и мужеству во брани. Правильно ли я говорю, племянник?