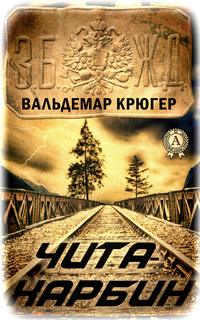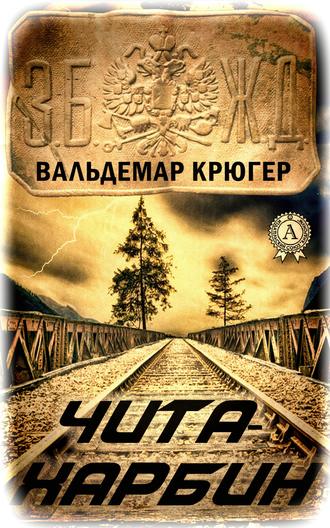
Полная версия
Чита – Харбин
Георгий, привыкший с раннего детства, день дневать, вечер вечерять[132], слушая вполуха болтовню Поршня и Значитца, гнал упорно сосновую стружку. У Гоши всегда было так, или работает, или пьет, делая и то и другое добросовестно. Оно и верно, чего время то зря терять, или?
Сергей, отхлебывая чаек, улыбался в усы, покачивая головой. Опять кумы пушку заливают[133]. Похоже поддать уже успели. И действительно, Поршень и Значитца были слегка навеселе.
– Гоша, че ты там гоношишься, забрось килу в саламат[134], садись к нам, чай пить будем, – откинувшись назад, пробормотал один из кумовьев.
– Тебе Поршень бы токо по елани со Значитца сундулой хлынять[135], – отложив на момент в сторону работу ответил ему недовольно Георгий.
– Ну чево супорничаешь, припаривайся[136] к нам, – откинув край войлочной попоны, Поршень извлек оттуда початый банчок спирта.
Гоша вздрогнул. По его лицу скользнула улыбка, с того бы и начинал.
– На паря, глянется[137]? – промолвил змей-искуситель.
Второго приглашения не потребовалось. Выпив, говорили все четверо. Разом. Как водится в таких случаях, стали припоминать забавные случаи с участием некоторых участников пиршества.
А чудаки были Значитца и Поршень еще те. Однажды, после «удачной» гулянки приплелся Поршень домой, лыка не вяжет. Потоптался, жрать хочется, а супружница спит. В кути темнотища, хоть глаз коли. Пошарился Поршень на кутнем столе – ничего, повел синюшней картошиной носа – ух как вкусно пахнет, щти на плите устоялись. А там не «щти», а чугунок с ополосками, да тряпка, какой супружница посуда мыла. Ну пьяному-то известно, море по колено. Взял чугунок, водицу выпил, а тряпку съел, да еще и похохатывает, лён попался, замуж пора[138].
Наутро его Матрена хватилась, чугунок пустой. Ну думает укипела водица. Глянь туда, а помывочного струмента нет.
Тут и благоверный ее нарисовался, сивушным перегаром разя. Спичку ко рту поднеси, полыхнет, аки Змей Горыныч после дня ангела у Бабы Яги.
– Поршень, – супружница его тоже так величала, – ты чево там вчерась у кути гремел, как кот?
– Жрать искал.
Тут дошло до Матрены.
– Так это ты водицу из чугунка выпил?
– Ну я.
– А тряпка где, съел что ли?
– Тьфу ты, а я думал мясо с сухожильями попалось, – ответил Поршень, зычно икнув. Похмелиться бы.
Второй кум, Значитца, тоже не лыком шит. Поставила хозяйка брагу нa самогонку, а он надыбал. Брагу выпил, а осадoк курям в пригон выбросил, чтобы улики, так сказать, уничтожить. Курицы-то поклевали, не понравилось, бросили, а петух, мужик ведь, нажрался на дармовщинку, да и упал под забор хмельной. Хозяйка вернулась, видит петух сдох. Недолго думая, ощипала с него перо, все прибыток, да бросила куриного мужика на навозную кучу. Утром проснулся петух, глядь, а перья-то стибрили. Взобрался на крышу, и давай кукарекать. Держи вора! Вся деревня животы надорвала, глядя на голого короля.
Посмеялись мужики, вспоминая проделки кумовьев, и незаметно тема разговора перешла на серьезную тему.
Два года уже шла война, и не было ей ни конца и ни края. Осенью двоим из них, Сергею и Георгию, провожать сынов в армию. А с фронта приходили в станицу неутешительные известия. Не до смеха тут.
Грудь в крестах или голова в кустах, наставляли отцы и деды по устоявшейся привычке молодых казаков, вспоминая свою удалую молодость, когда ощетинившиеся пиками и клинками кавалерийские лавы сносили вешним половодьем преграды на их пути. Ушли в небытие те времена, когда одно слово «Казаки!» приводило врага в трепет. Изрыгающие огонь железные чудовища – танки, несущие с неба смерть драконы-аэропланы, ознаменовали закат казачьих соединений. Уже в русско-японскую войну стала в первый раз заметна уменьшающаяся роль казаков в современной войне машин. Казаки оказались задвинутыми на задворки.
Не минула сия горькая участь и забайкальских казаков. Основанное на многовековых традициях российского казачества, Забайкальское казачье войско являлось среди своих собратьев по оружию, других казачьих войск Российской империи, в своем роде уникальным творением, сплавом из русских, бурят и тунгусов, выделялось сочетанием бесшабашности и вольности первых казаков-землепроходцев с трудолюбием и хозяйской сметкой крестьян, влившихся позже в состав Забайкальского казачьего войска.
Интересно услышать мнение современников о забайкальских казаках. Для сравнения два из них, в чем-то противоположные и сходящиеся в главном.
Для начала слова начальника Хайларского отряда генерал-майора Орлова, командовавшего казаками во время похода в Китай на усмирение восставших ихэтуаней:
«Забайкальский казак невзрачен на вид, но вынослив, превосходно ходит, ездит, довольствуясь немногим, самолюбив. Он, например, будет курить при начальстве, и надо ему долго внушать, что этого делать не следует. Он отдает честь и, вместе с тем, ласково кивает головой. Но когда начальство ему что-нибудь приказывает, особенно идти против неприятеля, под огнем, он отлично исполняет приказание. Так что как воины забайкальские казаки прекрасны[139]».
Несколько иное, здесь нужно обязательно отметить, первоначальное мнение, составил о забайкальских казаках бывший драгунский офицер Рейтерфен, назначенный на должность командира 2-й сотни 1-го Верхнеудинского полка, описывая в воспоминаниях свое прибытие в казачью часть:
«…Непривычен был вид казачьего бивака. Удивлял вид 500 лошадей, похожих то ли на коз, то ли на лошадь Пржевальского, стоящих в коновязи в полковой сотенной колонне.
Между сотнями равными рядами были разложены седла, перевернутые для просушки потниками вверх.
Невдалеке от коновязи разделывали бычью тушу, здесь же валялись внутренности, копыта.
Казаки называли друг друга «паря». Они сидели небольшими компаниями вокруг котелков и молча «чаевали». Вид у них был какой-то странный, я ожидал встретить уныние или, наоборот, подъем духа, усталость или бодрость, распущенность или подтянутость – все, что угодно, но по их лицам и манерам я не мог никак найти в них чем-нибудь выдающееся настроение. Они «чаевали», вот все, что можно было сказать о них.
В лагере был порядок – это было видно по разбитым ровным коновязям, по седлам, по несению внутренней службы, этот порядок, казалось, чем-то нарушается.
А нарушается этот порядок удручающим видом казаков. Начиная от козырька фуражки на «паре» и кончая его ичигами, на нем было какое-то тряпье. Они и ставили в тупик каждого, кто глядел на него или на лагерь. Не то солдат, не то оборванец.
Обидно было за этот чудный боевой состав. Эти лучшие в мире солдаты, всосавшие с молоком своей матери воинский дух, доблесть, военную смекалку, заброшены, как негодный самородок. Этому истинному воину вместо боевой лошади дан какой-то козел, вместо седла – какая-то куча, про обмундирование и говорить нечего…[140]»
Уже скоро мнение самоуверенного драгуна о «козле» поменяется и он живо сменит своего породистого рысака на неприхотливую забайкальскую лошадку. На таких же лошадках воины Чингисхана дошли до Вены, повергнув Европу в ужас.
Все, кому приходилось служить и воевать с забайкальскими казаками, единодушны в их оценке – они прекрасные воины.
Но слова Рейтерфена без прикрас говорят и о неудовлетворительном состоянии Забайкальского казачьего войска, в каком оно находилось в начале ХХ века. Приобретение снаряжения за свой счет поставило многие казачьи хозяйства на грань катастрофы. Именно это сослужит плохую службу, внесет раскол между забайкальскими казаками, оказавшихся по вине близорукости царского правительства по разные стороны баррикад.
Удивительно также, как Рейтерфен при первом же знакомстве заметил некоторые особенности забайкальских казаков.
«Казаки называли друг друга «паря». Они сидели небольшими компаниями вокруг котелков и молча «чаевали».
Этим все сказано. «Паря» – это доверительное отношение между товарищами, стоящими друг за дружку горой. Ну а «чаевать» – одна из спаек, основ их совместной жизни, так сказать, чайная церемония по-забайкальски.
Теперь нам ясно, почему, так долго сидят у костра «пари» Серега, Гоша, Поршень и Значитца, потягивая из «самоковочных» стаканов карымский чай, отбросив в сторону пустой банчок из-под спирта.
Молодежь тоже не теряла времени даром. Искрящийся смех девчат и задорный хохот парней перекрывали время от времени оглушающие крики перепуганных носительниц сарафанов, доносящиеся затухающими в ночи отголосками до табора косарей.
– Анахай однако заглянул на огонек, – обернувшись на звук, произнес хохотнув Поршень, – вишь как девки-то пищат.
И действительно, собравшаяся с окрестных покосов молодежь развлекалась. Песни попеть, поводить вокруг костра хороводы, ну и девчат напугать, как же без этого. Отойдя в сторонку, какой-нибудь парень напяливал на себя вывернутую наизнанку шубенку да лохматую шапчонку, вот и готов анахай. У страха глаза велики. Выскочит из темноты с диким ревом, прокричит что-то нечленораздельное, девчата готовы от страха в костер заскочить, или, на что и рассчитывали парни, искать спасения в их объятьях. А что, недурно придумали. И волки сыты, и овцы целы.
Прошка крутил любовь с Нюркой Калашниковой, целуя ее без стеснения возле костра. Другие парочки прятались от посторонних глаз в темноте. А ну как тятя о том прознает, живо вязья-то пообломает[141], или того хуже, ежели обмажет какой незадавшийся ухажер ворота дегтем, так и вожжами шкуру спустит.
Кичиги повернули уже на утро, когда молодежь принялась расходиться. Завтра, да нет, уже сегодня, опять на покос, хоть часок-другой вздремнуть. Анахай похоже тоже напился досыта невинной девичьей крови и больше не кричал истошным голосом.
Обратно к стану Степа шел вдвоем с Глашой. Мишка и Прошка, многозначительно подмигнув, скрылись с любушками, надеясь получить от них вышитый кисет или носовой платочек[142].
Тихая теплая ночь окутала парным молоком таежные пади и елани, с покосов тянуло терпким ароматом подвядшей кошенины. По черному бархату ночного неба протянулся мерцающей дорожкой Млечный Путь, а вокруг царит божественная тишина, и лишь изредка кричит где-то вдали запоздавшему путнику перепел «Фить-пирю, спать-пора». Но не Степе с Глашей. Идут они рядышком, рука в руку, ступая неслышно по росной траве, бьются в унисон два сердца в начале пути. Весь вечер провели они вместе, водя хоровод, распевая знакомые с детства песни.
Внезапно, за спиной, раздался пронзительный крик и чей-то темный силуэт проскользнул над головами молодых людей.
– Анахай! – закричала в ужасе Глаша и прильнула к Степану. Он сразу узнал в налетевшей птице охотящегося филина, и уже открыл рот, замерев на полуслове. Жаркое тело прильнувшей к нему Глаши, заставило его промолчать и Степа, обняв возлюбленную, поцеловал ее в пылавшие цветущими жарками губы. Первый поцелуй был недолгим. Глаша отпрянула испуганно в сторону, оттолкнув дерзкого ухажера обеими руками.
– Но-но, не балуй! – и побежала по направлению к стану.
Уже возле балаганов нагнал Степа резвую как лань девушку. Схватив за руку, повернул рывком к себе.
– Глаша, Глашенька, мила ты мне!
– Пусти, а то тятя услышит, будет тебе и мне нагоняя, – чуть слышно прошептала Глаша, не пытаясь вырвать сжатую Степой руку.
– Завтра, придешь к Шаманке?
– Не знаю, – были последними словами Глаши, перед тем как за ней опустился полог балагана Рукосуевых.
Еще долго не мог уснуть Степа в ту ночь, забывшись тревожным сном лишь перед рассветом. Снилось ему, как он шел с Глашей по цветущей степи, и не было ей ни конца и ни края.
Разбудил его отец, сдернув бесцеремонно полушубок.
– Вставай полуношник, косить пора.
Рядом со Степой спал без задних ног брат Мишка. Степа и не заметил, когда он вернулся.
– Просухарили с девчатами всю ночь, – ворчал добродушно отец, – и схватив за ногу, потянул, безвольного, словно тряпичная кукла, Мишку.
Продирая спросонья глаза, Мишка и Степа, позевывая, выбрались из балагана наружу. Сергунька крепко спал, разметав во сне руки. Хорошо ему, позавидовали братья, младшенький.
Отец Глаши отбивал косы, и как показалось Степе, поглядел на него этим утром иначе, не как всегда, по-отечески заботливым взглядом.
Нравилось Степе бывать в гостях у Рукосуевых живущих на Акатуе в бедной избушке. Не смущало его ни бедность, царящая в гостеприимном доме, ни убогость хозяйственных построек, так разительно отличавшихся от отцовского подворья, и паче того двора и дома деда Марка. У дяди Гоши всегда находилось для него время, и даже если Прошки не было дома, не бурчал он, как некоторые отцы «Чево? Нету ево, шляется где-то», а звал Степу «Проходи, гостем будешь», проводя его за собой в святая-святых, свою мастерскую, где так приятно пахло древесными стружками, чуток дегтем и распаренной берестой. Часами мог наблюдать Степа за руками отца Прохора, именно за его волшебными руками, создающими из обыкновенной чурки, каких сжигают несчетное количество в печи, настоящие творения, будь то простое топорище или вершина столярного искусства – самопряха. Исподволь, запоминал он, как и чем работает дядя Гоша, беседующий с другом сына между делом на казалось бы на пустяковые темы, а из-под его старательных рук рождалось в это время ступица или спицы тележного колеса.
Много их было таких мастеров по деревням Забайкалья. Приноровились мужики-переселенцы да казаки к суровостям жизни на новой родине. У каждого за плечами опыта, воз и маленькая тележка. Голь на выдумки хитра, русского мужика, как ивовый кол, куда не воткни, везде корни в землю пустит.
Что ни возьми, сделает умелец своими руками. Взять хотя бы ту же ось для телеги. Почти все делалось из дерева, железо дорого. Борона или соха, плужок какой, зубья или лемех металлические, остальное из дерева. Гвозди – на вес золота. Так что наготовит мужик березовых кряжей, со знанием дела в теньке их высушит, и настрогает осей про запас с десяток. Все делает со знанием дела, умом-прикидом.
Взять, к примеру, болтается на телеге сзади лагушок с дегтем, неспроста то – смазывать ступицы колес, да другую хозяйственную утварь, чтобы от «мокроты» не портились. Добрый мужик сапоги дегтем так наскипидарит, что запашище за версту. Ладно бы обул, а то свяжет, да несет на хворостине за спиной, босиком по грязи шлепает, сапоги вишь ему жалко. Да оно и верно, у сапог новая подошва не вырастет, а у ног да, еще и какая. На покосе шурует босиком, косит, любая стерня нипочем.
Или вот заготовки для копыльев, дуг, или полозьев на сани, как гнуть? Да закопал их в сырой, горячий навоз, денька два-три полежали, вынимай, и гни, приходи кума любоваться.
Нерчинский камень у дороги лежит, валяется, кому ненужная каменюга, а для умельца, мастера золотые руки – клад. Он и точило, величиной с тележное колесо соорудит, топоры да ножи точить, или ручные жернова, гречуху молоть, будет из чего хозяйке колоба стряпать. Ручные жернова в каждом крестьянском доме имелись. Мужики побогаче ладили себе водяные мельницы. Опять прибыток, сдал в наем, мучица сама тебе в ларь течет. А самые-самые богатые, имели и паровую. Ну у этих зимой снега не выпросишь, ни о них речь.
Практически все предметы домашнего обихода, одежда, обувь, и прочее-прочее производилось кустарным способом. Кое-что покупали у контрабандистов, китайскую дрель, кашемировую шаль супружнице, ну и спирт в банчках, хозяину утешение. Унты, олочи и олочки шили из шкур диких зверей, нитками из гураньих жил. Валенки подшивали самодельной дратвой (постегонкой) из сученого конопляного волокна. Вожжи и веревки делали из конского волоса, конскую упряжь – сыромяти. Выделанные шкуры, на пошив шуб и дох, отдавали бурятам, они являлись великими мастерами этого дела. Шапки шили из лисьих лап и шкур молодых зверей, от волчат до ягнят.
С малого учились ребятишки у отцов, дедов и таких вот мужиков, как Георгий Рукосуев. Начинали со детской свистульки, потом черенок для лопаты, а там глядишь и тележное колесо.
Позже, годы спустя, вспомнит Степа о виденном им в мастерской Рукосуевых. Никогда он не станет таким же мастером, как дядя Гоша, но это не так и важно. Его наглядные уроки помогут Степану Нижегородцеву в предстоящей, порой такой непростой, взрослой жизни.
А пока живет он каждым наступающим днем, не думая о будущем, живя настоящим, как делают все молодые люди в этом прекрасном возрасте, когда кажется, что твоя первая седина, далеко-далеко, за семью горами.
Едва забрезжил рассвет нарождающегося дня и багровое солнце еще и не думало выкатываться мельничным жерновом на небосклон, как Сергей Нижегородцев с сынами принялись косить. Первая пройденная ручка прогнала остатки сна. Прохладная роса приятно щекотала босые ноги парней, Сергей, боящийся змей, косил всегда в ичигах. В детстве его ужалила змея, с тех пор он никогда не выходил босым за переделы села. А змей действительно водилось в окрестностях Могойтуя уйма. Неспроста назвали буряты эти места «змеиной падью».
В отличии от русских буряты, как, впрочем, и монголы, до появления русских в этих местах не готовили сена. Лето и зиму паслись их табуны в приволье степей на подножном корму. Но в снежные зимы и весной, когда пускали палы, скот тысячами падал от бескормицы, устилая трупами степь.
Беря пример с русских, некоторые буряты и монголы занялись сенокошением, предпочитая однако выполнять привычную им работу – пасти скот. Чтобы иметь на зиму запас кормов монголы стали сдавать русским переселенцам сенокосные участки исполу, т. е. брать в оплату половину накошенного сена. Кроме того, русские казаки арендовали сенокосы на китайской стороне Аргуни, в Трехречье, входя в доверие к цинским мандаринам проверенным способом – сунув им по несколько самых что ни на есть обыкновенных российских рублей, имевших хождение в Китае и Монголии. Вот времена-то были!
К числу счастливчиков-взяткодателей относился и Марк Нижегородцев, имевший заимку на берегу Хаула, ближней к русской границе реки Трехречья. Завел он ее скорее из прихоти, заразившись всеобщим настроением. Раз другие богатые казаки имеют, почему и мне иметь. Кроме того, на то была и другая причина. В Трехречье, по слухам, предприимчивые казаки мыли золотишко, манящее к себе Марка дьявольским желтым глазом. Было у него рыльце в пушку, но о том дельце знали лишь два человека – сам Марк, и его верный друг Бурядай. Частенько Марк оглаживал серебряную серьгу, висящую в его левом ухе, улыбаясь одному ему известным мыслям.
Ну а сенокосов Марку хватало и в Могойтуе. Станичный атаман, рука руку моет, свояк. И земли у меня, что деньжат – куры не клюют. Вон сыну Сергею заимку в Рысьей пади отдал. Бери, пользуйся, ничего мне не жалко.
С основным, принадлежащим Марку Нижегородцеву стадом; несколькими тысячами иргенов, борокчанов[143] да двумя сотнями горячих степных скакунов, Бурядай откочевывал с наступлением первых холодов в малоснежные степи верховых караулов лежащих на границы с Монголией, попадая иной раз со стадами и на сопредельную территорию. Барану какая разница, где траву щипать, а Бурядаю и подавно. Везде у него друзья – у казаков на пограничных кордонах, среди бурятских и монгольских пастухов, так любящих слушать мудрого Бурядая, когда он играет на морин-хууре.
Марк доверял Бурядаю как себе. Бурядай являлся хранителем и умножителем его стад. Не зря гласит бурятская пословица «һайн нүхэр шулуун хэрэмһээ бүхэ, һайн морин харсага шубуунһаа түргэн» – «Хороший друг крепче каменной стены, хороший конь быстрее сокола», а Бурядай был верным другом, растившим к тому же коней, быстрее сокола.
Сергей Нижегородцев, как и другие могойтуйские казаки из русских, тоже пользовался услугами бурятов-пастухов. Платили им деньгами или баранами, кто как договорится. Ну а крупнорогатый скот и лошадей летом пасли на выгоне, зимой держали в стайках и стойлах, накашивая для них большое количество сена. Чем и занимаются сейчас отец с сыновьями, махая как заведенные косами.
Первый прокос после бессонной ночи дался Мишке и Степе особенно тяжело. Мало того, что хотелось спать, да еще болели после вчерашнего натруженные мышцы рук и плеч. Ногам-то чего сделается, плетутся, шаркают по стерне за косой следом. Сергей шел первым, задавая тон. Два часа косила без роздыха троица, делая лишь короткие передышки поточить литовки. Наконец Сергей дойдя до конца очередной прокос, полез в карман за жестянкой с табаком.
Сыны ожили, никак батя перекур сделать хочет. Разом, как по команде, замахали веселее литовками, стараясь поскорее пройти ручку.
Сергей расправил с хрустом плечи, поглядывая из-под полуопущенных век с добродушной ухмылкой на наследников. Глянь-ка, как закопытили мои жеребчики, адали ноги им подбили[144]. Севодни не пойдут поди на вечерку, вишь как ухайдакались. Заложив за щеку щепоть табака, он терпеливо ждал, пока сыны закончат прокос и подойдут к нему.
– Все, хорош, поразмялись на голодушку, для первого уповода хватит, пошли к табору, завтрикать. Литовки-то с собой берите, отобью, легче идти будут.
Закинув косы на плечи трое Нижегородцевых направились по тропке к стану, угадывавшемуся по дымку поднимающемуся из-за раскидистых кустов тальника. Еще издали услышали они мелодичное постукивание молоточка. Кто-то из сенокосчиков отбивал косу. Настойчивое урчание желудков проголодавшихся косарей перемежалось с доносящимся от стана металлическим звуком и ржанием лошадей, пасшихся спутанными на луговине.
Подойдя вплотную к стану Нижегородцевы увидели нарушителя тишины. Им являлся Георгий, отец Глаши. В другой раз Степа подумал бы, увидев дядю Гошу, о Прошке, но не этим утром. Пряча взгляд, Степа пошел прямиком к своему балагану, ступая босыми ногами по росной траве, приятно остужавшей загоревшее жгучим огнем тело. Ему было стыдно, словно его уличили в чем-то непотребном. За спиной слышались приглушенные голоса отца и дяди Гоши. О чем они говорили, Степа, от охватившего его возбуждения, разобрать не мог. Раздавшийся окрик дяди Гоши, прозвучал в ушах Степы заставившим вздрогнуть выстрелом.
– Степа, соколик мой, ты чего же, литовку в балаган с собой понесешь?
Только сейчас заметил Степа, что отец и Мишка оставили свои косы на отбивку у дяди Гоши. Вернувшись, он подошел робко к Георгию, боясь поднять на него глаза.
– Здоровайте дядя Гоша.
– Здравствуй, здравствуй. Проходишь мимо, своих понимашь не замечашь.
– Да я это…, – замялся Степа, не зная, как выкрутиться ему из неловкого положения, если бы ему на выручку не пришел выросший как из-под земли Прошка.
– Степа, дружище, чего такой смурный, иди сюда, – махнул он приглашающе рукой и так же быстро скрылся, как до этого появился за травяной копной балагана.
Извиняюще пожав плечами, обрадованный представившейся оказией, Степа незамедлительно последовал другу. Тот ждал его за балаганом. Уже по его расплывшемуся масляным блином лицу, было ясно – ночь удалась. Подбоченясь, Прошка вытащил из кармана штанов вышитый петухами кисет, подаренный ему любушкой-зазнобой.
– Зырь, Нюрка подарила, посулила, ждать будет. Как вернусь со службы, свадьбу сыграем.
– Зарится[145] глаз сокола ясного, да зуб неймет – раздался позади насмешливый девичий голос.
Парни и не заметили, как к ним подошла Глаша.
– А ты откель взялась, как на камушке родила́сь, – парировал доморощенный пиит, в отличии от Степы, ни сколь не смутившись посторонней слушательнице.
Глаша, ничего не ответив, вскинула гордо голову и пошла по направлению к ручью, куда она, собственно, и собиралась идти. Чаевать пора, мужиков кормить. Она, как и Степа, была уже с раннего утра на ногах и откосила с братом первый уповод. Для своих пятнадцати лет, исполнившихся ей на Троицу, выглядела Глаша старше ее одногодков-подруг. С малых лет пришлось ей впрячься в тяжелую крестьянскую работу, замещая отца. Часто болевшая в последнее время мать хлопотала по домашнему хозяйству, Прохор был последние три года в работниках, зарабатывая себе на казацкую справу, вот и пришлось девчонке взяться за гуж, не жалуясь, что не дюжа. Отец ее, Георгий, терзался этим, но с одной здоровой рукой работник был из него аховый. Целыми днями, с утра до позднего вечера гнал он рубанком стружку в мастерской, а получив расчет, пускался во все тяжкие, чтобы пропившись до нитки, начать все сначала.
Степа, вспомнил кстати, что и ему пора к ручью за водой, и оставив друга стоять, поспешил в балаган за ведерком. Уже возле бившего из-под замшелого валуна родника нагнал он скорую на ногу Глашу. Несмело дотронувшись до ее округлого плеча, Степа проговорил вполголоса.
– Здравствуй Глашенька.
Отбросив прядь волос Глаша повернулась, обожгя озорным взглядом. Ее тугая грудь, выпиравшая из-под сатиновой кофточки, заставила забиться сердце Степы кузнечным молотом. Волна неизведанных доселе чувств охватила его, затмив разум. Не помня себя, он приблизился к ней, и их губы слились в долгом поцелуе. И также как прошедшей ночью, Глаша оттолкнула его от себя, и схватив ведро с водой побежала по тропинке к стану.