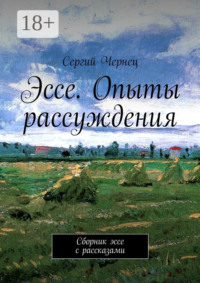Полная версия
Собрание сочинений. Том пятый. Рассказы
Иван Григорьевич сдался не сразу. Он подробно расспросил Сергея Фомича о болезни его друга. Потом долго и дотошно инструктировал Лужина, как больного нести – «ни в коем случае не поворачивать ни на живот, ни на бок даже». В это время Сергей Фомич уже ладил носилки. А первый пилот разбудил Костю, подготовил свой экипаж. Одевался и директор лесхоза Загунский. Заметив, как Лужин вопросительно смотрит на него, он решительно сказал:
– Я тоже пойду. Это ж мои кадры болеют…
– Тут неважно, чьи кадры, просто надо помочь человеку, сказал майор Аршинкин. Он стоял уже одетый, в шинели.
– Вы останетесь, – строго сказал ему Лужин. – Наш доктор сам болен, и кому-то из мужчин нужно остаться здесь…
Пятеро ушли в ревущий ночной лес-тайгу. Впереди с фонарём, легко шагал Сергей Фомич по знакомой ему лесной дороге-тропе.
________________
В доме больного горел свет. Это очень удивило Сергея Фомича. Но ему пришлось удивиться ещё больше, когда, подойдя ближе, он ясно услышал в доме сердитый мужской голос.
Мокрые они ввалились в дом. Больной сидел на постели, опустив ноги в тазик с горячей водой, от которой аж парило, а около него с полотенцем в руках хлопотал сам председатель колхоза Иван Иваныч. И ещё светловолосый паренёк возился около растопленной печки. Иван Иваныч, увидав пришельцев, растерянно спросил:
– Зачем пожаловали? —
Лужин объяснил, кто они и зачем пришли.
– Смотри, что надумали! – воскликнул он, не то восхищенно, не то раздражительно, подумал и сказал: – Дельно. А то я тут домашними средствами действую, а у вас врач имеется… —
Больной сидел неподвижно, уставившись в одну точку. Похоже, что он не понимал происходящего. Но когда его стали одевать, он очнулся и стал возражать:
– Да что вы, ей-богу!.. Что я, грудной, чтобы меня нести? Я сам пойду… —
Его не особенно слушали. Он быстро впал в беспамятство и снова стонал без сознания. Закутали его в овчинный тулуп, уложили на носилки и понесли.
Сергей Фомич с фонарём шел впереди. Иван Иваныч, стараясь перекричать ревущий от ветра лес, рассказывал майору Аршинкину, который нёс носилки сзади:
– Мы с молодым шофёром пошли охотиться. С ночевкой. На утренний перелёт. А к вечеру буря. Мы хотели домой. Не успели с болота выбраться. Шофёр завёл меня к леснику. И вот – на тебе. Лежит человек одни-одинёшенек. Стонет. И помочь некому… —
Иван Иваныч по привычке перешёл на разнос и критику, как привык командовать в своём колхозе. И получалось так, будто во всём майор Аршинкин виноват…
– Вы что же думаете? Что леса – это дикие звери? Нет, уважаемый! Леса – это и люди! Я вам расскажу, что это означает! Обросли, в городах, понимаешь, медвежьим салом. О людях в деревнях забыли. Я вам этот жир в два счета спущу!.. – критиковал городских председатель колхоза.
Майор Аршинкин слушал его и, как выросший в городе и всю жизнь проживающий в городах, в самом деле чувствовал себя виноватым.
– Работа у нас такая, – сказал он свое возражение, но Иван Иваныч его не слышал за ревущим среди леса ветром…
_______________
В доме коменданта, на аэродроме, больного положили на лавку возле печи. Теперь командовал врач Иван Григорьевич.
– Дело неприятное, – после осмотра сказал он. – У больного может быть обычный аппендицит. Воспаление. Как он еще не взорвался, – а может взорваться в любую минуту, поэтому нужна срочная операция… —
Растолкав всех, председатель Иван Иванович бросился к телефону…
Он договорился насчет машины и насчет больницы, в которой уже вернулся врач и должен был завтра приехать к больному леснику.
Не прошло и часа, как больного увезли. С ним поехали Иван Иваныч и его молодой шофёр.
Крик председателя колхоза разбудил Галю Степанову. Она слушала, как он распоряжается и командует по телефону, абсолютно ничего не поняла и, решив, что всё это – продолжение сна, снова уснула.
А спустя ещё час в домике коменданта аэродрома было тихо-тихо. Кроме Сергея Фомича, все спали. Первым уснул врач Иван Григорьевич. Странное дело – его больше не знобило…
А утром самолёт возобновил свой «полёт на закат»…
Утро, умытое грозой. Было необыкновенно прозрачным. Казалось, вдали виден самый край света. Солнце теперь находилось позади самолёта, и тень его мчалась по земле впереди, ныряя в ложбины, взбегая на косогоры. Самолет вёл второй пилот, Лужин хотел поспать хотя бы эти двадцать минут.
Спустя часа два Галя Степанова была уже дома и завтракала вместе с отцом. Она увлеченно рассказывала, какая буря была в лесу и как они ночевали в маленьком домике. Она узнала о приключениях с лесником от того же рыжего дядьки, который донимал её вопросами: не страшно ли ей лететь.
– Правда, папа, интересно? – спросила она.
– Очень интересно, – рассеянно ответил ей партийный работник. Он, сурово сдвинув брови, читал заметку в газете, критикующую отдел пропаганды горкома. Он злился – критика была правильной. Кто её любит, хотя бы и правильную?..
– Очень интересно, – рассеянно повторил он и, вдруг, с недоумением посмотрел на дочку, – что здесь интересного? Он о её рассказе уже забыл. А может, он вовсе его и не слышал…
Конец.Зарисовка: «Лес»
(подружки рассказ).
Погода какая у нас волшебная была. Август, моросящий дождь, холодрыга, все как положено. Осенью пахнет. В лес хочу, за грибами. Ужас как хочу в лес.
В прошлом году с родителями в деревне, в мой приезд, во время небольшого просветления, за грибами пошли. Лес у них новгородский, это не таежный сосновый бор, где подлеска то нет совсем, сухо, иголки пахнут, брусника всякая с голубикой и маслятами. У родителей лес лесной, перекопанный кабанами в кочки, с болотами, травой по пояс, осины, ольха, березы и елки вперемешку, буреломы, ветки с паутиной, сверху капает, снизу хлюпает. Ходить по нему надо запакованным в куртку, капюшон и штаны в носки запихивать, чтоб клещи и всякие комары с пауками не пробрались внутрь.
И вот, идешь так по кочкам этим и траве, а сырое все, хоть дождя и не было с утра, и тишина гулкая такая, и в капюшоне дыхание свое слышишь. Слышишь себя, как пыхтишь, пока по кочкам этим скачешь. И пахнет грибами-то, а нету грибов, грибов нет. Потом, вдруг бац… гриб! Там вот он, стоит. Ты к нему пробираешься, а по дороге кочки, трава, ямы, лужа какая-то черная, в ней лист осиновый плавает, в паутину лицом вляпалась, конечно, гриб же там, вот и несешься к нему со всех ног. Ну палкой шуршать пытаешься по дороге, чтобы змеи разбежались, но они, кажется, и без того разбежались уже, поняли, что сумасшедшие грибники пожаловали.
Ну, нашли гриба три, или пять может. Родители старенькие уже, долго и далеко ходить не могут, ну и дождь типа собирается. Ведь мы полдня за грибами этими собирались, пока солнце было полдня. Ну, пока проснулись, потом поели, потом в огород надо сходить… Ну и пошли, «пока дождя нет». Но у нас же семейное, мы без приключений не можем. Хотя ходили всего час где-то, и места там родителям знакомые – а заблудились. И конечно тут же ливануло, как только мы заблудились.
Собака Блум довольная скачет, вымокла вся, но контролирует наличие членов группы. То одного проконтролирует, то другого. Родители спорят, в своей обычной манере. 45 лет уже так спорят:
– Жанна, куда ты идешь-то, нам туда, туда я тебе говорю.
– Да не туда нам, ты все перепутал.
– Да туда, я тебе говорю.
– Юра, ну куда ты идешь, промокнем все, дождь холодный, нам туда надо, Конечно нам туда, вот же, туда нам.
– Да я точно тебе говорю нам сюда. Пошли, пошли, я тебе говорю.
– Да куда, это не туда вообще. Конечно. Это вообще в Парфёново. А собака где? Где собака? Блум! Блум! А, вот ты где. Юра, ну куда ты пошел, это в другую сторону же. Все, промокнем все сейчас. Под дерево встань, встань под дерево. Переждем под деревом. Зина, иди, под дерево встань, тут не капает. Ох, вот хорошо! —
– Думаешь переждем? Ну, переждем, давай переждем. Покурим пока. —
– Нет, дождь сильнее, пойдемте. Туда нам. Блум! Куда ты идешь то? Нам туда. А.. вот, дорога, надо же, нам сюда, – сказала мама-Жанна, и мы пошли.
Промокли насквозь все, встретили зайца, пришли, печку затопили, чай попили и спать легли, потом, на другой день, суп грибной сварили из пяти грибов, или трех что ли, и лимонный пирог. Вот такая была – охота за грибами.
Конец.На родину приехал
«Поэтическое».
Закончился лес, безо всякой опушки, сразу за высоким «забором» из елей и сосен открылось поле. В лиловой дали тонули холмы, и не было видно их конца. Высокий бурьян колебался в поле от ветра. Носился коршун невысоко, нацеливаясь и высматривая свою добычу. Воздух все больше застывал от зноя и тишины, покорная природа цепенела в молчании…. Ни «громкого» ветра, ни бодрого свежего звука, и на небе ни облачка.
Но вот, наконец, когда солнце стало спускаться к западу, холмы и воздух не выдержали гнета и, истощивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго жаркого дня. Из-за холмов неожиданно показалось пепельное-седое кудрявое облако. Оно переглянулось с широким полем – я, мол, готово, – и нахмурилось, превратившись в тучу. Вдруг в стоячем воздухе что-то прорвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом закружился по полю, словно оттолкнувшись от стены леса позади меня и взъерошив мои волосы на голове. «Наверное, дождь будет» – подумалось. Необычайно быстро туча закрыла весь горизонт и приблизилась. Тотчас же трава и высокий бурьян подняли ропот, по дороге спирально закружилась пыль, побежала по полю и, увлекая за собой сухие травинки, стрекоз и перья птиц, вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила закатное солнце.
У самой дороги вспорхнула птица. Мелькая крыльями и хвостом, она, залитая еще светом солнца, походила на рыболовную блесну или надводного мотылька, у которого, когда он мелькнет над водой, крылья сливаются с усиками и кажется, что усики растут у него и спереди, и сзади, и с боков…. Дрожа в воздухе, как насекомое, играя своей пестротой, эта небольшая полевая птичка поднялась высоко вверх, по прямой линии, потом, вероятно, испуганная облаком пыли, понеслась в сторону, и долго еще видно было её мелькание….
Невесело встретила меня моя заветная родная сторона. Вскоре пошел густой дождь. И в чистом поле мне совершенно негде было укрыться! Так я подошел к родной деревне – весь мокрый и слегка замерзший, и постучался в первый же дом на краю.
Мрачным, в вечерних сумерках, показался этот большой одноэтажный дом с ржавой железной крышей и с темными окнами. Этот дом в деревне называли «постоялым двором», хотя возле него никакого двора не было, и стоял он чуть в стороне от деревенской улицы ничем не огороженный. Чуть в стороне темнел небольшой садик с грядками, участок, вероятно, относившийся к дому огородик. В садике, раскинув руки, темнело чучело, и звякали банки консервные, подвешенные на нем, для того чтобы пугать стуком зайцев и птиц. Больше же около дома не было видно ничего, вокруг было поле, тянущееся до горизонта, где, вдали темнел край леса.
Раньше проходил тут Сибирский тракт. И может быть, этот дом сохранился с той поры, действительно бывший постоялый двор.
На стук мой в дверях показался хозяин. Его высокая тощая фигура размахивала руками: «Проходите, проходите, а то и ветер и дождь». Действительно, вымокший, я поспешил в тепло и оказался в полутемной большой комнате.
За старым дубовым столом сидела старуха. И комната мне показалась мрачной и пустой. Этот длинный стол у стены, в правом углу, был почти одинок. В комнате, кроме него, широкого дивана с дырявой клеенкой, да трех стульев, не было никакой другой мебели, ни шкафов, кроме иконного ящичка в правом углу над столом. Да и стулья не всякий решился бы назвать стульями. Это было какое-то подобие мебели с также потертой, отжившей свой век обивкой. У стульев неестественно сильно загнуты назад были спинки, придававшие сходство с детскими старинными санками. Трудно было понять, какое удобство имел ввиду неведомый столяр, загибая так немилосердно спинки стульев.
Комната поистине казалась мрачной при освещении одной маловватной лампочкой, да еще и спрятанной под тряпичным белесым выцветшим абажуром. Стены были серы, потолок и карнизы окон закопчены, на полу тянулись щели меж рассохшихся досок. И казалось, если бы в комнате повесили десяток лампочек, то она не перестала бы быть темной. Ни на стенах, ни на окнах не было ничего похожего на украшения (даже занавесок не было, какие обычно вешают хозяйки в деревнях: тюль и прочее). Впрочем, на одной стене в серой деревянной раме висел набор фотографий во множестве, такие обычно вешали в деревнях, где собирались фото всех родственников. Но и они потускнели от времени, и стекло было щедро засижено мухами.
Едва я прошел в комнату, за мной вступил через порог и хозяин, беспрерывно что-то бормоча и размахивая руками:
– Ах, боже мой, боже мой… дожжь, ветер, и собаку не вгонишь из сенков… ах, боже мой, боже мой… – только и успел разобрать.
Это был немолодой человек с очень бледным лицом и с маленькой и черной, как тушь, ровной бородкой на самом подбородке. Щеки его были чисты, будто выбриты, оттого лицо его казалось вытянутым овалом, худым, впалым. Одет он был в поношенный пиджак, который болтался на его узких плечах, как на вешалке, и взмахивал фалдами, точно крыльями, всякий раз, как хозяин от радости или в ужасе всплескивал руками. Кроме пиджака, на хозяине были еще широкие серые брюки и цветная рубаха навыпуск с рыжими цветами, похожими на больших тараканов.
– Здравствуй же, Антипыч! «Узнал ли Калавая-то!» – сказал я, повернувшись к хозяину вполоборота и подставляя лицо свету от лампочки.
Антипыч узнавал меня с минуту, наклоняясь из стороны в сторону, разглядывая. Узнавши все-таки, он сначала замер от наплыва чувств, потом всплеснул руками и простонал. Пиджак его взмахнул фалдами, спина согнулась, а потом резко выпрямилась, и бледное лицо покривилось такой улыбкой, как будто видеть меня для него было не только приятно, но и мучительно сладко!
– О-о-о! Ах, да это-ж ты! Боже мой, боже мой! Кала-а-а-вай! —
Ах, боже мой! И где же ты пропадал… – и засуетились мы оба. На глазах обоих выступили слезы, и мы скрывали их, незаметно смахивая кулаками, а оттого и задвигались, засуетились. Я стал снимать мокрую курточку, и брюки, и обувь, которая тоже вымокла, когда я бежал в дождь по лужам напропалую! Так же подключилась и «баба Зина». Она подала нам вешалку, принеся ее из другой комнаты, из-за печки. Она поставила там, в другой комнате чайник и постелила скатерть на стол и собирала там продукты, незатейливый ужин.
Вот я и «дома» – с таким ощущением я пил чай у своих друзей, в своей деревне, где прошло моё детство. В чистой фланелевой теплой рубашке, в трико и обрезанных валеных тапочках я согревался чаем из трав: зверобой и еще какие-то, которые собирала и готовила сама Баба Зина, по рецептам известным только ей! Знаменитая на всю округу травница была, лечебные отвары – сборы готовить умела. А друг Антипыч постарел. Он пастухом ходил теперь: всю скотину, с трех близких деревень собирал и гонял на реку, через перелески, на заливные луга, пасти! Вечером обратно. «Там и козы, и овцы, ну и коровы с бычками – смесь в стаде моем, смотреть одному трудно… подпасков беру из пацанов местных» – рассказывал Антипыч.
И долго мы еще пили чай, разговаривали о житье-бытье.
«И что-ж ты пропадал надолго так? Не приезжал совсем?! – спрашивал Антипыч.
«Да и к кому бы я тут приехал?! Дом-то мой как…?» – в ответ я рассказал, что ездил учиться в институте – 5 лет, а потом работал по распределению аж в Туркмении. Тем более после смерти матери, наш дом мы продали соседу Женьке, он с армии пришел и женился. Антипыч пояснил, что дом стоит заброшенный, а Женька уехал в большой поселок в другом районе, вообще, там он квартиру имеет городского типа.
«О, это хорошо! – сказал он, пригрозив пальцем в воздухе куда-то вверх. – Это хорошо! Выучился ты и профессию приобрел. Ты теперь умный стал, богатый, с „амбицией“ (употребил Антипыч слово, явно не понимая его значения). Вот бы мать то твоя обрадовалась! О, это хорошо!»
«Ну, да! Откуда мне быть богатым. Заработал вот немного, а сколько лет ушло, полжизни убил. Вот и приехал «на старости лет» пожить на родной земле.» – так с иронией в голосе пояснил я Антипычу в ответ на вопрос – «чё, мол, приехал одиноко.
«М-да… – объяснял я далее – Мне-то нечего Бога гневить, достиг я уже предела своей жизни, чувство такое. Детей не нажил, и с женой развелся. Тут из-за детей и вышел скандал. Проверялся по молодости: бесплодие у меня – вот!».
«Ну, – заявил Антипыч – против природы не попрешь!»
«И-то! Жить мне потихоньку на родине, кушать, да спать, да Богу молиться, больше мне ничего и не надо. Чувство такое – что доживать приехал, и никого мне не надо и знать никого не хочу. Отродясь у меня никакого горя не было, и теперь, если б, к примеру, спросил меня Бог: „Что тебе надобно? Чего хочешь?“ Да ничего мне не надобно! Все у меня уже есть и все слава Богу. Счастлив я уже тем, что живу вот! Только грехов много, да и то сказать, один Бог без греха. Верно ведь?».
«Стало быть, верно». —
Антипыч и учил меня в свое время и Закону Божьему по старинной книге, и молиться, от него я научен был. Не был он особенным – ни сектант какой, но в деревне нашей верующий был он только один, истово верующий! Вот и стали мы опять о Божественном промышлении разговаривать. Разговор затянулся было до полуночи.
Так я приехал на родину. Выкупил у Женьки домик свой старый, дедовский, конечно. И начал я сельскую свою жизнь потихоньку, о которой и мечталось.
Конец.Разум – врач и пономарь беседуют
Разум – счастливый дар человечества
И в то же время – он же, разум – проклятие людей!
В рассказах Чехова завершалась тема маленького человека, – эта трогательная тема Гоголя и Достоевского, которые подняли малость и унижение до трагедийных высот.
Чехову принадлежат удивительные слова о человеке, в котором всё должно быть прекрасно: «и лицо, и одежда, и душа, и мысли» и люди в его глазах, наверное уже вообще не могли быть «маленькими». Каждый человек имел своё значение. Весь секрет заключается в том, что Чехов изображал не людей («маленьких»), а то, что мешало людям быть «большими». Он изображал и обобщал это самое «маленькое», эти обстоятельства в людях.
Например, низы чеховского города населены весьма разнообразными созданиями (даже не людьми, в подлинном смысле), получившими название «мелюзга». В них обобщен темный осадок жизни, который марает, пятнает душу человеческую, и, естественно, эти персонажи мало похожи на людей. Есть среди них Хамелеон, а есть лакей, который нажил целое состояние свое тем, что свиньей хрюкал; есть философствующий обыватель, о котором только и можно сказать, что на нем синие панталоны; есть городовой Жратва; учитель Тарантулов; золотых дел мастер Хрюкин; генеральша Жеребчикова; купец Кашалотов; подпоручик Зюмбумбунчиков….
У этой «мелюзги» есть своя поэзия – рассказ «Сирена», есть своё собственное представление о равенстве и братстве – «Нынче все равны», – говорит один из персонажей «Хамелеона». – «У меня у самого брат в жандармах… ежели желаете знать». Есть у «мелюзги» своя доморощенная философия, о которой Чехов заметил: «В России философствуют все, даже мелюзга». Вот, например, один из афоризмов от «философов»: «Польза просвещения находится еще под сомнением, вред же, им приносимый, очевиден». Или еще по-другому: «Если жена тебе изменила, радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству». Или сказать ещё так: «Маленькое жалованье гораздо лучше большого безденежья».
Мелюзга рвется к чинам, к деньгам, к сытой и праздной жизни – всеми силами, любой ценой… лишь бы выплыть наверх хоть в хронике происшествий: в рассказе «Радость», 1883. – «Ведь теперь меня знает вся Россия! Вся! Раньше только вы один знали, что на свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдарев, а теперь вся Россия знает об этом!».
Удивительную речь мелюзги передает Чехов почти в оригинале, речь неумелую, подражательную речь полузнаек. Которые: «хочут свою образованность показать и поэтому говорят всё о непонятном». Об этом можно было провести целое исследование, настолько эта речь персонажей Чеховских характерна и выразительна: «Позвольте вам выйти вон!», «Извините меня за эти кель-выражансы», «Я должен вам иметь в виду», «Прежде, матушка, когда либерализмы этой не было», «Всякий, кто мог, расставлял передо мной сети ехидства и иезуитизма!».
Психология мелюзги воссоздана в рассказе всего полнее, в удивительном, по своей беспощадной правдивости, который Чехов так и назвал «Мелюзга» 1885 год: «Украсть нешто? – подумал он. – украсть-то, положим, нетрудно, но вот спрятать-то мудрено…. А Америку, говорят, с краденым бегают, а черт её знает, где эта самая Америка! Для того, чтобы украсть, тоже ведь надо образование иметь…. Донос написать… да как его сочинишь! Надо со всеми экивоками, с подходцами, как Прошкин…. А куда мне! Такое сочиню, что мне же потом и влетит».
Если Чехов и «разоблачал» что-то в людях, в человеке, то прежде всего – это способность и готовность его быть «маленьким».
Человек мыслит, думает, размышляет.
Одно из характерных свойств ума, в том, что сталкиваясь с противоречиями, он не может оставаться пассивным. Ум приходит в движение с целью разрешить противоречие. Всем своим прогрессом поэтому человечество обязано этому факту.
– — – — – —
Еще с раннего утра небеса сияли такой ясной синевой, что весь день обещал быть жарким: ни облачка вокруг до самого синего горизонта и тишина, будто природа вымерла. Врач скорой помощи Сергей Петрович и пономарь Кудряшов шли по дороге между двух колхозных полей к дальним прудам за карасями, и поля эти, засаженные гречихой, представлялись им бесконечными. Далеко впереди из марева испарений, идущих от земли, были видны постройки маленького летнего стана с большими навесами. Если глянуть с холма, по которому спускалась плавно и полого полевая дорога, то были видны, на той стороне от низины прудов и стана, такие же громадные поля уже желтеющей пшеницы. Теперь, в тихую погоду, пока природа не отошла ото сна и не думала от него отходить, Сергей Петрович и Кудряшов были рады тому, что столь прекрасна была их родная сторона.
– В прошлый раз, когда мы ночевали на старице, – сказал Кудряшов, – ты собирался мне рассказать какую-то историю.
– Да, я хотел тогда рассказать про своего брата.
Сергей Петрович протяжно вздохнул и переложил рюкзак с одного плеча на другое, чтобы быть лицом к сопутнику и начать рассказывать, но как раз в это время их стала догонять грузовая машина, за которой развевался огромный шлейф пыли. Путникам пришлось свернуть на обочину и даже подальше отойти от дороги, чтобы пыль их не задела. Чтобы не попасть под пылевое облако, нависшее над дорогой и в тишине безветрия не желающем опускаться, они пошли к пруду по засеянному полю, забирая влево, в сторону от построек полевого стана. Скоро показались тополя и кустарник, разросшийся вокруг пруда, заблестела вода противоположного берега, видного с пригорка по которому путники спустились к пруду.
На берегу, в первом же проходе, протоптанном среди густой и высокой травы, уже сидел рыбак, мужчина лет сорока, полный, с длинными волосами, похожий на художника или поэта, как его изображают на карикатурах. На нем была светлая рубаха и спортивные брюки с полосками на боках, лицо выглядело черным против светлой полосы шеи, так загорело на солнце. Он узнал пономаря Кудряшова и, по-видимому, очень обрадовался.
– Приветствуем рыбаков-везунчиков, – сказал он, улыбаясь. – Я сейчас к вам подымусь.
Спуск к берегу был чуточку круче и весь берег зарос разнотравьем, среди которой выделялись высокие кусты чертополоха. Вода в прудах была чистейшая, потому что через них протекала местная речушка Манага, которую и перекрыли плотинами, устроив три пруда подряд. И рыба в прудах должна была быть, так как для зарыбления запущены были карпы, а уж хищник: окунь и щука, разводились сами во множестве еще в естественной речке и её омутках ниже прудов.
– Рад вас видеть дорогой наш «святой человек», – обратился рыбак, пожимая руки, нашим друзьям. – Раз церковный человек пришел на пруд, значит, и рыбка будет клевать.
Свои слова, сказанные безо всякой иронии («святой человек») новый знакомый пояснил в рассказе про присутствовавшего тут пономаря. Познакомившись, рыбак представился как Володя-тракторист, они присели тут же на низкорослую траву, не спускаясь через заросли чертополохов к воде.
– О-о-о! Так вы не знаете, что все его в нашем поселке называют «святым», так я вам расскажу. – Обратился к недоуменному взглядом Сергею Петровичу Володя-тракторист и доставая сигарету, закуривая рассказал историю происхождения такого необычного прозвища пономаря Кудряшова.