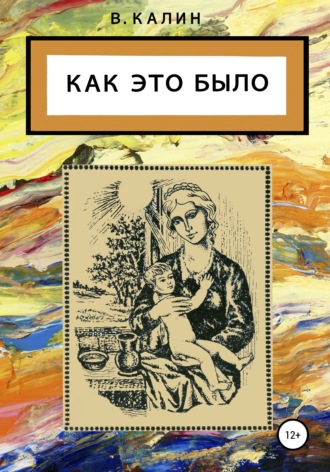 полная версия
полная версияКак это было
Во втором случае, рассказанном мной про нападение двух самолетов, это была уже не бомбежка, а просто атака на «гоп-стоп», плюс случайное пересечение разных интересов и чьих-то неизвестных судеб. Скорее всего, эти истребители были из эскорта бомбардировщиков или проводили разведку. Обнаружив такую заманчивую цель – большой поезд на станции, решили его атаковать. Обычный прием для истребителя, не имеющего бомб: спикировав на небольшую высоту, пройтись над поездом на бреющем полете, поливая его огнем из своих пушек или пулеметов.
Тот самолет, который свернул в сторону, вероятно, почувствовал какую-то опасность, может быть, увидел зенитки и с большим мастерством, продемонстрировав высший пилотаж, ушел из опасной зоны; второй же самолет продолжил свой последний смертный полет над поездом. По-видимому, к этому времени пилот был ранен или убит.
Вот так завершился «разбор полетов» спустя четверть века после этого события, обогатив меня той информацией и знаниями о войне, которыми я делюсь с читателями. Еще я узнал, что моя контузия с потерей слуха была довольно распространенной травмой в начале войны на фронте. И сейчас немного подробностей об этом.
В начале войны в госпитали привозили много раненых с жалобами на потерю слуха и также много «самострелов» – это когда кто-то стреляет себе в руку, ладонь, в ягодицу навылет, чтобы отдохнуть в госпитале, хоть на время избавиться от того страха и ужаса, который ждет его на передовой. Это время очень тяжелое для страны: отступления, потери, много неразберихи и на фронте, и в тылу. Сначала эти фокусы проходили, потом быстро разобрались, как отличить «самострел» от боевого ранения и наказание за это ужесточили. Помните про начальника Березкина? «Высшей мерой наградил его трибунал за самострел».
А вот с глухотой было не так все просто. Особенно в начале войны, когда еще не было опыта воевать и лечить в полевых условиях. С этой травмой попадали в госпитали танкисты, ведущие огонь из замкнутой кабины танка, артиллеристы, аэродромная обслуга, встречающая приземляющиеся самолеты – это, так сказать, штатные ситуации, но ведь шла война, и получить такую контузию в бою мог каждый. Конечно, голову защищали касками, различными шлемофонами с плотными наушниками, ушанками и инструкциями о том, что надо открывать рот при таком воздействии на уши. Диагностики в прифронтовых госпиталях тогда никакой не было, и разобраться – симуляция это или серьезная травма практически невозможно. В госпиталях таких «глухарей» скапливалось столько, что не оставалось места серьезным раненым, у которых, как говорится, все на виду, а не где-то там в ухе. Тогда руководство ужесточило наказание для всех симулянтов, а не только для «самострелов».
Поток «глухарей» резко снизился, люди предпочитали воевать глухими, чтобы в результате врачебной ошибки не попасть под трибунал. Возможно, у многих, как и у меня, слух какое-то время спустя восстанавливался, но и после войны в течение многих лет я встречал людей, которые на фронте потеряли слух.
Я еще расскажу о разных интересных людях, с которыми встречался в своей жизни, а пока вернемся в наш поезд, вернее вагон, преодолевший к этому времени половину пути моего сложного возвращения домой. Меня часто спрашивали родственники и одноклассники, – что ты ел во время этой поездки. Но об этом в моей памяти, кроме нескольких эпизодов, почти ничего не сохранилось. Помню только некоторые каши из полевых кухонь и как меня «мамка» угощала лепешками с молоком. И все… Из вкусовых ощущений больше ничего не сохранилось. Но так как я был старожилом этого вагона, конечно, я наблюдал и хорошо помню, чем питались попутчики и сам процесс приготовления пищи.
Основа всему был кипяток, который имелся на некоторых станциях. Доставив этот кипяток в вагон, им заливали разные сухие смеси, из которых получались такие блюда, как гороховое пюре, крупяные, мучные каши и супы с непонятными комочками. Частенько во время долгих стоянок разжигали костер, на котором заваривали чай, варили картошку, и можно было приготовить самый вкусный деликатес за все время нашего путешествия – омлет из яичного порошка.
Иногда женщины получали на некоторых станциях бутылочки с молоком для грудных детей и наборы разных смесей. Попадались пакеты с иностранными надписями, где ко всяким сухим порошкам было добавлено несколько галет, а также сухое молоко и яичный порошок, в некоторых пакетах был сахарин и две таблетки в прозрачной целлофановой упаковке. При раздаче этих продуктовых наборов присутствовал комендант станции, который изымал эти таблетки из наборов, объясняя, что эти таблетки не для женщин и детей. Ну а кое-кто проносил их в наш вагон контрабандой, и потом часто были большие обсуждения для чего и от чего эти таблетки. Учителя, бывшие среди нас, перевели, что эти таблетки можно употреблять, даже если они находились в воде не больше 24-х часов.
Об этих съедобных наборах осталась память где-то в самом уголке моих детских впечатлений о войне, но в 60-е 70-е годы неожиданно вдруг оживилась и вновь напомнила о себе. Знакомые летчики, перегонявшие транспортные самолеты «Дуглас» в Советский Союз, рассказывали, что перед вылетом эти борта загружались разными товарами, которые американцы нам поставляли по ленд-лизу. Среди этих товаров были и знакомые мне продуктовые пакеты, а один пилот оставил этот пакет как память о своих перелетах из Америки. В нем оказались и неизвестные таблетки в герметичной упаковке. Я открыл продуктовый пакет и почувствовал легкий неуловимый запах – такой аромат остается иногда в коробках из-под сладостей. Вероятно, пакет был закрыт много лет, сохраняя этот стойкий запах, или же такая версия, что хитроумные американцы уже тогда имели возможность создавать стойкие химические ароматы. А около таблеток оказался русский перевод инструкции, сделанный во время войны. Предписывалось применять эти таблетки в случае крайнего истощения, психологической подавленности, кроме того они снимали стресс, устраняли тревогу, поднимали настроение. Там еще много чего было обещано, причем на двух или трех языках. Поневоле задумаешься, а что это такое было на самом деле. Волшебное снадобье или просто рекламный трюк союзников по антигитлеровской коалиции: авось, купят, не разбираясь, в общей куче. По крайней мере, общаясь с фронтовиками, я ничего не слышал о заявленных чудесных свойствах этих таблеток. А у меня сложилось такое мнение: после создания своего национального напитка кока-колы американцы всячески превозносили и рекламировали его чудодейственные особенности. Возможно, эти неизвестные таблетки, созданные на основе колы, из этого же ряда.
Вот так мой рассказ про «меню» наших пассажиров увел меня немного в сторону, но напомнил мне о некоторых других подробностях нашего быта. Проехав в этом поезде больше месяца, я уже знал, что электричество для освещения мы получаем от динамо-машины, расположенной под вагоном и соединенной с колесами, поэтому, чем быстрее вагон едет, тем ярче святят лампочки. Когда вагон стоит, колеса не крутятся, динамо не работает, света нет. Но в углу вагона стоял большой ящик, заполненный электробатареями, над ним – лампочка с отражателем и выключатель. Это было аварийное ночное освещение, предназначенное для стоянок, но включали его только в экстренных случаях, обычно же вагон освещался керосиновым фонарем «летучая мышь», который находился у дежурной.
Вообще, в нашем вагоне существовала какая-то ненавязчивая дисциплина и порядок – особенно в 1–ю половину поездки, когда большинство людей ехало подолгу и быстро привыкало к предъявляемым требованиям. Например, нельзя было стирать в вагоне, плескаться, умываться, пользоваться зажигалками; в обязанности дежурной входило утром и вечером подметать пол в вагоне, она же во время дежурства, которое длилось сутки, являлась смотрящей за фонарем «летучая мышь».
Наши женщины, общаясь с дежурной, часто называли ее «хранительницей огня», потом упростили это название, и она стала «охранкой». Дежурная была единственной в вагоне, кто мог пользоваться зажигалкой, она же участвовала в розжиге костра. Спичек тогда ни у кого не было, по крайней мере, за время поездки я их никогда не видел. Я частенько наблюдал, как некий человек с цигаркой, обойдя многих на станции, подходил к нашему вагону и просил прикурить. Если «хранительница» была в вагоне, она щелкала зажигалкой перед носом просителя, и он, рассыпаясь в благодарностях, удалялся, бормоча, что обошел полстанции и нигде не мог найти огонька.
А серьезные, запасливые мужички имели в своих карманах такой прибор для добывания огня: камешек-кремень, льняной или пеньковый трут (можно назвать это шнуром) и обломок напильника, которым высекали искру из кремня, после чего начинал тлеть шнур, от которого прикуривали. Во многих деревнях на Ветлуге я видел у старых фронтовиков такие первобытные зажигалки до конца 70-х годов.
Странная, очень странная вещь человеческая память: иногда она подчиняется тебе, когда ты даешь ей установку на запоминание и понимание какого-то технического или умственного процесса. Но временами, если ты ее особо не напрягаешь, как-то выходит из-под контроля хозяина и начинает существовать сама по себе. Живет, конечно, не сама память, а та таинственная субстанция, то серое вещество, которое называется мозгом. Если разобраться, то там целая вселенная, где есть все: история твоей жизни, история окружающего мира, как ты ее понимаешь, Бог, который движет твоими помыслами, и сатана со своими соблазнами.
И вот, учась в младших классах, эта самая моя память, когда я ее очень напрягал, уча таблицу умножения, никак не подчинялась мне: я очень устал за этим занятием, стал клевать носом и понял, что просто хочу спать. Но уснуть я не мог очень долго. В голове крутились совсем не те цифры, которые я заучивал, они превращались в какие-то странные фигуры, прыгали, кружились черно-белым калейдоскопом. Промаявшись так еще некоторое время и почти засыпая, память вдруг показала мне несколько незначительных эпизодов из моего детского путешествия. Я даже не понимал: сплю я и вижу сон, или это некое видение, посетившее меня. Проснувшись утром, я хорошо помнил, до мельчайших подробностей, открытую дверь нашей теплушки и несколько знакомых лиц моих попутчиц, промелькнувших передо мной. Во время этого видения или сна, я мучительно пытался вспомнить, где я видел эту станцию, и какое событие у меня связано с этим эпизодом. Но тщетно…. Только очень подробная, ясная картинка во всех ракурсах.
Затем я стал повторять таблицу умножения и буквально за 10-15 минут выучил то, что мне не удавалось запомнить накануне. Это событие осталось надолго в моем сознании, и в течение жизни, часто возвращаясь к нему, я пытался найти объяснение, почему память отказывалась воспринимать запоминаемые цифры, но четко показала мне вдруг эпизод 5-тилетней давности. Много было рассуждений на эту тему с разными собеседниками, и мне очень понравилась версия о независимой жизни нашего мозга и, следовательно, памяти. В зрелом возрасте я рассуждал примерно так…
Вот ты загрузил нас (мозг и память) своими дурацкими цифрами, мучил неправильными установками, ошибками, мы устали и отключились, то есть хотим спать. Мозг отдыхает после напряжения и, отдохнув, он возрождается, извлекая из своего таинства некоторые забытые тобой события. Вот тебе твой поезд пятилетней давности, вот тебе встреча с отцом в трехлетнем возрасте. Так сказать, нынешним языком, произошла «перезагрузка», а говоря старинным языком: на свежую голову ты все выучил и все понимаешь. Я тогда, в детстве, конечно, так не мыслил, но каким-то шестым чувством подозревал что-то подобное, и с тех пор твердо знал: если у тебя что-то не получается, нужно отдохнуть, встать с рассветом и принявшись за дело, у тебя все получится.
Вот и тогда, пять лет назад, что-то нарушило мой спокойный утренний сон: невнятный шум, разговоры, а ласковая прохлада, пробравшаяся под рубашку, окончательно разбудили меня. Дверь нашей теплушки открыта, возле нее знакомые лица моих попутчиц. Снаружи виднеется необычное каменное здание – оно не похоже на станцию, это небольшой домик, очень аккуратный, возле него видны красивые цветы, окруженные узорчатым железным палисадником. К привычным запахам нашего вагона, кроме свежего утреннего воздуха примешивается легкий, еле уловимый запах неизвестных цветов. Я выпрыгнул из теплушки: станция оказалась немного в стороне от нас, а поблизости было еще два домика с цветами и палисадником. Обычно на станциях витал сильный паровозный запах – смесь масел, мазута и еще чего-то черного, скользкого. И эти немного игрушечные строения, этот свежий утренний воздух, насыщенный ароматом цветов, так были непохожи на все, что я видел раньше за время своего путешествия. Я решил погулять и осмотреть внимательно этот прекрасный оазис.
Если раньше мне не разрешали отходить одному далеко от поезда, то теперь я уже знал, что вагон без паровоза никуда не уедет, а если под колесами на рельсах лежат тормозные колодки, значит, вагон будет стоять долго. Колодки под вагоном были на месте, паровоза нигде не видно и не слышно; смело – в путь. Я еще не дошел до конца небольшого состава, как со стороны станции по громкой связи объявили, чтобы пассажиры женского вагона не отлучались далеко от поезда. Пришлось возвращаться.
Этот эпизод, о котором я рассказал, как-то оживил в памяти события, происходившие во время моей поездки. Дело в том, что, приехав в Баку, я долго болел, сначала меня лечили от истощения, потом болезни пошли чередой: скарлатина, корь, свинка и еще много другого. Жизнь превратилась в какое-то мутное непонятное существование. Помню немного детский садик, потом разные школы, приходилось вписываться в другую жизнь, чужие национальные обычаи. Южная жизнь была не похожа на ту, которую я видел в Горьком. Среди детей были сложившиеся группы разных этносов (дворовые, уличные) и где-то в глубине, почти на подсознательном уровне, существовала борьба за превосходство или вернее, лидерство. В юности один мой аварский приятель, рассуждая об этой особенности кавказских народов, называл ее «адат».
В течении всего этого времени моих болезней и привыкания к окружающим обычаям, я почти не вспоминал про свое долгое путешествие. И вдруг, спустя почти пять лет, память возвращает меня к видению станции-оазиса; крохотный, забытый эпизод из моей поездки.… И с этого моего видения, или сна начались как бы заново открываться мне многие события, которые тихо покоились, как бы дремали в глубине моей памяти.
А тогда, вернувшись в вагон, я сразу окунулся в бытовую, хозяйственную жизнь, которой приходилось заниматься во время поездки. Население нашего вагона естественно разделилось на небольшие группки – это были ближайшие соседи, которые вместе обедали, спали рядом, ходили за пайками, водой, нянчили детей и всячески помогали друг другу. У меня тоже была своя компания – моя сопровождающая с грудным младенцем, вялая, сонная особа, которая вечно укачивала своего ребенка и рядом с ними находились Татьяна и я. Татьяна ехала с ребенком младше меня годика на два.
Ехали вместе мы уже неделю, может больше. Почти все время моя вожатая спала и баюкала младенца. Своего молока у нее не было, и она кормила его так: сначала совала грудь – он вцеплялся в нее ручонками, начинал чмокать губами, потом бросал и готов был зареветь, в этот момент она рядом с грудью подсовывала бутылочку с соской, и он, теребя грудь, с удовольствием поглощал содержимое бутылочки. Потом они вместе засыпали. Я даже не помню, когда она выходила из вагона, разве только за пайком, где надо было показывать свои документы. Ей вечно всего не хватало, я помню, что ей помогало все население нашего вагона, угощало ее, заботилось о ней; вспоминая об этом, я подумал, может, она была просто больная.
А мы с Татьяной были работниками в нашем маленьком коллективе. Мыли посуду, выливали горшки, таскали воду, дрова при розжиге костра, стояли в очереди за пайками. И вот как-то моя соседка, когда ее сынок расправился с полученной бутылочкой, говорит мне: «Виталик, сходи, пожалуйста, за бутылочкой с молоком, скажи, что мама разбила бутылочку, и ребенку нечего есть». Татьяна как-то странно посмотрела на нее, а я на Татьяну, она вроде бы открыла рот, что-то хотела сказать, но промолчала. Я пошел, очередь уже разошлась. Говорю, как меня научили. А мне отвечают, давай, мол, документы. Врать мне особо никогда не приходилось, а тут как-то понесло. Говорю: «Паек мы уже получили по документу, да вот мама бутылочку уронила на рельсы, и братику нечего есть». Ну, дали мне бутылочку, принес я ее в вагон, отдал соседке.
Сложное чувство я испытывал – радость от того, что помог; неприятное, что врать пришлось, а ведь все мое прошлое людское окружение внушало мне, что обманывать людей нельзя – это большой грех, да и Татьяна, хотя осуждающе посмотрела на меня и соседку, но промолчала. А в голове крутилась такая подленькая мыслишка, ну если очень, очень что-то нужно, то можно и соврать. Еще раз меня послали на другой станции за молоком, но в этот раз мне отказали, я подумал, что все окружающие узнали про мою ложь, и больше я за бутылочками не ходил.
А тогда, после радиообъявления я возвратился в вагон и на меня обрушился поток разных новостей. На следующей станции организуется баня и дезинфекция вагона, всей одежды и имущества наших пассажиров. Надо все собрать и подготовить к выгрузке из вагона. Мы с Татьяной занялись этими хлопотами, работали мы споро, все убрали, вымыли, упаковали, помогли нашей больной соседке с ребенком, надо сказать, что Татьяна к этому времени уже ехала без ребенка – его забрали родственники пару дней назад. Она же продолжила свой путь на запад к своему потерянному дому и городу, недавно освобожденному Красной Армией. Управились мы быстро, присели отдохнуть. Я сидел, прислонившись к собранным матрасам, немного расстроенный тем, что меня лишили возможности погулять по такой красивой, интересной станции. Вагон ритмично покачивается, колеса постукивают, Татьяна дремлет. Положив голову на тюк с вещами, я тоже вот-вот усну. Беспокойство не дает мне уснуть. В очередной раз задремав и пробудившись, я вспоминаю, что нас ожидает впереди…Баня…
А баня для меня – это целое событие, которое я очень не любил и боялся. Примерно, как котенок, которого моют: он может вырываться, царапаться, но когда поймет, что это бесполезно, и пытка все равно состоится, покоряется обстоятельствам – стоит, бедный, и трясется мелкой дрожью. Вот что такое была для меня баня. За все время поездки баня была у нас два раза: первый – дней десять назад, но тогда я смог отвертеться, сказав, что у меня сильно болит голова, я кашляю, простуженный, значит, мыться нельзя. И вот сегодня мне опять предстоит эта противная баня.
Пришло время мне рассказать читателю, почему я так боялся этой страшной процедуры. Покинем ненадолго наш вагон и перенесемся в город Горький, на Ковалихинскую улицу, где располагались старинные общественные бани. Сначала я посещал эти бани с дедушкой, потом, когда дедушка умер, с Лидой. Бани мне не понравились сразу: много шума, визга, плеск воды, пар, как туман, гулкое эхо вокруг. Но самое неприятное, когда тебя окачивают из шайки: вода попадает в глаза, рот, нос, я начинаю открытым ртом судорожно вдыхать воздух, заглатываю воду; дыхание перекрывается, воздуха не хватает – я в панике, куда бежать, где спрятаться. Да тут еще мыло попадает в глаза, дерет, нос не дышит, он заполнен попавшей водой, ничего не вижу, не слышу; беда, за что мне это наказание?! Обычно потом следовала завершающая процедура, меня хлопали по спине, я выпускал воду из носа, горла и, придя в себя, с хлюпаньем и облегчением радовался окончанию этих тяжких испытаний.
Тогда в женское отделение, которое я посещал с Лидой, многие женщины приходили с маленькими детьми, и примерно к шестилетнему возрасту я стал неловко себя чувствовать среди этого беспокойного кричащего, плачущего сборища. Как-то раз, во время очередного мытья головы, с моей последующей паникой, я услышал довольно нелестные реплики окружающих женщин на мое поведение, и кто-то добавил: «вроде взрослый мальчик, а в женскую баню ходит».
Началось небольшое обсуждение, мол, война, мужики на фронте, на заводах, что же она (Лида) его в мужскую поведет? Ну, в итоге сошлись, что ничего особенного нет, ты, мальчик, не стесняйся, ходишь в женскую, ну и ходи. Почувствовав себя в центре внимания, я как-то стушевался, посмотрел на окружающих детей: действительно, я вроде постарше и побольше. И если на улице среди друзей я – самый младший, это очень обидно, так плохо быть маленьким, скорей бы вырасти, а тут наоборот – я вроде самый старший, и опять не в радость, что-то не так.
Да еще, помнится, как-то раз в конце зимы, после бани, Лида меня закутала, одела и оставила в предбаннике посидеть, пока сама одевается. Сижу я, отдыхаю, и вдруг из женского отделения выходит Аида – наша вожатая, красавица и почти учительница. Она как-то странно посмотрела на меня: «Так ты, Виталик, в женскую баню ходишь?» Я смутился, не знаю, что говорить, раз я здесь сижу, значит, мылся здесь, а не просто так пришел посидеть. Как же там, в бане я ее не узнал; хотя там два помещения, может, она в другом была, а, может, меня видела, а я с замыленными глазами вообще никого не видел.
Вернувшись домой, я твердо заявил, что в женскую баню больше не пойду. Никакие Лидины доводы и уговоры не действовали – нет, и все.
На Ковалихе у нас жили родственники, Лида сходила к ним и договорилась, что, когда в баню соберется их мужская компания – они возьмут и меня с собой. И вот этот день настал. Лида собрала мне банное белье, мыло, мочалку, и с этим добром под мышкой: гордый – я уже взрослый, отправился в мужскую баню. Моих провожатых было трое – мой двоюродный братец с березовым веником и два его однокашника. Все постарше меня, очень важные, беседуют о чем-то своем, идут быстро, я за ними едва поспеваю.
Пришли… Разделись…Заходим в мужское отделение, кто-то меня спрашивает:
– А тебя парили в бане?
Я как-то не задумывался над этим, парили или нет, но поскольку в бане иногда из каких-то труб шел белый теплый пар, я подумал: наверное, парили. Так и ответил. Помылись, как обычно, когда меня окатили водой из шайки, постарался не выказывать своих эмоций и недовольства – ребята серьезные, это тебе не с Лидой капризничать. И тут мне говорят:
– Пойдем, попаримся.
Что-то такое екнуло внутри, я-то думал, что мытье окончено и хотел уже одеваться. Но раз зовут – надо идти, баня мужская, наверное, так заведено.
Заходим в какую-то дверь, меня сразу обдало жаром с головы до ног, передо мной пирамида из больших широких ступеней. Таких ступеней две, а наверху небольшая площадка. Жар сильный, но терпеть можно. Я сел на вторую ступеньку, но мне говорят: лезь наверх и ложись на живот. Я лег, и братец стал меня легонько хлестать веником, начиная с шеи, по спине и до пяток. Это не больно, веник больше шуршит по моему телу, как-то приятно щекочет его, но наверху такой жар, намного сильнее, чем внизу.
Я с трудом дышу раскаленным воздухом, хочу сказать, что все, хватит меня парить, но в этот момент раздается какой-то шипящий свист, парилка стала заполняться паром, а на меня хлынул раскаленный воздух, как будто я варюсь в неком котле. В затылке огненные толчки отбивают барабанную дробь, разрывающую мою голову, а березовый веник, легонько хлеставший меня, превратился в раскаленный колючий инструмент у меня на спине. Ничего не соображая, я вскочил с полки, бросился вниз, натыкаясь на других людей, среди которых тоже началось активное перемещение и, наконец, спрыгнув с этих ступеней, пытаюсь найти выход.
Наконец, мне это удалось; я бегу к крану с холодной водой, начинаю ее плескать на себя, потом, нащупав полку – она все куда-то убегает, валюсь на нее, сердце бешено колотится, эти удары гулко отдаются в висках, немного полежав, пытаюсь встать, но все вокруг закружилось и куда-то поплыло. Когда я пришел в себя, понимаю, что сижу, прислонившись к стене, и перед моим носом кто-то двигает пузырьком с острым, пахучим лекарством. В голове немного прояснилось, мне стало легче; с трудом одевшись и собрав вещи, я побрел домой. Ребята увязались за мной проводить меня, но я отказался – на холоде мне стало лучше.
После этого моего похода в мужскую баню, я часто размышлял, что за странная процедура такая – парная? Никто мне ничего не объяснял, а у меня в памяти остался только страх после этого похода. Я готов был поверить, что это просто волшебство, которое присутствовало во многих читаемых мне сказках.
В самом деле: сижу, моюсь, потом идем куда-то, веник такой ласковый, гладит спину, и вдруг меня поджаривает невидимый, страшный огонь, не иначе козни злого волшебника.
Это первая версия, и тут же вторая: ведь ребята говорили про какую-то парилку, может быть, это особенность и принадлежность мужской бани, но для этого надо быть взрослым, а я, наверное, еще не дорос до такой процедуры. Когда что-то непонятное и страшное, самое простое решение – всеми силами и способами избежать этого. Отсюда вывод: в мужскую баню больше не пойду, только в которую мы ходили раньше. Да и женщины такие добрые и ласковые, во время обсуждения поддержали меня, сказали, что ничего особенного нет, ходишь – и ходи; чего я выдумал, что надо мне в мужскую. А посещать баню будем в ту смену, когда Аида находится в школе. Вот и все.

