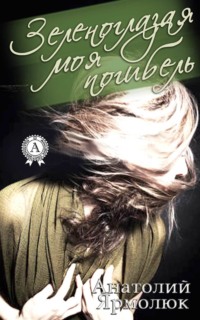Полная версия
Небо для вора
Утомленный столь длительной речью Филолога и внемля рычанию Абрикоса, Никифор сделал лишь вялый жест рукой.
Это означало: все, базлать больше не о чем, все ремарки и реплики побоку, толковище окончено, всем расходиться по одному, от силы – по двое, в урочный час быть на месте, то есть – за полчаса до прибытия поезда маршрутом «Москва – П-ск» присутствовать на вокзале, смешаться там с разнообразной вокзальной публикой и действовать по инструкции, которую всякий член банды «Ночные вороны» знал намного лучше, чем, допустим, свою собственную сомнительную, клетчатую и крапленую бандитскую биографию…
* * *Слоник вышел с толковища вместе с Азбукой.
До урочного часа, то есть до прибытия поезда «Москва – П-ск», оставалось целых пять с небольшим часов, и эти часы надо было еще прожить.
Слонику было неприкаянно и тошно, какая-то необъяснимая томительная муть обволакивала его душу. А отчего оно так, попробуй-ка разберись. Главное-то, и поводов, кажется, никаких у Слоника не имелось для такого душевного состояния. Все вроде было так же, как и всегда, а вот поди ж ты – приперло.
И, что еще главнее, такое душевное состояние в последнее время у Слоника случалось все чаще. Будто бы его душа о чем-то кричала из глубин тела, а Слоник этого крика не слышал. Или даже нет – он-то его, конечно, слышал, а вот что было душе надобно и о чем она кричит, он не понимал. Не понятен был Слонику этот крик души, и причины такого крика также были ему не понятны… ах, как же Слонику было тошно и томительно – будто бы Слоник был небом, сплошь затянутым тучами, из которых все никак не может пролиться дождь. То есть небо имеется, и тучи на нем присутствуют, и гром гремит, и молнии мечутся, а дождя отчего-то все нет и нет…
…– Ты это чего? – в третий, сдается, раз спросила Азбука у Слоника.
– Не знаю, – честно ответил Слоник, помолчал и сказал: – Дождя бы… дождя мне хочется. Такого дождя, чтобы он застил собой весь свет… и чтобы при этом молния разодрала небо от края и до края… вначале с одного края в другой, а затем – обратно… И чтобы затем было умытое дождем солнце. И еще радуга. И капли на ветвях. Как это бывало в детстве. Я помню…
– Пойдем ко мне, – очень серьезно глядя на Слоника, сказала Азбука. – Слышишь, пойдем ко мне… я тебя прошу. До дела еще пять часов… дома я тебя утешу, и ты успокоишься. Нельзя таким, какой ты сейчас есть, выходить на дело.
– Таким – это каким же? – безучастно спросил Слоник.
– Ну, таким… Ты помнишь Снегиря?
– Помню…
Снегирь был когда-то участником банды «Ночные вороны».
Это был лихой, удачливый, неистощимый на всякие озорные выходки бандит.
Если бы, к примеру, кому-то вздумалось сосчитать, скольких пассажиров маршрута «Москва – П-ск» и маршрута «П-ск – Москва» он лишил чемоданов, то, наверно, это количество не уместилось бы ни в какой поезд, если к тому поезду не подцепить еще трех дополнительных вагонов. Вот каким бандитом был Снегирь!
А как он ловко и весело крал чемоданы! Это была лирическая поэзия, а не кражи! Сонеты Шекспира! Серебряный век!
А однажды Снегирь закручинился и затосковал – точь-в-точь как сейчас вот Слоник. И, главное дело, ни сам Снегирь, ни кто другой не могли объяснить, – а в чем же причина этой кручины? В чем, так сказать, был ее высший смысл и ее первоначальные истоки?
Ну и вот, ну и нате вам.
Однажды, томимый кручиной, Снегирь отправился на дело – шерстить пассажиров, и сгорел на первом же чемодане! Сгорел нелепо, неразумно, – будто бы он был нерасторопным лопоухим дилетантом, а не профессионалом самого высокого полета!
Самым глупым и бестолковым образом Снегирь попытался тогда стащить чемодан у каких-то то ли хоккеистов, то ли боксеров, прибывших из Москвы то ли в П-ск, то ли в Н-ск на какие-то там соревнования то ли по хоккею, то ли по боксу.
Красть чемоданы у боксеров – это не то что бессмыслица, а, по большому счету, – оголтелое и ничем не оправданное нарушение воровской техники безопасности. Тем более – что ты можешь в них отыскать, в тех боксерских чемоданах? Боксерские перчатки? Расшитый фальшивым золотом боксерский халат? Запасную боксерскую челюсть? Ну и что тебе с этим добром потом делать? Глупость и бессмыслица, говорят вам, и ничего больше!
Но – случилось то, что случилось. Снегирь незаметно подкрался к одному из боксеров, выхватил у него из рук чемодан и попытался дать деру.
Боксеры всей гурьбой бросились в погоню и очень скоро Снегиря настигли, потому что они все-таки были боксеры, и по этой самой причине бегали очень быстро.
Вначале боксеры отобрали у Снегиря обратно свой чемодан, затем – долго Снегиря лупили свирепыми боксерскими нокаутами, а еще затем поволокли его в вокзальное полицейское отделение.
Вокзальные полицейские упорно не хотели открывать, потому что как раз в то самое время они разучивали новую разновидность покера под названием «ковбойский покер с присвистом», однако боксеры оказались народом могучим и настойчивым. Они просто-напросто взломали двери в милицейское отделение, ну а дальше – все было понятно.
Полицейским пришлось отложить на время постижение премудростей и тонкостей «покера с присвистом», и раздосадованные таким обстоятельством, они принялись за бедного Снегиря с пристрастием…
Конечно, Снегирь никого не выдал и все благородно взял на себя, как оно и полагалось порядочному бандиту. Но ведь и это было еще не все, а всего лишь начало. Точно. Только – начало.
Как только Снегирь угодил в тюрьму, он тут же повстречался с тюремным начальником и заявил ему следующее. «Ты, – сказал Снегирь тюремному начальнику, – есть примитивное земноводное, а я, хоть и Снегирь, но все же – орел. А орла в клетке не удержишь. Вот увидишь – скоро я отсюдова сбегу. Взлечу как орел – к самим небесам!» «Ну-ну», – с предельным сарказмом ухмыльнулся тюремный начальник, развернулся и отправился по своим предосудительным тюремным делам, а Снегирь, не откладывая дела, тут же стал готовить в уме план своего побега.
Никакого эдакого особенного плана он, судя по дальнейшим событиям, так и не придумал. А просто – когда его однажды вывели из камеры и сквозь тюремный двор повели по каким-то там тюремным надобностям, Снегирь вдруг рванул по этому двору по направлению к тюремным воротам – вот и весь его план.
Вначале Снегиря пытались догнать, но очень скоро поняли, что не догонят, и стали стрелять.
В него стреляли, а он летел по тюремному двору и смеялся. Пуля угодила ему меж лопаток, когда до ворот оставалось шага три, не больше…
Когда Снегиря таким вот образом настигли и перевернули вверх лицом, он, мертвый, все так же продолжал улыбаться, а его широко распахнутые глаза смотрели прямо на небо…
Вот такая, стало быть, горькая история приключилась со Снегирем. А все, скажу еще раз, началось с той самой тоски-кручины, которая сейчас вот томила душу другого бандита из банды «Ночные вороны» – Слоника.
Как мог бы выразиться по этому поводу Филолог, – сюжет был аналогичный. Именно так – аналогичный.
…– Так, значит, ты его помнишь, Снегиря-то? – снова поинтересовалась Азбука у Слоника.
– Пойдем к тебе, – сказал Слоник.
Идти было недолго – всего каких-то две улицы и три переулка.
Пришли.
– Погоди-ка, – попросил Слоник.
Он развернулся и скрылся за углом, и вскоре вернулся. В руках у него был букет – белые луговые ромашки вперемешку с синими полевыми васильками.
– Вот, букет… купил у старушки за углом, – сказал Слоник. – Сидит старушка и продает букет – один-единственный. А все проходят мимо, и никто не покупает… Я вот – купил. Это – тебе.
– Мне? – спросила Азбука и часто заморгала.
– Да, – сказал Слоник. – Тебе. Ромашки и васильки. Как в детстве…
– Пойдем, – сказала Азбука, взяла Слоника за руку и так, взявшись за руки, они и вошли в Азбукино жилище.
До дела, то есть до прибытия экспресса из Москвы, оставалось еще почти четыре часа.
Слоник подошел к окну и немигающе уставился в заоконное пространство. Был август, наступал вечер. Вечернее солнце уже скрылось за городскими домами. Сквозь окно проникали вечерние звуки. Еще каких-то два часа, и эти звуки сменятся звуками ночными. А затем наступит ночь, и надо будет идти на вокзал. Все, как и обычно, все, как всегда…
Азбука подошла сзади к Слонику и обняла его за плечи. Не говоря друг дружке ничего, так они простояли минут, наверно, десять, а затем Азбука сказала:
– Еще четыре часа… Может, пару часиков поспим?
– Не хочу, – оторвался от своего созерцания Слоник.
– Тогда – давай я тебя покормлю, – сказала Азбука.
– Не хочу, – повторил Слоник.
– Чего же ты хочешь?
– Не знаю…
– Повернись ко мне, – попросила Азбука.
Слоник помедлил, и повернулся.
Они с Азбукой были почти одного роста. Сейчас глаза Азбуки были на одном уровне с глазами Слоника. В ее глазах Слоник прочитал тревогу и любовь.
– Что с тобой? – в бесчисленный за сегодняшний день раз спросила Азбука у Слоника.
– Душа болит, – честно повторил Слоник; он вообще не любил лгать, хотя и был бандитом. – А отчего болит – не знаю. Будто она что-то хочет мне сказать – на непонятном языке. Понять бы мне этот ее язык…
– Не ходи сегодня на вокзал, – попросила Азбука.
– Это почему же? – криво усмехнулся Слоник.
– Сгоришь ты сегодня, – тоскливо сказала Азбука.
– Так уж и сгорю, – все с той же кривой усмешкой произнес Слоник.
– Сгоришь, – упрямо повторила Азбука, и вдруг заговорила быстро и горячо, как и полагается говорить любящей женщине, которая чувствует, что ее любимому грозит неминуемое горе. – Не ходи сегодня на вокзал! И я не пойду тоже… мы останемся здесь, в моем доме… обойдутся сегодня и без нас! Сейчас мы позвоним Никифору, и все ему скажем… он нас поймет… я знаю, он поймет! Послушай меня, Слоник… я тебя люблю… не ходи сегодня на дело… сгоришь… я это чувствую!
– Я – пойду, – после молчания сказал Слоник.
– Ну, тогда я буду рядом с тобой! – все так же горячо сказала Азбука. – И если ты сгоришь, я тебя прикрою… я тебя спасу… я все возьму на себя! Слоник…
– Азбука, – сказал Слоник, и вдруг ему захотелось заплакать. – Ах ты ж, Азбука…
– Меня зовут Таней. Это для них я – Азбука. А для тебя – Таня…
– Таня, – сказал Слоник. – Таня…
Август – месяц летний, но в суровом П-ске он – истинное преддверие осени, если уже не сама осень. За окном зримо стемнело и ощутимо похолодало. До прибытия московского экспресса оставалось три с чем-то часа. Азбука и Слоник отошли от окна и сели рядышком на диван. Около дивана, в вазе на столике, стоял букет, который Слоник подарил Азбуке. Ромашки и васильки, как в детстве.
Азбука и Слоник сидели и долго молчали, а затем Азбука сказала:
– Я давно хотела у тебя спросить… Почему ты – Слоник?
– Каждому в банде полагается иметь свою кликуху, – ответил Слоник рассеянно. – Таков бандитский закон. Ты – Азбука, я – Слоник… а есть еще Никифор, Филолог, Цыган… Снегирь вот еще был…
– Я не об этом, – сказала Азбука и взяла Слоника за руку. – Почему именно так – Слоник?
– Не знаю… не помню, – пожал плечами Слоник. – Просто Слоник – и все тут…
Он невольно солгал.
Он прекрасно знал, отчего он – Слоник.
Просто – он не хотел об этом вспоминать.
Потому что – вспоминать об этом было больно. А добавлять еще одну душевную боль к той душевной боли, которая уже имелась, – да кто же такое мог бы выдержать?
Никто не смог бы.
Даже самый замшелый и непрошибаемый бандит вроде, допустим, того же Абрикоса, и тот, пожалуй, не выдержал бы.
Слоником его прозвала Райка.
Господь его ведает, какие такие ассоциации взбрели в тот момент в Райкину голову, когда она впервые произнесла это слово.
А случилось так: Слоник в ту пору не был еще никаким Слоником, он был просто Алешкой, и жил он тогда не в П-ске, а далеко от П-ска, едва ли не на другом конце света, в одной доброй, уютной, теплой деревне.
И в этой же самой деревне жила Райка, и промеж них, то есть промеж Алешкой и Райкой, была любовь. Хорошая промеж них была любовь, нежная и светлая – как васильки на том поле, что возле Райкиного дома и как ромашки на лугу, что за тем полем…
И вот одним вечером Алешка и Райка возвращались с ромашкового луга и шли по васильковому полю, остановились и стали целоваться. «Слоник, – прошептала тогда Райка. – Ах ты ж, – мой Слоник…»
Так Алешка и стал Слоником, и иначе чем Слоником, с той поры Райка его почти и не называла. Она называла его Слоником, а ему – нравилось…
Райка… Где же ты сейчас, Райка? Где ты обитаешь, что ты делаешь, как ты живешь? Такая ли ты, как и прежде, или годы наложили свой неумолимый, горький отпечаток на твое лицо, а заодно, может, и на твою душу? Как вообще так получилось, что нас – тебя и меня – разметало жизненным вихрем в разные стороны и притом так далеко, что теперь, пожалуй, и дороги-то обратной не отыщешь, даже если бы мы с тобой того и хотели, даже если в том и был еще смысл…
Райка. Райка. Ах ты ж, Райка…
– Я – сейчас, – пригасила Азбука свой внимательный и заботливый взгляд, встала, вышла на кухню и скоро вернулась обратно с бутылкой вина в руке. – Вот, вино… Называется… что-то по-грузински… хорошее вино. Давай мы с тобой выпьем.
– В банде «Ночные вороны» принято пить исключительно водку, – для чего-то сказал Слоник.
– Да ну их всех, – махнула рукой Азбука. – Сейчас мы с тобой никакая не банда. Сейчас мы с тобой – просто Алешка и Таня. Несчастные люди…
– Несчастные?
– А разве – нет? Разве – счастливые?
– Пожалуй, что нет. От счастья душа не плачет.
– Вот именно, – сказала Азбука и разлила вино по бокалам. – За что будем пить?
– За вопрос и за ответ.
– За что?
– Душа плачет… будто о чем-то спрашивает. А о чем спрашивает – и непонятно. Я тебе об этом уже говорил… Я думаю, что если понять вопрос, то отыщется и ответ. Очень бы того хотелось… чтобы был понятен и вопрос, и ответ.
– Понимаю, – тихо сказала Азбука. – Значит, за вопрос и за ответ. Тогда еще – за нас с тобой, хорошо?
– Хорошо, – сказал Слоник. – Еще – за нас с тобой.
– Тогда, – сказала Азбука, – давай еще выпьем за Райку…
– За кого? – спросил Слоник, и отчего-то вздрогнул.
– За Райку, – повторила Азбука. – Которой ты называешь меня по ночам… иногда.
– Разве я называю?
– Иногда… Давай мы за нее выпьем. Чтобы там, где она сейчас живет, ей жилось счастливо. Чтобы она простила тебя, и меня заодно. Хотя она меня и не знает, и я перед ней ни в чем не виновата… А о твоей вине перед ней я и знать не хочу. Или – о ее вине перед тобой… без разницы. Давай, Алешенька, за все это и выпьем.
Слоник ничего не сказал, а просто молча выпил вино, поставил бокал, зажмурил глаза и прислушался к себе. Душа по-прежнему плакала, она по-прежнему о чем-то вопрошала, и все так же требовала ответа на свой вопрос…
– За что еще мы будем пить? – спросила Азбука.
– Ни за что, – сказал Слоник.
– Почему?
– А – за что еще? Больше не за что…
– И то правда, – поразмыслив, сказала Азбука. – Больше и не за что… Вся наша с тобой жизнь вместилась в одну фразу… в один единственный тост.
– Ну и ладно, – сказал Слоник. – Значит, и терять будет немного… в случае чего.
– Зачем ты так…
За окном окончательно стемнело.
До прибытия поезда оставалось еще два с половиной часа.
Через час надо было уже выходить, чтобы загодя прибыть к месту, осмотреться и успеть смешаться с разнообразной вокзальной публикой. После того, как в банде «Ночные вороны» появился Филолог, это обязательное смешивание с вокзальной толпой стало называться эволюцией. Ну и вот: через час надо уже было идти на эволюцию.
Азбука прилегла на диван, поместила голову Слонику на колени и закрыла глаза.
– Погладь меня по голове, – попросила она с закрытыми глазами.
И цветом, и запахом, и на ощупь Азбукины волосы очень походили на Райкины. Может быть, именно из-за этого Слоник и сошелся когда-то с Азбукой, и образовалось промеж них чувство.
А, может, и не из-за этого.
Может, Слоник сошелся с Азбукой из-за того, что он был одинок, и Азбука тоже была одинока. Одиночество, помноженное на другое одиночество – вот вам и обоюдное чувство.
Все просто.
Так они этот последний час и провели: Слоник молча сидел на диване, голова Азбуки покоилась на коленях Слоника, а рядом, в вазочке на столике, стоял букет из васильков и ромашек.
А когда последний час истек, Азбука и Слоник молча встали и отправились на вокзал – на эволюцию. Идти до вокзала было недалеко – всего каких-то две улицы и три переулка.
* * *Ввиду того, что банда «Ночные вороны» являлась, как уже было сказано, демократическим преступным сообществом, а также из-за того, что каждый участник банды, включая сюда даже и придурковатого Коммуниста, был профессионалом своего дела, никаких особых правил (в том смысле, что как бы половчее шерстить пассажиров), в банде никогда не имелось. Всяк трудился, как ему заблагорассудится – был бы только толк.
А толк обычно бывал.
Например, Филолог и Абрикос всегда работали совместно. Это, надо сказать, был довольно-таки противоестественный симбиоз. Не было на всем белом свете еще двух таких бандитов, которы бы так не походили друг на дружку, как Абрикос и Филолог. Точно, не было.
Ну, вы только себе представьте: Абрикос и Филолог. Почти двухметровый громила с широченными плечами и кирпичной рожей, и, с другой стороны, – хлипкий, дурно одетый, со слезящимся взором, лицемерной физиономией и трясущимися руками старикан. Несопоставимая картина!
От первого, то есть от Абрикоса, хотелось убежать сразу, при первом же на него взгляде. А второму, то есть Филологу, едва только на него взглянув, хотелось непременно подать на пиво. Или на новые штиблеты. Или на лекарство. Или и на то, и на другое, и на третье одновременно.
Что, скажите, могло быть общего у таких несочетаемых типажей? Это, изъясняясь филологическим образом, все едино, что, допустим, попытаться отыскать точки соприкосновения у имени прилагательного и глагола. Замучаетесь сопоставлть, точно вам говорю!
Но – Филолог и Абрикос всегда шерстили пассажиров на пару. Такое, значит, у них было единство, и такая, в общем, вырисовывалась тут борьба противоположностей. Или – такой это был параллельный сюжет, как любил выражаться по данному поводу самолично Филолог.
А шерстили пассажиров Филолог с Абрикосом так.
Обычно вначале к несчастной жертве подходил Филолог. Он делал вокруг жертвы три или четыре предварительных разведывательных круга, и затем вступал с жертвой в специальную, заранее задуманную и старательно отрепетированную беседу, которую сам Филолог называл «репликами по ходу действия».
Ну, вы только представьте себе картину.
А еще лучше – вообразите себя несчастной жертвой.
Вот вы, только что сошедший с поезда «Москва – П-ск» или, наоборот, вот вы, изо всех своих сил стремящийся попасть на поезд «П-ск – Москва» до его отбытия, мчитесь по окутанному ночной тьмой кочковатому и ухабистому п-скому перрону. В обеих ваших руках – по чемодану, а то, может, и по два, а на вашем загривке – тяжеленный рюкзак или баул.
Представили? Тогда – воображайте дальше.
Рядом с вами, поминутно оступаясь и то и дело теряясь во тьме, семенит либо ваша жена, либо теща, либо родная мама, либо – ваши отпрыски, потомки и наследники, либо дядя по материнской линии… словом, никогда и нигде, ни в каких краях и эпохах никто еще не отправлялся в дальний путь, будучи при этом в одиночестве, без попутчиков и провожатых.
И притом никому не ведомо, отчего оно так есть.
Так оно – и все тут.
Без комментариев.
Как шесть падежей в современной русской грамматике. Хоть ты застрелись, а их все едино будет шесть, а не семь и не пятнадцать.
Да хоть бы они, те, кто рядом с вами, при этом молчали, а то ведь нет! Куда там! Отпрыски и наследники визжат, хохочут и то и дело норовят забежать куда-то вперед или остаться где-то позади, жена без умолку причитает о не выключенном ею утюге и не до конца завернутом кране, ваша теща и ваш дядюшка по материнской линии… все, достаточно, для чего писать о том, что и без писанины все прекрасно знают!
И вот вообразите себе дальше.
Вдруг из вокзальной тьмы возникает и намертво прилипает к вам некий предосудительный старикашка – Филолог.
Вам, понимаешь ли, и так окрестный свет не мил, вы и без того ошалели от несмолкаемого созвучия родных голосов, а тут еще он, этот старикашка.
– А скажите, – преграждает вам путь старикашка, – как бы мне, старому, бедному и только что приехавшему человеку выбраться из этого окаянного и невразумительного коловращения и кратчайшим путем попасть на самую главную улицу, где у вас находится центральная поликлиника, притом – чем скорее, тем лучше, потому что я – старый и больной человек, и на последние свои деньги я приехал сюда лечиться из деревни Закурдаевки? Вы, кстати, никогда не бывали в деревне Закурдаевке? Это, знаете ли, недалеко от города Минусинска, надо только, не доезжая, вовремя свернуть направо… Или, может, налево? Нет, все же, сдается, направо…
Столь длинный и сложный вопрос, разумеется, требует некоторого времени, чтобы в него вникнуть и дать затем надлежащий ответ.
А чтобы вникнуть и, тем более, дать надлежащий ответ, вам необходимо почесать затылок. Потому что, рассудите сами, какой же может быть вразумительный ответ без чесания в затылке? Так, одна невнятная филологическая тягомотина…
А чтобы почесать затылок, вам надобно остановиться, потому что – кто же чешет затылок на ходу?
А остановиться – это и означает попасться на крючок нечистой паре, состоящей из Филолога и Абрикоса. Такая вот клюква.
Но вы-то, конечно, ни о чем таком не подозреваете, и потому на какое-то мгновение вы приостанавливаете свой стремительный бег.
И даже, может быть, ставите на перрон свои чемоданы – потому что как вы будете чесать в затылке с чемоданами в обеих руках?
Именно такое опрометчивое действо вам и не следовало бы совершать! В точности вам говорю! Потому что – как только вы это сделали, тут же из тьмы возникает ручища Абрикоса – и готово дело, одного вашего чемодана как и не бывало!
А, может, даже сразу и двух.
Вы когда-нибудь видели ручищу Абрикоса? Эдакой ручищей за один раз можно сгрести даже и не два, а целых три чемодана! Экскаваторный ковш, а не ручища!
Ну и вот: был ваш чемодан, – и не стало вашего чемодана.
А вместе с ним тут же не стало и возникнувшего из вокзальной тьмы прилипчивого старикана вместе с его длинным маловразумительным вопросом относительно деревни Закурдаевки.
Все эффектно и просто, не правда ли?
Как, понимаете ли, проза писателя Проспера Мериме…
Конечно, может случиться и такое, что вы и вовсе не пожелаете вникать в смысл заданного вам вопроса. Не до вопросов вам, и, соответственно, не до ответов на них.
Ну, тогда прилипчивый и малосимпатичный старикан может притормозить ваше стремительное движение неожиданно-коротким, и притом глупейшим вопросом: «Скажите-ка мне, любезнейший, это – город Ф-ск?»
И тут уж быть того не может, чтобы вы не остановились.
Потому что, во-первых, вы прекрасно знаете, что это – никакой не Ф-ск, а некоторым образом совсем даже наоборот – П-ск. А во-вторых, ни о каком Ф-ске вы до сих пор отродясь и не слыхивали!
И покамест вы приходите в соображении и чешете в своем затылке (а, опять же, чесать в затылке с чемоданом в руке несподручно, и потому вы свой чемодан ставите на перрон), все та же самая ручища тут же возникает из вокзальной тьмы… в общем, тут опять-таки все понятно, и далее, думается, продолжать не стоит.
А ведь это еще не все!
Тот же самый чертов старикашка (Филолог) может и вовсе не задавать вам никаких вопросов, ни длинных и ни коротких, ни умных, ни глупых, а может просто к вам подойти, встать у вас на пути и запричитать:
– Добрый человече, только что прибывший аж из самой Москвы-столицы – одолжи несчастному, поистрепанному жизненными бурями старику червонец! У тебя их, тех червонцев, по всему видать, много, а у меня – ни одного! А мне край как надобно добраться до Н-ска, где меня ждет не дождется моя несчастная, насквозь парализованная супружница Глафира Ферапонтовна! Одолжи червонец! Одолжи червонец!..
И вот тут возможны два варианта дальнейшего развития событий: либо вам захочется немедленно дать червонец этому новоявленному Паниковскому, чтобы он от вас отвязался, либо же вам захочется двинуть прилипчивому старикану по шее.
И в том, и в другом случае вам придется поставить ваши чемоданы на перрон… а далее, конечно же, все понятно безо всяких дополнительных комментариев и эпилогов.
Впрочем, наверно все-таки будет лучше, если вы дадите старику червонец, а не по шее.
Потому что – если вы вознамеритесь все-таки дать ему по шее, то тут же, согласно бандитскому сценарию, на сцене возникнет Абрикос собственной персоной – вместе со своими ручищами, плечищами и кирпичной физиономией. А оно вам, рассудите, надо? Ведь это же – Абрикос, человек свирепый и неадекватный!