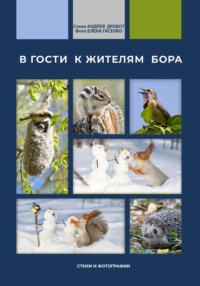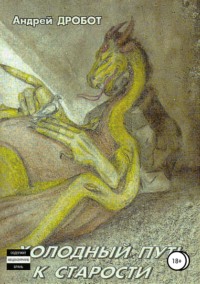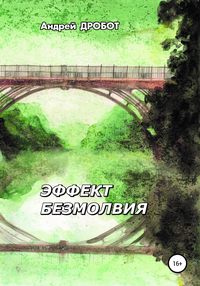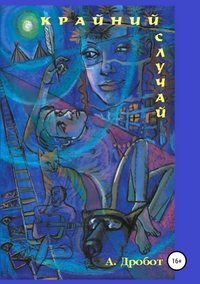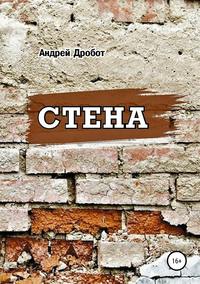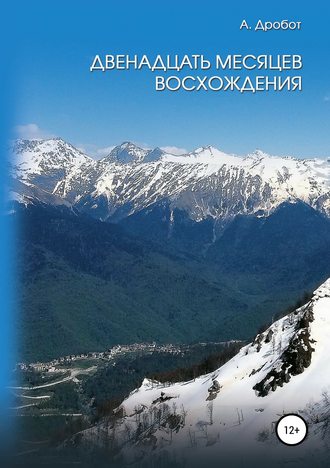 полная версия
полная версияДвенадцать месяцев восхождения
– Верно! – закудахтали куры.
– Верно! – затрясли ушками зайцы.
Мораль состоит в том, что в любом произведении и действии можно увидеть преступление, надо только компетентно присмотреться.
Об изгнанной бывшей…
Жила хорошая сторожевая собака, которая облаивала многих чужаков, сновавших у забора, но хозяину и всем, кто был близок его дому, позволяла с собой вольности. Но как-то хозяин выгнал собаку из дома за какой-то собачий грех, который он счет непростительным. Причем собаку выгоняли со двора под задорное улюлюканье как хозяина, так и всех, кто был близок его дому.
Времени с той поры прошло довольно много, и годы вылечили горе собаки. Она нашла новый смысл жизни и ценности, которые надо охранять. Теперь вместо того, чтобы сидеть на цепи, она спокойно бегала по улицам, наслаждалась движением и уже не думала о домах, во дворах которых собаки сидели на цепях, как о чем-то привлекательном.
Но однажды, бродя по улицам, собака столкнулась, можно сказать лицом к лицу, но поскольку у собак морда, то скажу мордой к лицу, то ли со своим бывшим хозяином, то ли с кем-то из его приближенных. Тот, увидев собаку, довольно заулыбался, пошел ей навстречу и по привычке протянул ладонь, чтобы по-свойски потрепать, как это бывало раньше, но был укушен. Пока он убегал, то потерял еще и кусок костюма, который, разыгравшись, собака оторвала.
Мораль: не заигрывайтесь по старой памяти, знающей хорошие времена, с теми, кому причинили зло.
О правде и лжи
Встретились как-то правда и ложь, и принялись они друг друга поносить:
– Ты подлая ложь, – обвинила ложь правду.
– Нет, ты подлая ложь, – заявила правда лжи.
Произнеся эти слова, правда и ложь замолчали, удивленные равнозначностью обвинений. Первой оправилась от удивления правда, поскольку она желала, чтобы ее истинное лицо было очевидно.
– Слушай, ложь, а ведь, действительно, как меня отличить от тебя человеку, не знающему нас обоих? Давай поговорим откровенно, пока нас никто не видит и не слышит, без скрытой записи.
– Ну что ж, давай, – согласилась ложь. – Но вопрос этот очень сложный, поскольку никто не может знать всей правды, а это играет на меня. Люди часто называют правдой то, чего знать не могут, лично не видели, не осязали, не ощущали, то, что даже не подкреплено наукой. Поэтому, по большому счету, ты, правда, – тоже ложь, только в большей или меньшей степени.
– Правда ложью быть не может, – твердо ответила правда. – Допустим, кто-то совершил убийство…
– Только если публично, при множестве свидетелей, все остальное можно подстроить, – тут же парировала ложь. – Но даже публичность – не панацея. Вспомни убийство Кеннеди. До сих пор никто не знает, правда ли то, что они знают, или ложь.
– Но уверенный вид свидетеля, его убежденность в своей правоте, ощущение правды – они всегда выделяли и выделяют меня, а лжеца выдают бегающие глаза, личная неуверенность и путанность объяснений, – напомнила правда.
– Совсем не обязательно, – отмахнулась ложь. – Человек нервный всю свою правду скомкает и сделает похожей на ложь, а хороший актер так соврет! Телевизор посмотри! Особенно в разгар избирательной кампании! Вот где врут! Оцени журналистов. Они же часто безграмотны, интеллектуально ограничены, суеверны, политизированы… а некоторые, скажу тебе по секрету, уже давно не читают книг, не учатся, им некогда, но именно они позиционируют себя вещателями истины, правды, но на самом деле очень часто являются вещателями лжи. Причем они врут и верят в то, что врут, поскольку всей правды не знают и не хотят, домысливают и доверяют своим, так сказать, источникам.
– Но ведь то, что я – правда, можно проверить: посмотреть, прочитать в других источниках! Это же так очевидно! – воскликнула правда.
– Ты, что – дура?! – удивилась ложь. – Да кто из публики будет проверять то, что ему сообщили компетентно? Где ты это видела? Ну, может один из тысячи. Все остальные глотают то, что им кажется достовернее, а на этом поле мы с тобою равны. Сравнивают нас люди не по фактам, а по доверию, вере, тут вступает в свои права религия коммуникации, общения, а не наука. А где религия, там что угодно станет правдой.
– Но есть же люди, знающие правду. Когда они видят откровенную ложь, они могут подать в суд, а там могут восстановить мои права, – напомнила правда.
– Тут я отчасти согласна с тобой, но проблема в том, что суды могут восстановить, а могут и не восстановить твои права. Судьи тоже люди, они также подвержены лжи, да и сами не всегда чистоплотны, – ответила ложь. – Второй, и самый главный, момент: правосудие защищает тебя только от оскорблений, унижений и клеветы, а от славословия ты не защищена. Среди людей столько необразованных, малокомпетентных доброхотов! Они, веруя в свои слова, лгут…
– Люди не так глупы, как тебе кажется! – обиделась правда. – Каждый меня чувствует…
– Опять – дура! – рассмеялась ложь. – Обрати внимание на то, как спорят между собой любые двое, отстаивая свою правду, которая является ложью, поскольку оба в какой-то, а то и в значительной мере некомпетентны. Они не заполняют знанием свою меру некомпетентности, наоборот, они лелеют свою безграмотность и ненавидят людей умнее себя. Они хотят чувствовать себя истинными и на правильном пути, так сказать, чистыми и пушистыми. Люди ничего не чувствуют, кроме этого личного. Им до твоей правды дела нет, им – лишь бы им было хорошо! Они хотят ощущать правдой то, что им нравится, что им выгодно, они себя хотят ощущать правдой, и они это ощущают! Они видят то, что им нравится, и не видят то, чего не хотят видеть. Скажи им завтра, что настоящий свет – это темнота, внуши хорошенько до ощущения правды, аргументируй по-простому, доходчиво, и они ночью все лампочки переколотят, а днем от солнца загородятся по максимуму. Ты же сама знаешь, как книги еще совсем недавно массово сжигали, да что книги – людей!!! И считали свою деятельность основанной на правде. Да что говорить… еще совсем недавно правда состояла в преимуществе белой расы, в истинности ленинского пути, в божественности арийской крови… Да и сегодня немало таких, так сказать, правд.
– Но это же все твои проделки! – воскликнула правда. – Ты уже разоблачалась не раз, и каждый раз была бита!
– Ну и что? – усмехнулась ложь. – Можно подумать, мне от этого худо. Я не такая гордячка, как ты, и на каждом шагу встречаюсь вне зависимости от того, бита я была или разоблачена. Приходят новые люди, является новое поколение, которые тебя, правда, не знали и знать не хотят, вот я опять востребована. Ну, с некоторыми изменениями, конечно, чтобы быть в духе времени. А вот ты, правда, была всегда бита всерьез, уж тебя-то в такую грязь окунали и продолжают окунать, что я вообще не понимаю, как ты до сих пор жива и еще где-то нет-нет да появляешься, черт тебя побери!..
Вот так и спорили правда и ложь, и спорят по сей день, доказывая друг другу свою правоту, и доспорились уже до того, что сами не знают, кто из них правда, а кто из них – ложь. Мораль тут состоит в том, что лучше ни к чему не относиться как к однозначной истине.
О хорошей жизни в навозе
Жил-был навозный жук, и жил он, как и полагается навозному жуку, – в навозе. Навоз был хорош для этого жука. Сытно, тепло, правда, грязно, вонюче и заразы всяческой полно, но на таких мелочах навозный жук не сосредотачивался. Он охотно лазил по навозу, собирая блага, а когда хотел отдохнуть, то непременно выбирался на природу, где наслаждался красотами, а затем вновь нырял в навоз, чтобы накопить сил на следующий полет к природе, красотам и здоровому образу жизни.
А на лугах и полях, в тех красотах, куда выбирался отдохнуть навозный жук, жила божья коровка. Там они и встретились.
– Хорошо у вас на природе! – вдохновенно сказал навозный жук.
– Так оставайся, места много, живи и радуйся! – предложила божья коровка.
– Легко тебе сказать: оставайся! – укоризненно произнес навозный жук. – А где средства взять на жизнь? Я привык в навозе копаться, там у меня все схвачено, кругом знакомые навозные жуки. Вот у вас навоз есть?
– Почти нет, – ответила божья коровка. – Редко встречается.
– А у нас – там, откуда я приехал, навоз почти кругом, – ответил навозный жук. – У нас проще быть сытым, чем у вас.
– Но ведь живут же здесь на природе, никто не помирает, – заметила божья коровка.
– Не помирать – нам, навозным жукам, этого мало. Я привык жить сытно, в достатке, в удовлетворении привычных потребностей, – сказал навозный жук. – Пока не обрасту хорошенько жиром, пока не обрету в ваших краях маломальскую щель для житья-бытья, пока своим детушкам навоза не натаскаю, мне дергаться нельзя.
– Ну, это долгая песня, – сочувственно сказала божья коровка. – Так ты никогда не переедешь…
Время шло, дети навозного жука выросли, он их более-менее обеспечил, оборудовал себе добротную щель на природе, плюнул на навоз и переехал… Прошел месяц-другой после переезда, встречаются опять навозный жук и божья коровка. Навозный жук хмурый-прехмурый, божья коровка, как обычно, в приподнятом настроении.
– Что случилось, дорогой навозный жук? – спросила божия коровка. – Ты же исполнил мечту, грех печалиться.
– Исполнить-то исполнил, – проворчал навозный жук. – Но я не знал, что ностальгия такая воспалительная для мозга штука. Понимаешь, навоз по ночам снится! Не могу я без его привычного запаха! Хожу по полям в благоухании цветов, а оно, это благоухание, мне поперек носа, противно и как-то чересчур сладко. Не привык.
– Странно слышать! – удивилась божья коровка.
– Да и мне странно, – согласился навозный жук. – Всю жизнь готовился к переезду, недоедал, экономил, а как переехал, то оказалось, что моя мечта – фикция одна. Навоз мне милее, снятся приятные сердцу «лепешки», гнилостное, но такое компанейское окружение. Оно копошится вокруг – и чувствуешь, что жизнь кипит! А здесь тишина и покой, будто умер.
– Но оглянись: бабочки летают, комарики зудят, листья шелестят, травка… – принялась перечислять божья коровка.
– Тут жирок мой накопленный летит направо-налево, – оборвал божью коровку навозный жук. – Не привык я к созерцательной жизни, мне бы по магазинам пробежаться, а для этого нужно в навоз. Мне бы слетать куда-нибудь за границу, а для этого нужен навоз, а новые одежды, новые штиблеты… Выть хочется, этих потерь никакая природа не восполнит. Природа хороша, когда есть все, к чему привык, как масло к каше, но когда каши, то есть навоза, нет, то красоты эти мне и не видятся.
На том они расстались. Божья коровка продолжила наслаждаться жизнью на природе, а навозный жук опять вернулся в навоз.
Мораль: как часто цель, ради которой мы идем на все средства, со временем теряет привлекательность и замещается средствами, которые становятся целью существования.
О точно выигрышном выборе
По реке на плоту плыл Некто, самый обычный Некто, каких много. Некто занимался привычными делами и уже давно находил в них и смысл своей жизни, и счастье. Но однажды Некто увидел, что река впереди делится на два русла, и Некто заволновался, не зная, по какому руслу плыть, поскольку ему хотелось избрать наиболее удобное и приятное направление.
Решение надо было принимать быстрее, поскольку участок суши, находящийся посреди реки, приближался неотвратимо, а именно к нему несло течением плот, на котором Некто плыл.
Вначале Некто начал загребать влево. Он потратил массу сил, но выгреб на середину левого русла. Внимательнее пригляделся вдаль. Не понравилось.
Некто принялся загребать вправо. Опять потратил массу сил, выгреб на середину правого русла. Вгляделся вдаль, опять не понравилось, поскольку вид левого, покинутого русла, ему показался лучше…
Так Некто и метался между двумя руслами, пока его плот не застрял на отмели на развилке реки. Это добавило работы, как если вообще ничего не предпринимать.
Некто пришлось сталкивать плот с отмели, грести от берега и далее плыть по тому руслу реки, которое выпало случайно, стеная и проклиная судьбу, потому что на плоту невозможно вернуться назад и выбрать другое русло реки, где было бы куда лучше, как думал Некто.
Так Некто и плыл в печали и беспокойстве, пока не доплыл до конца суши, которая, как оказалось, не делила реку на два отдельных русла навсегда, а была всего лишь островом, за которым река вновь становилась единой, как и до острова.
Некто обрадовался и подумал:
«Зачем я тратил столько сил, чтобы выбрать одно из направлений, по которому надо проплыть мимо этого острова, если суть этих усилий – короткое мгновение, в конечном счете, ничего не меняющее?»
Мораль состоит и в последних мыслях героя притчи, и в том, что если приходится принимать обязательное решение в отношении действий, результаты которых неопределенны, то лучше избирать путь наименьших усилий и затрат, чтобы хотя бы в этом точно выиграть.
О вечной проблеме и отсутствии средств
В одном дурдоме текла крыша, но ее никто не чинил, несмотря на то что вначале весенние талые воды, а затем летние дожди заливали все здание, мебель и оборудование. Конечно, виноватые были, и все, естественно, среди сотрудников. Главный врач этого дурдома пробегал по коридорам и раздавал замечания.
– Почему вы не сохраняете мебель и оборудование от дождя? – кричал он.
– Так как же сохранять, если крыша течет? Сколько вам говорили, что надо крышу чинить, а вы все мимо ушей, – отвечали сотрудники.
– Вы крышу не смейте чернить! – кричал главный врач. – Крыша – это святое! Народ ее строил!
– Как же от дождя защититься, если крышу не чинить? – спрашивали сотрудники.
– Закрывайте все, что есть в помещениях, пленкой, – говорил главный врач. – Иначе премии лишать буду.
– Но у нас нет пленки, вы же не выдаете, – говорили сотрудники.
– Правильно, что не выдаю. Не положена по нормативам, спущенным с крыши… то есть – сверху, – отвечал главный врач. – Выкручивайтесь, как хотите…
Так и гнило здание дурдома, пока не сгнило вовсе, или гниение приостановилось, потому что крышу починили или сменили, но это нам неизвестно, потому что это время еще не наступило.
Мораль: иное начальство так напоминает эту текущую крышу, создавая проблемы, от которых нет спасения, и не давая средств, которые бы помогли справиться с этими проблемами, что впору вспомнить притчу о дурдоме.
О поклонении кирпичу
Один суслик верил, как он думал, в царствие небесное, но поклонялся кирпичу. Он верил в то, что после смерти его ждет жизнь на небесах. Верил в то, что сусликовый бог находится где-то там далеко-далеко, что ангелы витают среди облаков, что дух живет вне плоти… Но когда верующий суслик хотел обратиться к своему богу, он шел к кирпичу, который строители обронили на поле, и долго стоял перед ним на коленях. Эту картину увидел другой суслик, прохожий…
– Зачем ты поклоняешься кирпичу? – спросил прохожий.
– Это не просто кирпич, он – святой, в нем обитает наш сусликовый бог, именно здесь он слышит все мои просьбы, – ответил верующий.
– Да как же он может быть святым, этот кирпич, если он точно такой же, как все остальные, из каких люди строят себе дома? – удивился прохожий.
– Это тебе так кажется, потому что ты неверующий, – ответил верующий. – На самом деле, любой предмет, в который веришь, меняет свойства ровно настолько, как веришь. Ты видишь в этом кирпиче просто кирпич, и тебе он может послужить только строительным материалом. Я вижу в этом кирпиче дом сусликового бога. И кирпич становится таковым.
– С подобным я сталкивался не раз, когда пугался собственной тени, – согласился прохожий. – Тень не имеет души, бестелесна, но собственное отношение к ней до того ее одушевляет, что иного впечатлительного она и убить может. Но только тень, конечно, тут ни при чем, – мы сами себя окружаем страхами. Думаю, что таковы твои взаимоотношения с кирпичом, который ты наделил духовными свойствами, поэтому, как тебе кажется, кирпич властвует над тобой, хотя это ты сам над собой властвуешь, передавая власть над собой кирпичу. Ничего в нем нет. Строительный материал и только.
– Не богохульствуй! – рассердился верующий. – Наш сусликовый бог все видит и слышит. И вообще – не мешай мне служить сусликовому богу и своей душе.
– Хорошо, не буду тебе мешать, – согласился прохожий. – Если хочешь, подожду тебя, пока ты исполнишь свое служение, и мы пойдем домой вместе, нам же по пути, а там и поговорим на божественные темы.
– Давай, – согласился верующий…
Оба суслика: верующий и прохожий шли домой и бойко разговаривали, когда им на дороге повстречался третий суслик, попавший в беду.
– Помогите мне, прошу вас, я попал в очень тяжелую ситуацию, – попросил попавший в беду.
– Бог поможет. Иди к кирпичу, где живет наш сусликовый бог, и молись, молись, проси – и тебе воздастся, – сказал верующий и зашагал дальше, хотя, честно говоря, проблемы попавшего в беду для себя лично он обычно решал иным образом.
Прохожий же не стал торопиться, он разговорился с попавшим в беду, узнал все его горести, отнесся к нему милосердно и, как смог, помог…
Мораль состоит в том, что настоящий верующий не тот, кто формально исполняет ритуалы, а тот, кто исполняет заповеди и любит ближнего, как самого себя.
О Небе и Земле
Жили-были Небо и Земля. Земля с восхищением и подобострастием смотрела на Небо, Небо с пренебрежением и брезгливостью смотрело на Землю. Но как-то Небо по какой-то причине пожалело Землю, поскольку своим существованием оно было обязано именно Земле, которая за счет гравитации и удерживала небо над собой.
Небо решило приблизиться к Земле, обнять ее и пообщаться на разные небесные темы, рассказать Земле о том, как оно хранит Землю от космического холода и излучения…
Небо потянулось к Земле, Земля, увидев Небо вблизи, тоже потянула его к себе, так они и сблизились, но погубили всю жизнь, что была между ними, и ничего не создали, кроме холода, льдов и нетающих арктических и антарктических снегов.
А где-то происходила совсем иная история: Земля захотела стать такой же красивой, как Небо, захотела приблизиться к нему, но не стала тянуть Небо к себе, а, наоборот, сама стала расти к Небу. Нет, Земля не сравнялась с Небом, но возникли горы – прекраснейшие земные создания. Возникли растения, кустарники, деревья, животные, птицы, тянущиеся к небу и украшающие землю.
Мораль состоит в том, что, для всеобщего блага, высокое искусство и знание никогда не должны идти навстречу вкусам публики, принижать себя и подстраиваться под них, это публика должна расти…
О легко исчезающем величии культуры
В одном цирке дрессировщику удалось создать группу культурных тигров, которые под рукоплескания публики могли культурно кушать мясо, нанизывая его на вилки и разрезая ножами. Эти тигры могли рисовать мелом на доске и даже читать. Они научились жмурить от удовольствия глаза, прослушивая классическую музыку, и даже ее намурлыкивать.
Тигры много чему научились, но однажды дрессировщик что-то не так сделал, находясь в клетке с культурными тиграми, и те съели его безо всяких вилок, под классическую музыку, которую за мгновение до инцидента слушали, прикрыв от удовольствия глаза.
Мораль: хищника, каковым и является человек, можно заставить проявлять внимание к культуре и искусству, но он все равно кого-нибудь да сожрет.
Декабрьские притчи
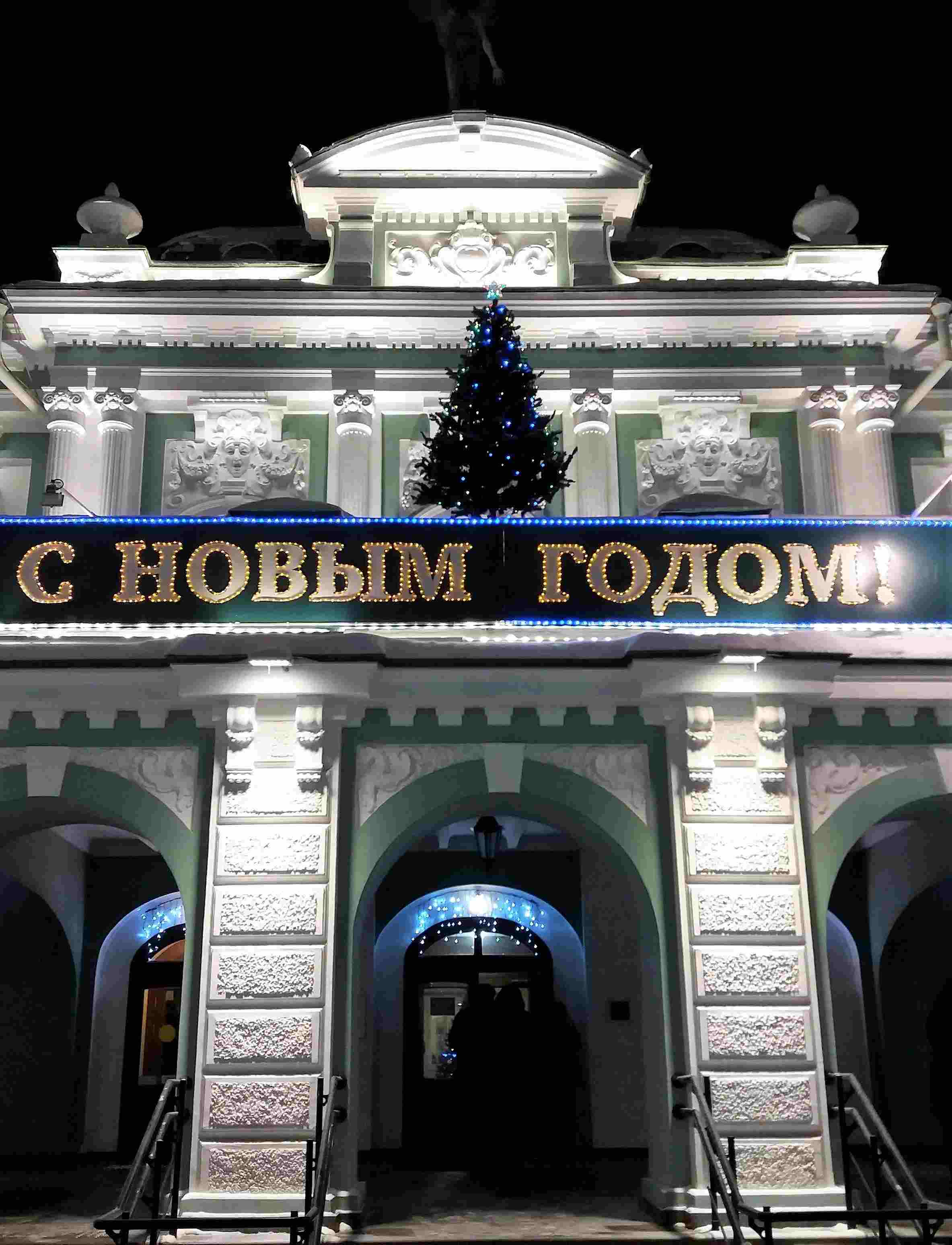
О сложности охранения личного
На кухне в безвестной берлоге стояла чашка, из которой любил пить хозяин семьи – медведь. Он считал эту чашку своей и никому не дозволял пользоваться ею. Но поскольку медведь часто уходил из дома по делам охоты или сбора ягод, а то и вовсе засыпал на целую зиму, посасывая лапу, то чашка стояла на кухне без пригляда.
В моменты бесприглядности чашкой медведя-хозяина спокойно пользовались другие медведи, случайно заходившие в кухню. Они попивали из этой чашки разные вкусные напитки, причмокивали и нахваливали, поглядывая в окно, чтобы хозяин чашки не застал их за этим преступным питием, если, конечно, хозяин бродил по лесу, или прислушиваясь к храпу, если хозяин спал, чтобы проснувшись и выйдя из спальни, тот не застал их с чашкой в руках.
Все бы ничего, но иногда медведь-хозяин, попивая из своей чашки, заболевал… Но поскольку медведь-хозяин не знал, что его чашкой пользуются другие, он долгое время недоумевал и возмущался:
– Как же так, вроде ни с кем… и опять заболел?! Может, в малине подцепил?
– Конечно, конечно, – примерно так и ответила бы чашка, если бы могла говорить, а так как она была молчалива, то отвечала, как могла, то есть всем своим видом и делом выражала невинность, кротость и заботливое участие в судьбе медведя.
Конечно, такая ситуация иногда продолжается вечно как в частных владениях, так и в публичных заведениях вроде столовых, где, собственно, никто и не претендует на владение столовыми приборами, но в нашем случае у героя повествования прозрение наступило.
Медведь, в конце концов, сообразил, что чашкой его пользуются другие, пока он не видит. Как он об этом узнал, история умалчивает: то ли заметил следы употребления, то ли чашка оказалась не на том месте, то ли стала излишне чистой, то ли излишне грязной, то ли санитарные врачи взяли смывы… Но, в любом случае, с той поры медведь предпочитает пить из стерильных разовых стаканчиков, а то и просто из своих ладоней.
Мораль состоит в том, что если уж домашнюю чашку невозможно сохранить только для себя, то что говорить о не сидящих на месте людях, каковыми являются, например, супруг или супруга, а тем более друзья и подруги…
О всепрощающем лодочнике и вселюбящей лодке
Однажды некий лодочник связал свою жизнь с лодкой навсегда, то есть влюбился сверх всякой меры, потеряв разум. Лодка тоже любила его, когда он плавал на ней, чинил ее, обхаживал… Но тут надо сказать, что она, скорее всего, любила не лодочника, а свои приятные ощущения, возникавшие, когда она скользила по волнам, свои счастье и эйфорию, и себя более красивую…
Пришло время, когда в эту лодку сел другой лодочник, а может, и не лодочник, а просто угонщик. Угнал он эту лодку, а лодка ничуть не сопротивлялась, плыла, как и при прежнем хозяине, отдаваясь радостям общения с волнами, получая не меньшее счастье. На самом деле, какая разница лодке, кто на ней катается, если ее интересуют ощущения, почти не связанные с конкретным лодочником?
Угонщик покатался, износил лодку и бросил. Лодка загрустила, но пришел ее лодочник, он ее починил, подлатал и поплыл. Лодка опять обрела хорошее настроение. Так продолжалось длительное время: лодка отдавалась и тем и другим, а лодочник возвращался… Но как-то лодочник не заметил течь в лодке, лодка стала тонуть, лодочник принялся ее спасать, да так и утонул вместе с лодкой, повинуясь понятию чести и своей любви, как тот капитан, который не покидает тонущее судно…
Мораль состоит в том, что если партнер позволяет всем кататься на себе, то не надо ревновать, а надо относиться к нему, как к неодушевленному предмету, то есть использовать и бросать, когда вздумается, а не тонуть вместе с ним… но как это иногда сложно…
Об отношении к бесплатному
Один наследник получил прекрасное богатое наследство, а поскольку цену, какой это наследство создавалось, он не знал, и получил его, не прилагая никаких усилий, то принялся тратить…
Праздники, наслаждения, увеселения, азартные игры… И подготовка к этим мероприятиям вошла для наследника в обычный круговорот событий.
Наследник тратил и тратил, пока не стал испытывать нужду, которая, как обычно, возникла внезапно. Тогда наследник принялся экономить, чтобы сносно жить на оставшиеся средства, и искать возможности заработка, что было для него затруднительно, поскольку наследник привык тратить, а не зарабатывать.
Так наследник заблаговременно привел себя к нищенскому состоянию, хотя, если бы изначально тратил разумно, мог бы жить и жить…
Наследство в данной притче – это здоровье, данное родителями. Поскольку здоровье в молодости кажется многим неисчерпаемым и даже тем, о чем думать не стоит, то многие чрезмерно тратят его на заработки, на наслаждения и удовлетворение страстей. Однако здоровье любого человека не неисчерпаемо и приходит в негодность, особенно при невоздержанной его трате. Жаль, что осознать ценность здоровья можно, только лишаясь.
О невозвратном залете
Одна птичка очень любила летать, она летала среди лесов и полей, среди гор и зданий… Она весело пела и танцевала прямо на лету. Летала, летала, но однажды залетела в скворечник, и до того в этом скворечнике было сытно и тепло, что птичка перестала летать и петь, а начала делать ремонт в скворечнике, устилать его пухом, выводить и растить птенцов, заниматься еще множеством дел, о которых понятия не имела, когда просто летала. И до того увлеклась она скворечником, что забыла о полетах и пении, танцах и природе – все заменил ей скворечник.