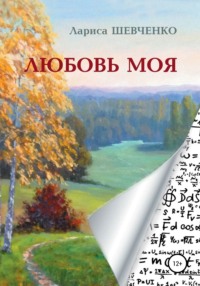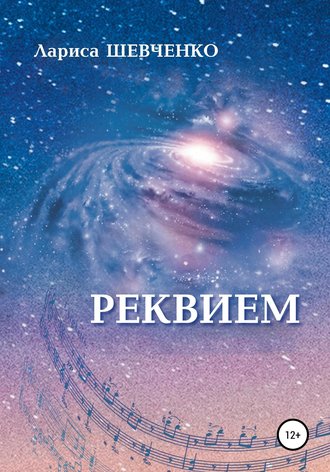 полная версия
полная версияРеквием
«Бедная моя принцесса! Сколько драматических потрясений принесла ей жизнь! И как мало у нее было возможностей от них защититься. Не судьба, а сплошные испытания. Как с юности взяла ее за жабры, так и не отпустила».
– А помнишь, как ангел-хранитель подсказал мне лечить сухую экзему чистотелом? Нет? Иду, бывало, на работу через парк, а меня как магнитом тянет к этим желтым цветам. И я прислушалась к требованию своего организма и на три года оттянула критическую развязку с моим заболеванием. А потом закрутилась, забыла о лечении и была наказана.
– Твой добрый ангел-хранитель внутри тебя. Леньке Пантелееву и любви к чтению скажи спасибо.
– И скажу. Но ведь почему-то память выдала мне именно эту информацию.
– Атавизм сработал. Оставил тебе собачью способность к самолечению, – рассмеялась Инна.
– Боль – главная защитная реакция живого организма, – сказала Лена.
– Охотно допускаю. Только не в моем случае.
Один человек тяжко болен, но терпит, помалкивает, а другой чуть что – плачется, ищет сочувствия, требует внимания. Некоторые вовсе не больны, но имитируют болезни, чтобы облегчить себе жизнь за счет других. А мы с тобой партизанки, – с оттенком неожиданной скромной гордости сказала Инна и вдруг резко замолчала.
Неестественно спокойное лицо подруги подсказывало Лене, что та нуждается в помощи.
Лене вдруг сделалось стыло и неуютно. Такое случалось с ней в детстве, в деревне на сиротливом печальном осеннем огороде после уборки всех овощей. На душе становилось то взъерошено, растрепано, то пустынно. В ушах слышалось тихое курлыканье – печальный журавлиный стон. Перед полуприкрытыми веками красиво вышитым узором, косой цепочкой, по сини небесной пролетала удаляющаяся стая прекрасных птиц…
Инна встрепенулась.
– Знаешь, я загадала: если завтра будет солнечный день, все у нас с тобой сложится хорошо, – пробормотала она и опять замолчала, словно отгородилась от подруги своим нестерпимым горем.
– Я то же самое чувствую. У меня те же внутренние ассоциации.
– Я рада, – выдохнула Инна.
– Я хочу тебе хоть чем-то помочь не столько потому, что ты страдаешь, сколько потому, что ты не заслуживаешь этих мучений, – прошептала Лена. – Марк Аврелий писал: «Боль есть представление о боли». (Зачем о ней говорить?) Насколько это верно – не знаю. Я только сейчас вспомнила эту фразу. Надо бы исследовать эту проблему. Наверное, он имел в виду не чувствительность индивида, а его яркое воображение.
– Я всеми способами пытаюсь отвлечься от боли. Надолго меня не хватает. Одолела она меня. Это же пытка. За что расплачиваюсь? Когда боль нестерпима, я теряю чувство времени. Мне кажется, что прошла целая вечность и я уже ухожу туда… Трепещет в панике душа… Ох эта жуткая предательская мысль… И представляются нелепыми напасти предыдущих лет.
– По сравнению со смертью ничего не страшно.
Аврелий был философ, теоретик. Моя бабушка только когда теряла сознание от боли, начинала кричать. Волевая была. Жалела нас, терпела, пока хватало физических сил, – глухо проговорила Лена и добавила очень спокойно:
– В нашем возрасте здоровье мало у кого хорошее.
«Отвлекает меня разговорами», – подтекстом мелькнула в сознании Инны грустно-приятная мысль.
– Да уж, редко кто этим может похвалиться, – она дернула плечами. – У всех приличный реестр болячек: суставы заизвесткованные и зашлакованные даже у тех, кто заботился о себе с величайшим тщением, сердце, нервы. И что теперь рыться в их причинах. А в детстве мы почти не болели. Ну, если только кашляли, наевшись снега или сосулек. Все в семье лечились нутряным салом, медом и травами. Таблетки употребляли лишь в экстренном случае, когда температура подскакивала за тридцать девять.
– Как-то звоню начальнику, мол, не смогу прийти на работу, подарок себе преподнесла к юбилею: еще одну болячку. И по тому, как я со смехом выдала это известие, он понял, что мне не до шуток и срочно на неделю отменил все мои занятия. С ногами были проблемы. Пришлось даже купить себе фасонно-резную тросточку на случай непредвиденных болей в коленях. Шеф испугался, что потребуется немедленная госпитализация.
– Может, у тебя подагра – болезнь гениальных людей?
– Люблю тебя за острые шутки.
– Нервы – главная причина почти всех болезней, – раздумчиво сказала Инна. – Люди по большей части болеют от несоответствия между своим внутренним миром и внешним, от отсутствия между ними гармонии, когда нечем остудить и смягчить душевные муки. Душа человека изначально настроена на абсолютную правду, и с нею надо постоянно сверять свои помыслы и деяния. Нельзя позволять, чтобы душа замолчала…
– Как ты успокаиваешь расходившиеся нервы? – прервала философские рассуждения подруги Лена.
– До изнеможения листаю альбомы с репродукциями великих художников. Ты же знаешь, у меня их целая библиотека. При Советах могла себе позволить покупать.
– А меня сейчас больше очаровывает то, что создано Творцом, – природа. Ее красота – мое прибежище. Во всем ее ищу. Улавливаю вокруг себя малейшие отзвуки и отсветы прекрасного. В декабре попала под град. Редкое явление в эту пору. Темные, похожие на грозовые, облака неравномерно сеяли горошины льда, будто пригоршнями швыряли их в лицо, за воротник. Я пришла в восторг! У меня мгновенно поднялось настроение. Я пришла домой возбужденная, полная сил, счастливая!
Инна ловит ртом воздух. Непроизвольная, неконтролируемая, страшная кривая улыбка передергивает ее лицо. Лена пугается. Подруга жестом – слабым пожатием руки – успокаивает ее. Лицо и шея Инны покрываются испариной. Она на несколько секунд теряет сознание. На миг нереальная костистость ее измученного лица показалась Лене предсмертной. «У страха глаза велики», – напоминает она себе. Теперь Лена слышит сдавленный всхлип и немного успокаивается: «Слава Всевышнему, жива».
Инна, неловко и беспомощно загребая руками, пытается повернуться на правый бок, чтобы дотянуться до очередной таблетки. Лена протягивает лекарство, осторожно промокает краем простыни капельки влаги на открытых частях рук подруги и замечает, что ее ночная рубашка прилипла к спине. «Сейчас ее начнет знобить». Она укутывает подругу своим одеялом. Инна слабо, одними уголками губ улыбается Лене. Ее улыбка вбирает в себя всё. Она выражает благодарность и обожание, страх и боль. Подруга отвечает ей тем же. Это мгновенное понимание, приходящее как чувство, как ощущение. Лена успокаивается, ложится рядом и пытается удобно пристроить свои больные ноги на валик подвернутого матраса.
«Переутомилась, бедная. Днем я не заметила у нее морщинок под глазами. Они множат усталость ее лица, но не добавляют ей лет», – оценила Лена внешний вид подруги после приступа.
– Не передать, как мне бывает плохо. И тогда корабль моего воображения то тонет, попадая в черную пучину страха, то выныривает, и я по глупости поддаюсь вере. Превозмогая себя, надеюсь на невозможное, на непостижимое. Но жизнь словно по капле уходит из меня. И я вспоминаю твои полушутливые, но очень точные слова: «Истекают силы в сторону могилы». Они у меня на исходе. А врач еще в первом случае считал, что уже ни о каком выздоровлении речи не могло идти. Но ведь выжила! Накатила было беда, напугала да и отступила, отхлынула. И тому, видно, была веская причина.
Инна натужно улыбнулась. У Лены отлегло от сердца: верит!
– Успокойся, сбавь обороты волнений. «Кому жить – не тронет, кому умереть – не минет», – припомнила Лена слова дяди последнего российского царя.
– Ты о пуле – о причине – или о самой болезни? – с горькой усмешкой уточнила Инна. – У меня до сих пор все внутри переворачивается, когда достаю из глубины памяти те жуткие месяцы, проведенные в больнице во второй раз. Это когда я, вылечившись, назло судьбе выскочила замуж за молодого красавца.
– Как же! Сходила замуж. То был первый несуразный признак возвращения тебя к жизни, – рассмеялась Лена. – Я была счастливо потрясена.
– Последнее время часто вижу себя во сне молодой и роскошной, – каким-то чужим голосом сказала Инна.
– Королевой красоты?
– Какая там королева, так… Ты ведь тоже до пятидесяти лет была стройной, изящной.
– А теперь вот от лекарств меня разнесло. Гормоны в больнице кололи. А тебе они не испортили обмен веществ.
– От былой стати не осталось и следа. Улетучилась. Совсем другой стала. Зато жива.
– Но ты с ужасом поняла… Да ладно, не отнекивайся. Сначала деформируется тело, потом мозги. Надеюсь, мы пока находимся на первой стадии старения, – пошутила Лена.
– Помню, Антон о тебе говорил: «Когда смотришь в ее глаза, больше ничего не замечаешь. Вроде и не очень смазливая, но есть в ней какая-то притягательность». Наверное, и сейчас еще мужчины не проходят мимо, чтобы не оглянуться?
– Хватит тебе, – укоряет подругу Лена. – Не оглядываются. С моим-то здоровьем… Задыхаюсь по ночам. Утром встаю невыспавшаяся, словно утомленная сном, сама себе противная. Прошли те времена, когда сделаешь что-то доброе, полезное и спишь сном праведника. А теперь только проваливаюсь в подобие сна. И снится что-то несвязное, несуразное.
– А хотела бы, чтобы о существенном и по существу? – усмехается Инна. – Ничего, всё выдержишь. Характера тебе не занимать.
– Какой там… – только и ответила.
– Инна, кто был твоей первой детской влюбленностью? – неожиданно спросила Лена. – Я не о Вадиме.
– Огненно-рыжий десятиклассник. В пятом классе я за ним хвостиком ходила. Забыла?
– А моей – артист Виктор Иванович Коршунов. Он пробудил меня. Мне было одиннадцать лет. Это было трепетное, очень осторожное чувство. Я не сознавала, что это влюбленность. Я еще не понимала, что такое мужское обаяние, но почувствовала его. Оно меня трогало, может, даже немного пугало, удивляло. Я оберегала свое чувство от постороннего вмешательства. Сколь малым довольствуется первая влюбленность! Она ничего не требует. О, это прекрасное чистое обожание!
– Я не надеялась на взаимность с Рыжим. Душа и без того была переполнена счастьем. Я только хотела, чтобы это чувство не прекращалось. Но прошел год с тех пор, как он уехал, и мое чувство угасло. Потом еще увлеклась. Тот тоже был красивый. Но уже не было той пылкости. Это было что-то другое, задумчиво-осмысленное. Кто-то сказал, что умение ценить красоту – непреложный признак любви. А я считаю – влюбленности. Потом мне опять понравился старшеклассник. Я презирала себя за их череду. О, это сокрушительное и сладостное чувство, вызывающее к жизни бурю переживаний! Но ты твердо знала, что романтичные девочки – легкая добыча подлецов и ловеласов.
– Моя романтичная влюбчивость предназначалась только широко известным недосягаемым персонам. И это было моим спасением.
«Рассказала о Коршунове затем, чтобы опять начать укреплять меня в моей вере? Удостоила чести, услужила. Она не сообщила мне чего-то такого, чего бы я сама не знала. Что ни говори, как ни успокаивай, уже ничего не поправить», – тяжело подумала Инна о своем… А вслух сказала:
– Там, перед Богом, мы все равны: худые и толстые, красивые и страшненькие, умные и глупые, любившие и ненавидевшие (Инна – и о Боге?..)
Опять наступило тягостное молчание. Лена не решалась его прервать. Инна повернулась на спину, заложила руки под голову и прикрыла веки. Но вскоре сама нарушила уважительную к своему замечанию тишину:
– В преддверии мы становимся мудрее и печальнее. Мудрость – как бы взгляд из гроба. Я бы…
Она не закончила фразы, потому что этого не требовалось.
– Еще совсем недавно во снах я видела огромные яркие картины-панорамы о своей жизни. Воспоминания рисовались удивительным мастером – воображением. Их не смог бы вживую повторить даже гениальный художник. А теперь череда снов – как похоронные процессии. Я погружаюсь в черный туннель, в глубине которого, как в чреве спящего гигантского чудовища, исчезает моя прежняя жизнь. В нем, как в далеком детстве, в безумной ярости трясутся и качаются тополя. Часто вижу тучи черных и красно-оранжевых лепестков вокруг закатного солнца. Они широкой траурной каймой плывут по небу очень медленно и торжественно. Они хоронят уходящие скорбные дни и меня. Душа тоской объята. Воображение, покинутое разумом, тоже рождает чудовищ. Я страшусь больше не увидеть рассвета, цветущих садов, не получить эмоциональный заряд от хорошей книги или картины-подлинника, не узнать то, что находится на пороге зрения. Уже не прикоснуться мне…
– Моей маме, когда она сильно болела, всё гробы снились. После этого она еще двадцать лет прожила, – сказала Лена.
– Недавно прохладно-шелковое бело-розовое трепещущее полотно зарницы во сне увидела. Подумала: это жизнь и смерть во мне борются. Ледяной судорогой свело грудь. Помнишь, как алым шелком полоскались языки пламени нашего с тобой первого костра в низине реки Крепны, там, где она с Сеймом сливается? Глаз было не оторвать.
– Еще бы не помнить, – изменившимся голосом сказала Лена. В нем совсем не было восторга.
– Сгораю я в его пламени, в пламени любви к жизни.
Инна замолчала. Лена уткнулась в ее плечо. Комок горечи подкатил к горлу. Она понимала, что Инну периодически охватывает жестокая тоска. И сейчас ей нужно только одно – чтобы ее успокаивали, отвлекали, жалели, не перечили и вспоминали радостное. И она повела разговор о детстве.
12
– А помнишь, как в детстве мы плакали и смеялись от радости встреч? Стремительно срывались с места и, взявшись за руки, неслись, неслись, куда глаза глядят, – сказала Лена.
– За село. Коровушек своих встречать с луга. Без дела меня не отпускали. Мелькали хаты, люди. Была б моя воля, я бы не останавливалась. Ты дикой козочкой перепрыгивала через кусты и канавы.
– А ты с опасной гибкостью змеи огибала их. То было настоящее счастье! Гасилось раздражение, плохое настроение улетучивалось с космической скоростью. Разрядившись, возвращались домой с чинной неторопливостью.
– Редкие, недолгие минуты счастья.
– Человек без дружбы и любви, что кувшин без дна, – сказала Лена.
– Память об этих минутах иногда, когда случалась душевная боль запредельной силы без надежды на облегчение, удерживала меня на краю от последнего гибельного шага. Внезапно настигало ощущение полноты и целостности жизни. Вялость и равнодушие, гнездившиеся в душе, улетучивались, появлялась надежда, что еще на что-то хорошее гожусь.
– Для большинства детей детство – время больших надежд и безоглядного доверия к миру.
– И сумасбродства. Как я его любила!
– Я наше село люблю. И деревенских людей. Бывало, увижу древнюю старушку – а в ее глазах детская чистота, безмерная доброта, мудрость, бездонная печаль – и плакать хочется. У нее была тяжкая жизнь, а она человеком осталась. Рада, что теперь, несмотря на массу проблем, благодаря электричеству, дорогам, транспорту и современным сельхозмашинам старики живут много легче. Природа вокруг прекрасная, а жизнь не всегда, не всех и не всем радовала.
Я сейчас почувствовала стойкий прогорклый затхлый запах нашей деревенской кладовой. Там у бабушки всегда на случай войны стояли мешки с зерном, разными крупами и мукой.
– И в нашей кладовке тоже. Там еще хранился огромный ящик с солью и хорошо упакованный короб со спичками.
– Ты про сухари забыла. Бабушка очень боялась голода. Она столько пережила за свою жизнь! Дед сочувственно говорил, что угодила она во все кровавые переделки двадцатого века. И я с детства не люблю, когда в доме мало еды, особенно если хлеба в обрез.
До сих пор меня волнует запах свежеиспеченного хлеба. Бабушка говорила, что хлеб в войну был важен наравне с оружием. Она медаль за труд тогда получила. Лучшая была в области. Сама вкалывала и умела людей ценить за полную самоотдачу. И мне внушила, что главное – хорошо выполнять дело, за которое взялся, что в этом первейшая нравственность для человека. Именно она влечет за собой остальные положительные качества. И я трудовое воспитание – умственное и физическое – считаю необходимым в становлении личности. Знаешь, я замечаю, что даже на кухне во время приготовления еды испытываю удовольствие от быстрых и четких движений своих рук, – улыбнулась Лена.
– Скрытым мотивом твоего трудолюбия всегда была радость от удачно проделанной работы.
– Получается, так.
– И почему я последнее время все чаще вспоминаю детство? К своим корням тянет? Но отчего в память врезаются нелепые глупые мелочи?
– Наверное, тогда они нам были очень важны. Воспоминания о детстве успокаивают, особенно если его пространство соткано из света и яркого цвета.
– У тебя оно было из серого тумана.
– И все же это было детство. И у тебя оно не многим лучше.
– Не скажи.
– Счастливые дети живут настоящим, а я, маленькой, полнилась мечтами о будущем. А в школьные годы солнечные лучики счастья чаще проглядывали. Помнишь, сады в цвету по весне, вишни обсыпные летом, лес в золоте по осени, кратковременные, но такие радостные грибные набеги, – улыбнулась Лена.
– Детство ушло с безжалостной неотвратимостью.
– Детские беды умчались, осталось ощущение счастья. А студенчество? Помнишь, как колобродили всю первую в городе новогоднюю ночь? Мы – независимые, самостоятельные! Что может быть лучше!
– И голодные.
– Ну и что с того? Все равно студенчество было прекрасно! В политехе говаривали: «Сдал начерталку – можешь влюбиться; сдал сопромат – можешь жениться». А у нас то же самое восклицали про статфизику и квантовую. И на всё про всё давался год!
Мысли Инны опять приняли определенное четкое направление.
– Детство накладывает отпечаток на всю жизнь. Оно как бы ведет, – задумчиво пробормотала она. И вдруг улыбнулась:
– Какие глупые были! Помнишь, мера у нас такая была: как далеко кто-то или что-то находится от Москвы. Все относительно столицы определяли. И вдруг оказалось, что нам до Парижа и даже до Лондона много ближе, чем до Владивостока! Это ошеломило. Нестерпимо стыдно стало за бедность и убогость своих знаний. Это заставило учиться.
– А мне в раннем детстве, в детдоме, казалось, что за горизонтом начинается настоящая жизнь. Надо только идти, идти и достигнешь мечты. И я попробовала, но очень скоро поняла, что чем дальше идешь, тем счастье дальше отодвигается. Экспериментатор вшивый!
– В натуре вшивый. Так зародились в тебе зачатки пессимизма, – рассмеялась Инна, довольная вовремя пришедшей ей в голову мыслью продолжить разговор о детстве, то есть переходом к «безопасной» теме.
А на Лену опять нахлынули воспоминания о бабушке. «И что это она у меня сегодня из головы не идет?»
– Досталось бедной. Девчонкой батрачила у жестокого помещика, потом революция, гражданская война мордовала, голодовки. Ишачила в колхозе за гроши ради великого будущего, потом Отечественная война, гибель близких, и опять же голодовки. Двух детей одна поднимала. Всё шутила: «Я и баба, и мужик…» А твоя бабушка четверых растила.
– И ты такая же: с сознанием принесенной жертвы, возвышающей тебя. А хитрые люди злоупотребляли твоей добротой.
– Помню только бабушке присущее особенное тепло. Ее стараниями я во многом стала человеком. Собственно, она не поучала, а предоставляла возможность у нее учиться тем, кто жил рядом с ней. Была совестью семьи. Бабушка с девятисотого года. Все перипетии двадцатого века на себя примерила и вынесла. Хлебнула горя. В старости очень уставала, бывало, говорила вечером, что «рада местушку». Ног на постель поднять не могла. Я разотру ей больные ступни вонючим лекарством, теплыми портянками спеленаю… А она мне со слезливой старческой трогательностью в голосе: «Не гнушаешься, спаси тебя Господь. Доброй душой человек видит больше, чем глазами». А было ей чуть за пятьдесят.
Я как могла пыталась избавить бабушку от домашних забот, но у меня еще школа была. Когда ей было особенно трудно ходить, я, сославшись на отсутствие уроков, торопилась во двор. Если она болела, мне не хотелось вольничать, я как-то притихала внутри себя. За уроки не садилась, пока не удостоверюсь, что все, намеченное бабушкой на день, переделала. О чтении художественной литературы и речи не могло быть.
Как сейчас помню… Зима. Бабушка стоит, привалившись спиной к горячей печке. На загнетке чугунки в ряд. Зубастый утюг тут же пристроился. Не нравился он мне тем, что угольки, высыпаясь из прорезей, рубашки пачкали. Для глажки постельного белья и полотенец я предпочитала рубель – резную, волнистую доску. На грубке (плите) кулеш бурлит. Бабушка замерла на месте, не шелохнется. Глаза влажные внутрь себя смотрят, хотя направлены в темное окно. Лицо расслаблено. Я знаю, о пропавшем на войне сыне с тоскливой безнадежностью думает. Опомнившись, вздрагивает, опускает голову долу, к чугунку. Слабо кипит. Пошерудит кочергой в поддувале и опять замирает…
Вся в работу уходила. Может, от горьких дум не могла сидеть, сложа руки. Бывало, уже поздно, а она заслонку печи открывает, золу выгребает, начинает под (пол в печи) подметать, тесто творить, чтобы завтра хлеб печь. А сама все думает, думает. И я с ней. А поутру затеплит свечу, если керосина в очереди не досталось, и за дрова берется. На улице еще темень, а в печи красный огонь. И сразу уютно. А бабушка мне: «Детка, придремни еще чуток. Утренний сон сладок. Не волнуйся, разбужу, когда надо будет помочь». И топчется одна, пока ноги держат. С бабушкой я забывала, что «полынью пахнет хлеб чужой», хлеб иждивенца.
– Я уже не помню, что такое сладкий утренний сон, – вздохнула Инна.
– Жалела меня бабушка. А кто ее жалел, много ли у нее в жизни было радости? Только в раннем детстве, пока родители были живы. Вера, церковь, духовные песнопения ее радовали. В них ее умиление до чистых слез, уют в душе, покой и сладость. Нам этого не понять. У нас книги были, много разной музыки по радио. До сих пор тоскую по бабушке, вспоминаю с бесконечной смиренной благодарностью, переполняясь нежностью. Зря я видела ее перед кончиной страшной, как сама смерть. Такой она и приходит ко мне во снах. И тогда я утром встаю измученная. А если она снится красивой и доброй, то словно как неуловимая тень проплывает. И я опять грущу, чувствую себя неспокойной.
– Не премини добавить: несчастной, – сказала Инна со странной интонацией.
– Достойно прожить можно только двигаясь вперед, но, чтобы понять свою жизнь, иногда надо оглядываться назад. Если бы было в нашей власти вернуть время молодости и хорошие добрые дела давно минувших лет! Ты в детстве не думала о самоубийстве? – неожиданно спросила Инна.
– Никогда. Всегда представляла себе: вот вырасту и всем докажу, что я хорошая. Мне кажется, в детской психике нет понятия конца жизни. Дети об этом не думают или очень быстро забывают, пока их на это опять специально или нечаянно не натолкнут. А вот в юности…
Любила ли я жизнь в пять-десять лет? Нет. У меня еще было слишком мало счастья, чтобы ее полюбить. Но жалко было бы не увидеть неба, весеннего пробуждения природы, не погулять по осеннему лесу. Мне хотелось чувствовать себя частичкой этого прекрасного мира, превратиться в звездочку, в снежинку, в теплый лучик. Осмысленно понять, любишь ли жизнь или нет, можно только под угрозой ее потери. До десяти лет я точно не боялась умереть. В шесть лет я говорила себе: «Утону. Ну и что? Зачем мне такая жизнь? Умру и что из того? Плакать по мне некому». Но меня спасал врожденный инстинкт самосохранения. Он заставлял бороться за жизнь и остерегал от глупых поступков. А вот когда меня в одиннадцать лет затянуло в трясину, и я чуть не погибла, то впервые всерьез испугалась смерти.
Инна, может, я в детстве не воспринимала радостное? Даже книги любила в основном грустные.
– Радости тоже надо учиться. Детство – это не возраст, а состояние души. Когда мы с тобой познакомились, у тебя была душа старушки, склонной к меланхолии и воображению. А наш светлый Пушкин писал: «Блажен, кто смолоду был молод!»
– Знать, ему повезло. А может, наоборот, потому и понимал.
– Он гений. Не на собственной шкуре, умом до всего доходил.
– Гений не только видит то, что другим не дано, он еще это может передать другим, преобразовав увиденное и понятое в прекрасную музыку, в высокие слова, в великую теорию.
– И ты, отверженная, с клеймом детдомовца, рано задумалась над тем, как устроен мир людей, что от него можно ожидать и каков был Божий замысел на твой счет. Долго ты была зверьком, неулыбой. Радость не умела выражать. Приучалась к ней с недоверием, осторожно принюхиваясь, приглядываясь. Потихоньку, по крохам копила ее в сердце, пока она не расцвела любовью к жизни, к людям. Ты осознала, что мир не рухнет, устоит, если с тобой произойдет что-то нехорошее. А чтобы этого не случилось, ты должна сама за себя бороться, обязана кем-то стать, состояться назло тем, кто в тебя не верил или мешал. Поняла, что не мстить должна, а делать что-то хорошее, полезное, в полной уверенности в своей правоте должна стараться подняться над тем, что замечала в себе плохого.