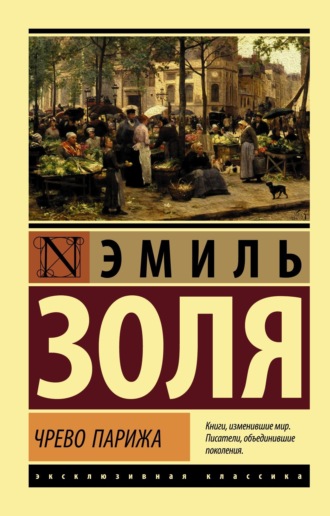
Полная версия
Чрево Парижа
Вечером Флорана одели во все новое. Он настоял, чтобы ему купили, кроме того, черные пальто и брюки, вопреки советам Кеню, уверявшего, что черный цвет нагоняет тоску. Флорана больше не прятали, Лиза рассказывала всем желающим историю своего кузена. Флоран жил в колбасной; он забывался, уйдя в мечты, то на стуле в кухне, то прислонясь к мраморной стенке в лавке. За столом Кеню пичкал его едой и сердился, когда брат оставлял половину наложенного ему на тарелке мяса, – Флоран ел мало. Лиза вновь обрела свою плавную поступь и безмятежный вид; она терпеливо сносила присутствие Флорана даже утром, когда он мешал работе; она забывала о нем, а потом, вдруг увидев перед собой черную фигуру, вздрагивала, но тут же улыбалась своей пленительной улыбкой, не желая его обидеть. Бескорыстие этого тощего человека ее поразило; она прониклась к нему своеобразным уважением, смешанным с безотчетным страхом. Флоран же думал, что окружен большой любовью.
Когда наступал час сна, Флоран, немного усталый от ничем не заполненного дня, поднимался наверх вместе с двумя подручными Кеню, – они занимали каморки рядом с ним под крышей. Одному из них, ученику Леону, едва минуло пятнадцать лет; это был худой подросток, с виду очень смирный, который воровал краюшки окороков и забытые обрезки колбас; он прятал их под подушку, а ночью съедал без хлеба. Несколько раз уже после полуночи Флорану казалось, что Леон угощает кого-то ужином; шептались чьи-то сдавленные голоса, хрустела под зубами еда, шуршала бумага, и в глубокой тишине уснувшего дома звенел серебристый смех, – смех девчонки, похожий на приглушенную трель флажолета. Другой подручный, Огюст Ландуа, приехал из Труа; он был толстый, но полнота эта казалась нездоровой, а на его слишком большой голове уже виднелась лысина, хотя ему исполнилось только двадцать восемь лет. В первый же вечер, поднимаясь по лестнице с Флораном, он долго и невразумительно рассказывал ему свою жизнь. Сначала он приехал в Париж только для того, чтобы усовершенствоваться в своем деле и, вернувшись в Труа, где его ждала кузина – Огюстина Ландуа, открыть колбасную. У них был общий крестный, они получили одно и то же имя. Но Огюста одолело честолюбие, он стал мечтать о Париже, где обоснуется, пустив в оборот материнское наследство, которое перед отъездом до поры до времени оставил в Шампани на хранении у нотариуса.
Однажды, поднявшись вместе с Флораном на пятый этаж, Огюст задержал его, расхваливая г-жу Кеню. Он рассказал, как хозяйка согласилась вызвать Огюстину Ландуа на место уволенной продавщицы, которая сбилась с пути. Сам он уже изучил свое дело; нужно только Огюстине научиться торговать. Через год-полтора они поженятся, откроют колбасную, – конечно, в Плезансе или в каком-нибудь людном местечке вблизи Парижа. Со свадьбой они не торопятся, потому что сало в этом году не в цене. Огюст рассказал еще, что в день праздника св. Уана они вместе сфотографировались. И тут его потянуло еще раз взглянуть на их фотографию; Огюстина сочла своим долгом оставить ее на камине у Флорана: пусть, мол, у кузена г-жи Кеню будет красиво в комнате! Огюстен на минуту о чем-то замечтался, мертвенно-бледный, в желтых отблесках свечи, которую держал в руке; он осматривал комнату, где все еще было полно воспоминаний об Огюстине, подошел к кровати, спросил Флорана, удобно ли на ней спать. Теперь-то Огюстина ночует внизу, там ей будет лучше, на мансарде зимой очень холодно. Наконец он ушел, оставив Флорана наедине с кроватью и лицом к лицу с фотографией. Огюстен был бледной тенью Кеню; Огюстина – недозрелой Лизой.
Молодые подмастерья относились к Флорану по-приятельски, брат его баловал, а Лиза с ним ладила, и при всем том Флорана одолела отчаянная скука. Он пытался найти уроки, но тщетно. Правда, он избегал университетского квартала, боясь, что его там узнают. Лиза кротко замечала, что неплохо было бы обратиться к каким-нибудь торговым фирмам, там он мог бы вести корреспонденцию, ведать делопроизводством. Она неизменно возвращалась к этой идее и в конце концов предложила сама подыскать ему место. Мало-помалу ее стало раздражать, что он вечно путается под ногами, слоняется без дела, не знает, куда себя девать. Сначала это имело характер обоснованной антипатии к людям, которые сидят сложа руки, да еще едят; она тогда не считала, что Флоран ее объедает. Она говорила:
– Я бы, например, не могла так жить, целый день витая в облаках. Вот вам вечером и есть не хочется… Чтобы нагулять аппетит, надо, знаете ли, сперва потрудиться.
Гавар тоже подыскивал место для Флорана. Но искал он его необычным и совершенно секретным способом. Ему хотелось бы найти для Флорана какое-нибудь драматическое или хотя бы исполненное горькой иронии амплуа, как и подобает «изгнаннику». Гавар был оппозиционером по призванию. Ему перевалило за пятьдесят, и он хвастался тем, что на своем веку резал правду-матку в глаза четырем правительствам. Карл X, попы, дворянчики – обо всей этой швали, которую он выгнал, Гавар еще и сейчас говорил, презрительно пожимая плечами; Луи-Филипп, по его мнению, был просто дураком, вкупе со своими буржуа, и Гавар рассказывал историю о том, как «король-гражданин» прятал свои денежки в шерстяные чулки; что касается республики сорок восьмого года, так это комедия, рабочие его – Гавара – обманули. Однако он не признавался, что приветствовал Второе декабря, ибо теперь считал Наполеона III своим личным врагом: «Сволочь этакая, запирается с Морни и прочими, – что ни день, то попойка!» В рассуждениях на эту тему Гавар был неистощим; понизив голос, он утверждал, будто в Тюильри каждый вечер привозят в закрытых каретах женщин и будто он сам, собственными ушами, слышал как-то ночью, на площади Карусель, шум оргии. Доставлять, поелику возможно, неприятности правительству было для Гавара делом жизни. Он придумывал всякие подвохи, над которыми втихомолку хихикал месяцами. Так он голосовал за кандидата, который, конечно, будет «донимать министров» в Законодательном корпусе. Кроме того, если он, Гавар, мог обмануть казну, сбить с толку полицию, устроить какую-нибудь потасовку, он старался преподнести это как проявление сугубой революционности. Вдобавок он лгал, выдавал себя за человека опасного, разглагольствовал с таким видом, будто «тюильрийская клика» его знает и трепещет перед ним, говорил, что одну половину этих мерзавцев надо отправить на гильотину, а другую – в ссылку, «как только начнется новая заварушка». Таким образом, вся его пустозвонная и свирепая политика держалась на бахвальстве, на баснях, навязших в зубах, на той пошлой потребности в шуме и потехе, которая заставляет парижского лавочника в дни баррикадных боев открывать ставни в своей лавочке, чтобы глазеть на убитых. Поэтому, когда Флоран вернулся из Кайенны, Гавар учуял, что есть возможность выкинуть пакостный фортель, и старался придумать, каким бы особенно остроумным способом ему поиздеваться над императором, правительством, чиновниками, над всеми – до последнего полицейского.
Все поведение Гавара в присутствии Флорана показывало, что он наслаждается запретными радостями. Он ласково ему подмигивал, говорил шепотом о самых простых на свете вещах, пожимал руку с таинственностью масона. Наконец-то ему посчастливилось: он нашел себе действительно скомпрометированного сообщника; теперь он мог без чрезмерного вранья говорить о том, какой опасности подвергается. Конечно, в нем жил страх – хоть он в этом не признавался – перед человеком, бежавшим с каторги, чья худоба говорила о долгих страданиях; но этот сладостный страх возвышал Гавара в собственных глазах, убеждал в том, что он совершил весьма удивительный поступок, завязав дружбу с чрезвычайно опасным человеком. Флоран стал для него святыней, он божился только Флораном, ссылался на Флорана, если у него иссякали аргументы, а он хотел сразить правительство раз и навсегда.
Жена Гавара умерла еще на улице Сен-Жак, через несколько месяцев после переворота. Он держал закусочную до 1856 года. В то время поговаривали, что Гавар изрядно нажился в компании с соседом-бакалейщиком, который получил подряд на поставку сухих овощей для Восточной армии. В действительности же Гавар продал свою закусочную и жил в течение года на ренту. Но он не любил говорить об источниках своего благосостояния: это его стесняло, мешало ему напрямик выражать свое мнение по поводу Крымской войны, которую он считал рискованным предприятием, «задуманным лишь для того, чтобы укрепить трон и дать возможность кое-кому набить карманы». Через год ему стало смертельно скучно в его холостяцкой квартире. И так как Гавар почти ежедневно наведывался к Кеню-Граделям, он переехал к ним поближе, на улицу Коссонри. Там-то и покорил его Центральный рынок своим гомоном и фантастическими сплетнями. Он решил арендовать место в павильоне живности – только для собственного развлечения, чтобы заполнить свой пустой день базарными пересудами. Отныне он проводил время в бесконечных разглагольствованиях, был в курсе местных событий, вплоть до самого мелкого скандала, голова его так и гудела от визгливых выкриков, которые непрестанно раздавались вокруг. Здесь очень многое приятно щекотало его самолюбие, он блаженствовал, попав в свою стихию, и наслаждался, как карп, плавающий на солнышке. Иногда к нему в лавку заходил Флоран. В послеполуденные часы было еще очень жарко. Сидя вдоль узких проходов, торговки ощипывали птицу. Между спущенными тентами падали полосами солнечные лучи, перья из-под пальцев взлетали в раскаленный воздух, рея в золотой солнечной пыли, словно пляшущие снежинки. Флорана зазывали, уговаривали, заманивали ласковыми словечками: «Хороша уточка, не возьмете ли, сударь?.. Пожалуйте ко мне… У меня жирные цыплятки, просто красавчики, не угодно ли?.. Сударь, сударь, купите парочку голубков…» Он старался отделаться, сконфуженный, оглушенный. Торговки продолжали, перебраниваясь, ощипывать птицу, и тучи тоненьких пушинок падали на него, душили, как дым; казалось, от них веет еще теплым, густым и крепким запахом живности. Наконец посреди галереи, у фонтанов, он заставал Гавара в одном жилете, синем переднике, ораторствующего, скрестив руки на груди, перед своей лавкой. Здесь Гавар царил безраздельно, но как милостивый властелин, среди кучки в десять-двенадцать женщин. Он был единственным на рынке мужчиной. Гавар перессорился из-за своего длинного языка со всеми пятью или шестью продавщицами, которых он нанимал поочередно, и теперь решил сам отпускать товар покупателям, наивно жалуясь, что его дурехи день-деньской чесали языки и он никак не мог положить этому конец. Но кто-то должен был заменять Гавара в его отсутствие, поэтому он нанял Майорана, который слонялся без дела, после того как перепробовал все виды легкого заработка на рынке. Флоран иной раз проводил часок у Гавара, восхищаясь его неистощимым злословием, его бравым видом, непринужденностью, с какой он держится среди всех этих баб: обрежет одну, с другой перебранивается через десять лавок от своей, у третьей отобьет покупателя, и один производит больше шума, чем сто с лишним его соседок, от галдежа которых звонко гудели, словно тамтамы, чугунные плиты павильона.
У Гавара не осталось никаких родственников, кроме свояченицы и племянницы. Когда умерла его жена, старшая сестра ее – г-жа Лекер, с год назад овдовевшая, оплакивала ее с чрезмерным старанием и каждый вечер ходила утешать несчастного супруга. Должно быть, она тогда задумала пленить его и занять еще тепленькое место покойницы. Но Гавар терпеть не мог тощих женщин; по его словам, ему делалось тяжело на душе, когда он чувствовал, что у дамы под кожей кости. Он гладил только очень жирных кошек или собак, ему доставляли особенное удовольствие пышные, упитанные телеса. Г-жа Лекер была оскорблена, взбешена, увидев, что пятифранковики хозяина закусочной ускользают из ее рук; она затаила смертельную злобу. Зять стал для нее врагом, о котором она думала ежечасно. Когда он открыл лавку на Центральном рынке, в нескольких шагах от павильона, где она торговала маслом, сыром и яйцами, она обвинила его в том, что он «придумал это, чтобы досадить ей и накликать на нее беду». С тех пор она вечно жаловалась, еще больше пожелтела лицом и так прочно вбила себе в голову собственные измышления, что действительно потеряла покупателей, и дела ее пошатнулись. Долгое время на попечении г-жи Лекер жила племянница, дочь ее сестры-крестьянки, приславшей ей девочку, на чем и кончились заботы матери о ребенке. Девочка росла на рынке. Фамилия ее была Сарье, поэтому ее вскоре перекрестили в Сарьетту, иначе и не называли. В шестнадцать лет Сарьетта была плутоватой девицей, и «господа» захаживали к г-же Лекер за сыром только для того, чтобы повидать Сарьетту. Но Сарьетте господа не нравились, эту темноволосую девушку с бледным чистым лицом и огненными глазами тянуло к простонародью. Она остановила свой выбор на рассыльном тетки, носильщике, который был из Менильмонтана. Когда Сарьетта в двадцать лет открыла фруктовую лавку на какие-то деньги, источник которых так и остался не вполне ясным, ее любовник, именуемый господином Жюлем, стал отныне беречь свои руки, носить чистые блузы и бархатный картуз, появляться на рынке только после обеда и в домашних туфлях. Они жили на четвертом этаже большого дома по улице Вовилье, нижний этаж которого занимало кафе с сомнительной репутацией. Неблагодарность Сарьетты окончательно испортила характер г-жи Лекер, и она поносила племянницу самыми непотребными словами. Они рассорились: тетка совсем ожесточилась, а племянница вместе с г-ном Жюлем выдумывала про нее разные небылицы, которые он распространял в павильоне масла. Гавар находил, что Сарьетта забавная девчонка, он благоволил к ней и при встрече трепал по щечке: она была такая пухленькая, такая вкусная…
Как-то после обеда Флоран сидел в колбасной, усталый от утренней беготни по городу в тщетных поисках работы, когда вошел Майоран. Этот рослый парень, по-фламандски дородный и добродушный, пользовался покровительством Лизы. По ее словам, он был малый незлобивый, немного блажной, сильный, как лошадь, и особенно примечательный тем, что у него нет ни отца, ни матери. Именно она и определила Майорана на место к Гавару.
Лиза сидела за прилавком, раздраженная тем, что Флоран наследил своими грязными башмаками на бело-розовом плиточном полу колбасной; дважды уже она вставала и посыпала пол опилками. Она улыбнулась вошедшему Майорану.
– Господин Гавар, – сказал он, – послал меня спросить вас…
Тут он сделал паузу, огляделся по сторонам и понизил голос.
– Он мне строго-настрого приказывал подождать, пока никого не будет, и тогда повторить то, что он велел мне выучить наизусть: «Спроси их, нет ли какой опасности и могу ли я прийти потолковать с ними насчет того, что они знают».
– Скажи господину Гавару, что мы ждем его, – ответила Лиза, привыкшая к таинственным повадкам продавца живности.
Но Майоран не уходил; он замер в восхищении перед прекрасной колбасницей, выражая простодушную покорность. Видимо тронутая этим немым обожанием, она спросила:
– Нравится тебе у господина Гавара? Он человек неплохой, старайся хорошенько ему угодить.
– Да, госпожа Лиза.
– Вот только ведешь ты себя неприлично; я опять видела вчера, как ты ходил по крышам на рынке; и ты водишься с шайкой каких-то оборванцев и оборванок. Ты теперь взрослый, уже мужчина; надо как-никак подумать о будущем.
– Да, госпожа Лиза.
Тут Лизе пришлось ответить даме, которая спрашивала фунт отбивных с корнишонами. Лиза вышла из-за прилавка и подошла к колоде в глубине лавки. Вооружившись тонким ножом, она надрезала им три отбивных от передней четверти свиной туши, затем занесла своей сильной обнаженной рукой резак и трижды ударила; раздались три отчетливых, коротких удара. При каждом ударе ее черное шерстяное платье чуть задиралось сзади, а под натянувшейся на лифе тканью проступали планшетки от корсета. С глубоко серьезным видом, с ясным взглядом и сжатыми губами, она собрала отбивные и неторопливо их взвесила.
Покупательница ушла; Лиза заметила, что Майоран стоит, очарованный тем, как точно и быстро она трижды опустила резак, и воскликнула:
– Как, ты здесь еще?
Он повернулся было, чтобы уйти, но Лиза его удержала.
– Послушай, – сказала она, – если я еще раз увижу тебя с этой маленькой грязнухой Кадиной… Не вздумай отпираться. Только сегодня утром вы вместе смотрели в требушинном ряду, как раскалывают бараньи головы… Не понимаю, что такому красивому парню, как ты, может нравиться в этой потаскушке, в этой вертихвостке… Ну, ну, ступай, скажи господину Гавару, чтоб пришел сейчас же, пока никого нет.
Майоран ушел, ничего не ответив, смущенный и приунывший.
Красавица Лиза продолжала стоять за прилавком, чуть-чуть повернув голову в сторону рынка; Флоран безмолвно разглядывал ее; он был удивлен, что она, оказывается, такая красивая. До этого момента он не видел ее по-настоящему, – он не умел смотреть на женщин. Сейчас она предстала перед ним царящая над снедью, разложенной на прилавке. Перед ней красовались на белых фарфоровых блюдах початые арлезианские и лионские колбасы, копченые языки, ломти вареной свежепросольной свинины, поросячья голова в желе, открытая банка с мелкорубленой жареной свининой и коробка с сардинами, из-под вскрытой крышки которой виднелось озерко масла; справа и слева, на полках, брусками лежали паштеты из печенки, затем сырки из рубленой свинины, простая нежно-розовая ветчина и копченый, красномясый йоркский окорок с толстым слоем сала. И еще были там круглые и овальные блюда, блюда с фаршированными языками, с галантином из трюфелей, с кабаньей головой, начиненной фисташками; и совсем рядом с Лизой, прямо под рукой, стояла нашпигованная телятина, а в желтых глиняных мисках – паштеты из гусиной печенки и зайца. Гавар все не шел, и Лиза переставила грудинку на маленькую мраморную полку в конце прилавка, выстроила в ряд горшочки с лярдом и говяжьим салом, протерла мельхиоровые чашки весов, пощупала остывающий духовой шкаф и снова молча устремила взгляд на рынок. Веяло пряным ароматом мясных яств, и Лиза, погруженная в незыблемое спокойствие, казалось, сама благоухает трюфелями. В тот день вся она дышала чудесной свежестью; белизна ее передника и нарукавников как бы продолжала белизну фарфоровых блюд, сливаясь с белизной ее полной шеи, а розовеющие щеки повторяли нежные тона окороков и прозрачную бледность жира. Чем больше смотрел Флоран на Лизу, тем больше одолевала его неловкость, тем больше тревожили ее безукоризненные стати; в конце концов он отвел глаза и начал разглядывать ее исподтишка в зеркалах по всем стенам лавки. Она отражалась в них со спины, спереди, сбоку; даже на потолке Флоран видел ее наклоненную голову, затянутые узлом на затылке волосы, прилизанные на висках тонкие прядки. Перед ним было целое множество Лиз, являвших взору свои широкие плечи, пышную мощь рук, круглую грудь, такую безмятежную и разбухшую, что она не будила никаких чувственных желаний и походила на живот. Флоран остановил взгляд на одном из профилей Лизы, который ему особенно понравился; он отражался рядом с Флораном в зеркале между двумя половинами свиной туши. Над всеми мраморными простенками и зеркалами, на крючьях длинных перекладин, висели свиные туши и полосы сала для шпиговки; в этом обрамлении из сала и сырого мяса профиль Лизы, статной и мощной, с такими округлыми формами и крутой грудью, казался изображением раскормленной владычицы этого царства. Прекрасная колбасница наклонилась и послала ласковую улыбку сновавшим в аквариуме на витрине двум красным рыбкам.
Вошел Гавар и с многозначительным видом вызвал из кухни Кеню. Наконец все собрались; Флоран сидел, как и прежде, на своем стуле, Лиза за прилавком, а Кеню прислонился к свиному боку; тогда Гавар, присев на край мраморного столика, стоявшего наискосок от них, объявил, что подыскал место для Флорана, притом такое, что смеху не оберешься, да и правительство можно здорово облапошить!
Тут он осекся, увидев на пороге мадемуазель Саже, которая приоткрыла дверь лавки, едва заметила с улицы, что у Кеню-Граделей собралось за беседой многочисленное общество. Щуплая старушка в выцветшем платье, с неизменной черной хозяйственной сумкой на сгибе руки, в черной соломенной шляпке без лент, бросавшей на ее бескровное лицо загадочную тень, приветствовала мужчин полупоклоном, а Лизу – язвительной улыбкой. Мадемуазель Саже была старая знакомая, она по-прежнему жила в доме на улице Пируэт, где провела сорок лет своей жизни, существуя, конечно, на доход с маленькой ренты, о чем, однако, умалчивала. Правда, она как-то упомянула Шербург, добавив, что родилась там. А все прочее о ней так никогда и не удалось узнать. Она говорила о других, только не о себе, рассказывала все мелочи чужой жизни, вплоть до того, сколько сорочек люди отдают в стирку, и так страстно хотела проникнуть во все подробности существования соседей, что подслушивала под дверью и вскрывала их письма. Языка ее боялась вся округа – от улицы Сен-Дени до улицы Жан-Жака Руссо и от улицы Сент-Оноре до улицы Моконсей. Вооружившись своей черной сумкой, она уходила из дому на целый день якобы за покупками, но ничего не покупала, а разносила по городу свежие новости, была в курсе самых мелких происшествий и умудрялась таким образом держать в своей голове всеобщую и полную историю всех домов, этажей и жителей квартала. Кеню всегда считал ее распространительницей слухов о том, что дядюшка Градель умер на столе для разделки мяса; с этих пор Кеню и таил зло против нее. Впрочем, в истории дядюшки Граделя и семейства Кеню мадемуазель Саже, так сказать, собаку съела; она знала про них всю подноготную, могла разобрать их по косточкам, знала их «наизусть». Но уже недели две, как приезд Флорана выбил ее из колеи, она сгорала от любопытства в прямом смысле этого слова. Мадемуазель Саже заболевала, если в ее сведениях возникал пробел. И все же она могла поклясться, что где-то видела этого верзилу.
Остановившись перед прилавком, она стала обозревать подряд все блюда, приговаривая своим надтреснутым голоском:
– Уж и не знаешь, право, чего бы поесть. Как подойдет время обедать, так я слоняюсь, словно неприкаянная… Да и не хочется ничего… Может, у вас остались котлеты в сухарях, госпожа Кеню?
Не дожидаясь ответа, мадемуазель Саже приподняла крышку духового шкафа. С этой стороны обычно лежали колбасы из свиной печенки, сосиски и кровяная колбаса. Но духовка остыла, на решетке валялась лишь забытая тощая сосиска.
– Посмотрите с другой стороны, мадемуазель Саже, – предложила колбасница. – Кажется, там осталась одна котлета.
– Нет, это мне что-то не улыбается, – пробормотала старушка, но все-таки сунула нос и под вторую крышку. – Мне вроде как захотелось котлетку в сухарях, но к ночи это, пожалуй, слишком тяжело для желудка… Лучше бы что-нибудь такое, что не надо самой разогревать.
Она повернулась к Флорану, посмотрела на него, посмотрела на Гавара, который барабанил пальцами по мраморному столику, и улыбнулась, словно приглашая продолжить беседу.
– Почему бы вам не купить кусочек свежепросольной свинины? – спросила Лиза.
– Да, разве что кусочек свежепросольной…
Мадемуазель Саже взяла вилку с белой металлической ручкой, лежавшую на краю блюда, и стала рыться в мясе, тыкая в каждый ломтик свинины. Она постукивала вилкой, проверяя, велика ли косточка, переворачивала ломтики и так и этак, изучала какие-то отделившиеся волоконца розового мяса, повторяя:
– Нет, нет, это мне что-то не улыбается.
– Возьмите тогда кусочек языка, или свиной головы, или ломтик шпигованной телятины, – спокойно сказала колбасница.
Но мадемуазель Саже только мотала головой. С минуту она еще постояла, брезгливо морщась; затем, увидев, что окружающие твердо намерены молчать в ее присутствии и она так ничего и не узнает, мадемуазель Саже удалилась, говоря:
– Нет, мне, видите ли, хотелось котлетку в сухарях, но эта у вас очень уж жирная… Загляну в другой раз.
Лиза нагнулась, следя за ней сквозь бахрому бараньих сальников на витрине. Она увидела, что мадемуазель Саже перешла дорогу и направилась к павильону фруктов.
– Старая хрычовка! – проворчал Гавар.
Теперь они остались одни, и он рассказал, какое место нашел для Флорана; тут получилась целая история. Один из его друзей, инспектор павильона морской рыбы Верлак, захворал настолько серьезно, что вынужден уйти в отпуск по болезни. Как раз в это утро бедняга говорил Гавару, что охотно сам предложил бы себе заместителя, чтобы сохранить свое место, если выздоровеет.
– Понимаете, – добавил Гавар, – Верлак вряд ли протянет и шесть месяцев. Место останется за Флораном. А должность выгодная… Да мы еще и полицию надуем! Ведь назначение на это место зависит от префектуры. А? Каково? Разве не уморительно, что Флоран будет получать деньги от этих шпиков?
Гавар хохотал от удовольствия, ему все это казалось очень смешным.
– Я отказываюсь, – твердо сказал Флоран. – Я поклялся ничего не принимать от Империи. Скорей околею с голоду, чем поступлю в префектуру. Это невозможно, Гавар, поняли?














