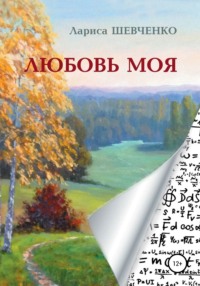полная версия
полная версияНадежда
И лишиться общения с такими учителями, как Юлия Николаевна, Ольга Денисовна, Александра Андреевна, Петр Денисович не могу себе позволить. Я настолько хорошо запоминаю все на их уроках, что даже представляю, с каким настроением они объясняли тот или иной материал, какие шутки произносили. Учителя я должна воспринимать зрительно, тогда урок усваиваю лучше, ярче. При этом усиливается восприятие смысла, глубина понимания. Ольга Денисовна не разрешает «зубрить» физику, требует по памяти писать конспекты, чертить схемы и рисовать картинки опытов. Она категорически возражает против бездумного переписывания из книжки в тетрадку, заставляет дома вслух рассказывать суть физических явлений природы: «Дабы дурь каждого всякому видна была», – как говаривал Петр Первый. Она тоже учит нас думать.
А воспитание? Классные часы? Работа с малышами? Я же каждую свободную перемену бегу к ним. Как же им без меня обходиться?
Жалко, хорошая была задумка! Но нереальная…
Прозвенел звонок. Класс с шумом рассыпался по коридору.
ПОДАРОК СУДЬБЫ
По школе пронеслось: «Опять проверка. Какой-то симпатичный дядька приехал». «Дядька – это хорошо», – подумала я и тоже побежала к учительской. У дверей спортзала рядом с завучем стоял высокий стройный молодой человек и что-то увлеченно говорил. Он совсем не похож на сурового, подозрительного проверяющего. Простое изысканное изящество в одежде. Сам такой открытый, естественный. Доброта и интерес светятся в огромных голубых глазах. Ему хотелось верить. Бабушка говорила, что доброму человеку всегда хочется верить.
Вскоре все мы узнали, что гость приехал из педагогического института для проведения в нашем районе эксперимента, и поэтому совсем не боялись, когда он посещал уроки. В конце недели Ефим Борисович собрал учеников пятых-седьмых классов в актовом зале и стал рассказывать о необходимости изучения иностранного языка. Затем внимательно выслушал мнения учеников.
Я сначала осторожно поднимала руку и тихо высказывалась о том, что зубрежка неинтересна, что нам достаточно уметь переводить тексты. Но вскоре разошлась. Слетела с тормозов, начала спорить. И понесло меня… Ефим Борисович с любопытством разглядывал меня. Потом что-то спросил у вожатой, сидевшей рядом с ним. Она ответила ему на ухо. Чувствую: интерес ко мне усилился.
После беседы все разошлись по домам, а я осталась караулить гостя. Возбуждение прошло, и я, оценивая свое поведение в зале, грустила. «Извиниться, что ли, перед ним? Небось, он и не таких сумасбродных видел. Неприлично напрашиваться на разговор. Вот если бы он первый начал! А я сделаю так, будто случайно его встретила! Как заставлю заговорить со мной? – лихорадочно думала я. – Отчего я завожусь? Обыкновенный учитель».
Дверь открылась. На пороге появился Ефим Борисович. Неожиданно его лицо засветилось. Глаза расширились, щеки чуть порозовели. Он прямо расцвел. Боже мой, какие яркие слова мне подобрать для описания чувств этого человека! Тонкий, удивительно нежный, глубоко чувствующий, влюбленный! Он слегка подался вперед. В этом движении – сдерживаемое большим усилием воли желание побежать кому-то навстречу? Кто ему так дорог? Кого он боготворит?
По дорожке идет маленькая, стройная, черноволосая, кареглазая девушка. Спокойная, уверенная, с чуть-чуть смущенной улыбкой на полных губах. Ничем не примечательная, в строгом черном костюме, но с таким чувством собственного достоинства! Движения ровные, будто плывет. Может, балетную школу заканчивала?
Сколько любви к ней во взгляде голубоглазого красавца! Что он нашел в этой девушке? По правде сказать, ее внешность нисколько не вязалась с моими представлениями о красоте. Правильные черты лица. Глаза внимательные. И что? Почему он выбрал неприметную? Такой мог любую найти. Что в ней такого, что он предпочел ее другим? Ум? Обаяние? Нет, он не простой, что-то в нем есть. Его обаяние я ощущаю, а ее – нет. Может, глубоко скрыто? Не всем дано ее понять? Как знать. А может, не она так великолепна, а он способен ярко и красиво любить?
Ефим Борисович сорвался с места, элегантно и ласково взял девушку за руки, несколько секунд подержал их в своих ладонях, потом поцеловал. Она еле заметно улыбнулась, и они пошли в сторону станции. Я завидовала им и радовалась за них. Я завидовала ей. Всем бы достойным людям такое счастье! А какое? Я же его совсем не знаю. Но мне кажется, я его чувствую.
На следующий день я снова ожидала преподавателя.
Идет! Мое лицо вдруг запылало огнем, сердце то трепетало, то бешено стучало, ноги задрожали. Куда иду? Зачем? Мое поведение – не что иное, как бесподобная восхитительная наивность? Любопытство разобрало? Ради развлечения, чтобы внести в жизнь некоторое разнообразие? Не благоразумно. Раздосадованная, в замешательстве остановилась. Попыталась собраться с мыслями. Всецело поглощена неотвязной мыслью о своей невоспитанности. Терзают самые противоречивые чувства. Волнение парализует ум.
Я же не смогу сама заговорить! Что я скажу? Я невольна делать все, что заблагорассудится. Но всегда можно сказать, что были на то свои основания, причины. А вдруг он сочтет меня сущей дурой и, сраженный моей глупостью, прогонит? Вот, будет ему потеха! Заранее переживаю неутешительные моменты неоправданной надежды и грустные результаты своего некрасивого поведения? Я бы предпочла другой, более приятный вариант общения.
Возбуждение треплет. Я охвачена мучительной тревогой и не способна слова вымолвить. Разумнее вернуться? Нет. Набралась храбрости. Не стоит терять голову.
С чего это я такая неуверенная? По-видимому, от нетерпения. Почему сочла возможным отступить от общепринятых правил? Откуда необъяснимое чувство доверия к гостю?
Моя слабость – умные люди. Магнитом тянет к ним. Может, у всех так? А ему какой интерес со мной говорить? Петр Андреевич (из моего детдомовского детства) говорил, что «для развития необходимо взаимодействие интеллектов». А сам меня не отталкивал, не презирал, уважительно относился, хотя я была маленькой и глупой. А если Ефим Борисович пожалуется матери? Столкновение с ней грозит обычной бедой: наказания не избежать. Не стоит даже пытаться? Все равно не хочется сдаваться. «Эх, была, не была! Прорвемся», – как говорили матросы в одной революционной книжке.
Как только первый испуг прошел и я обрела дар речи, так сразу возникли новые вопросы: «Как следует поступить? Что же такое сверхумное придумать, чтобы он остановился? В книжках девушки платки роняли. А если паче чаяния (вдруг) он не поймет моих намерений? Да, без сомнения это примитивный, устаревший способ! Все это так, но может, тогда сочинить что-либо? По-немецки не успею. Вот незадача! Может, просто подойти и задать какой-нибудь вопрос? Неинтересно. Тем более что он такой особенный! Эх, не хватает фантазии! А что? Чем проще вопрос, тем лучше».
Пока я с лихорадочным нетерпением предавалась размышлениям и чувствам, педагог оказался совсем рядом. Мгновенно преодолела жестокое сомнение, настроилась и вынырнула из-за угла с независимым безразличным видом.
– Ефим Борисович, а Вы мечтали работать преподавателем в институте или все случайно вышло? – скороговоркой выпалила я.
– Все случайно, но ты хотела о другом спросить? – строго спросил гость.
– Почему вы так думаете?
– Но угадал же? – вопросом на вопрос ответил Ефим Борисович.
– Ну, допустим. А что, нельзя?
– Воспитанием характера тебе бы заняться. Неразумно от себя самой скрывать свои недостатки, пытаясь подыскивать объяснение своей… допустим нерешительности или напротив…
– Давно занимаюсь самовоспитанием.
– Ой! Не похоже.
– И Вы туда же… Нельзя судить, не зная человека. Говорите как большинство учителей. А… а… поняла: изучаете меня?
– Почему так думаешь?
– Сама так поступаю.
– Имеешь в виду тогда, на уроке?
– Да. Сначала завелась, а когда взяла себя в руки, начала наблюдать и подмечать за Вами, вызывать на спор. Иначе никогда не услышишь ничего интересного.
– Ну и удалось?
– Не-а… пока.
– А ты – заноза порядочная.
– Есть немного. Я уже три года одного проверяющего знаю. Он, когда приезжает, у нас обычно живет. Хороший дядька. Только меня не удостаивает беседой. Осторожный очень. Пальцы у него тонкие, длинные, без мозолей. Я его даже «гнилым интеллигентом» обозвала, когда он руки мыл. Я ему сливала из кувшина. Все равно не получилось поговорить. Он только глаза в сторону отвел, как наш отец. Одна у них манера. Я поняла, что он никогда не заговорит со мной, и не боялась, что от родителей достанется за грубость.
– Что, получаешь иногда сдачи?
– Неважно. Переживу.
– Проще же не грубить…
– Проще… только не с ней. Не надо про это, ладно?
– Ладно, но я не про родителей. Когда все хорошо, обычно не особенно ценишь тех, кто рядом с тобой, и кажется, что не нуждаешься в их наставлениях. Сейчас я спрашиваю про этого твоего знакомого, проверяющего. Чем он тебе не угодил? – улыбнулся Ефим Борисович.
– Такой человек не станет доставлять лишних хлопот ни себе, ни моим родителям. Ему легче смолчать, отвернуться от моего вопрошающего взгляда. А не пожалуется он не потому, что его удивила моя грубость, ему неловко про такое признаться кому-либо. Он же начальник. А еще он знает, что, если промолчит, я больше не стану к нему приставать. Он отстранился от меня. Знаете: мало приятного, когда взрослые тебя не понимают, но еще хуже, когда не хотят понять, – со вздохом объяснила я.
– Согласен с твоим последним высказыванием. А ты не только заноза, но еще и психолог.
– Куда мне до психолога! Просто я перед сном всегда свои дела и поведение обдумываю. Мне редко удается сразу что-либо умное сказать. Сначала говорю на эмоциях ерунду, потом осуждаю себя, а уж потом думаю, отчего так сказала и как надо было. Понимаю, что глупо так вести себя, да ума еще не хватает. Хотя во мне уже нет прежней наивности, и я с большим интересом изучаю жизнь и замечаю многое из того, на что раньше не обращала внимания, но все равно не в состоянии разрешить мучающие меня вопросы. Для меня по-прежнему недосягаемы взаимоотношения взрослых. К некоторым людям и событиям я инстинктивно питаю непреодолимое, может быть, неоправданно преувеличенное отвращение. Иногда меня совершенно неожиданно ослепляет неуправляемый гнев. Меня нетрудно разозлить. Пугает неизвестность, неопределенность моего положения. Иногда примешивается страх осознания безнадежности. Оттого нападает тоска. Малоприятное занятие – скулить. Тоска – хуже болезни. Так моя бабушка говорит. Я, конечно, воюю с собой....
– Самоедка? Не предполагал, что можешь добровольно являться с повинной, – шутливо-соболезнующим тоном произнес Ефим Борисович.
– Накипело. К другим я терпимее. Особенно к взрослым. Им некогда думать. Они мыслят стереотипами. У них забот много. А Вы в словах тоже осторожный.
– Все шишки набивают. Я тоже много раз шашкой махал как Чапаев.
– Шишки – главный стимул в обучении?
– С юмором у тебя в порядке. Это – хорошо.
– В жизни бывают события, про которые я не люблю и не хочу шутить. Для меня это уже не шутки. Я обижаюсь, хотя понимаю, что нельзя. Ведь человек не может знать, что делает мне больно, и начинает воспринимать мою обидчивость как отсутствие юмора. Я даже сама над собой не могу подтрунивать, если дело касается семьи, измены, нечестности, – вздохнула я.
И тут же одернула себя. Постоянный страх перед постыдной правдой моего детдомовского детства не позволил мне затронуть тему, которая отравляла мое существование. Я не хотела проявления участия или жалости по этому вопросу со стороны моего нового и очень милого знакомого. Тем более, что наша беседа протекала легко и стремительно. Голос педагога был глубокий, задушевный, чуть приправленный иронией. А сколько в нем было сердечного чувства!
– Часто учителям досаждаешь? – с улыбкой поинтересовался мой приятный собеседник.
– Нет. Одним сочувствую, других люблю. У скучных и безразличных раньше на голове ходила. В этом году вроде повзрослела. Седьмой класс – выпускной. Пора готовиться к самостоятельной жизни. Знаю, что в четырнадцать лет человек по закону считается взрослым.
– В голосе радость. Часто бывает скучно на уроках?
– А я потихоньку читаю художественные книжки. Некоторые наши учителя вообще по ошибке в школу попали. Вот написала я радостное, искреннее сочинение на свободную тему, а учитель литературы говорит: «Какой пафос может быть на уборке картошки?»
Ефим Борисович не замедлил растолковать:
– Он напрочь забыл, что естественное донкихотство, искреннее позерство, приподнятость и восторженность возможны только в детстве.
– Вот вы понимаете меня! – обрадовалась я.
– Чего тебе не хватает в школьной жизни?
– Наверное, серьезных кружков с хорошими специалистами: по рисованию, музыке, технических всяких, конечно. При нашей теперешней бедности это невозможно. Да и времени на них родители все равно не выделят, дома вкалывать надо. Но, самое главное, не хватает веселой сумасбродности, романтики и общения с талантливыми людьми. Хлебом меня не корми, только дай послушать того, кто много умнее. Бывает, мелькнет человек ярким лучиком, и свет от него в душе долго не затухает. Не стираются из памяти мгновения, проведенные рядом с ним. И хочется говорить о нем часто и долго. А другой серой незаметной тенью для меня на всю жизнь остается. Я звездочки ищу! – восторженно заговорила я.
– Прекрасное воображение. Красиво говоришь, – снисходительно усмехнулся Ефим Борисович.
– У меня сейчас период возвышенных чувств.
– Вычитала где-то?
– Своих извилин хватает.
– Ох, какие мы гордые! А почему на меня обратила внимание?
– Речь у вас особенная, – уважительно и серьезно ответила я.
– А я-то думал…
– Из-за привлекательной внешности? Я уже не в том возрасте, когда мужчины нравятся за красоту! – выпалила я.
– Я, правда, не то думал… Но неважно. И когда же ты успела разочароваться в симпатичных юношах? Неудачная первая любовь?
– Вторая! – брякнула я.
– С тобой не соскучишься. Прелюбопытнейший экземплярчик! – искренне и безудержно рассмеялся Ефим Борисович.
– И совсем не экземплярчик, – обиделась я, – индивидуум.
– Откуда такое в лексиконе?
– В докладе у матери вычитала.
– Понимаешь его смысл?
– Если бы не понимала, не употребляла, – недовольно пробурчала я.
– У тебя очень богатая речь. Я еще вчера заметил. От кого?
– Книги, бабушка, хорошие учителя, – ответила я.
Ефим Борисович задумался, видно, о своем. А у меня душа «понеслась в рай». От избытка нахлынувших чувств кружилась голова. Чувства облачались в мысли: «Не бойтесь меня, не отводите взгляда. Я не заберу Ваше сердце. Я только понежусь в лучах Вашей улыбки, прикоснусь к сиянию глаз, прислушаюсь к звукам голоса. Я не смогу позволить себе даже внезапное случайное прикосновение к вашей руке, способное нарушить чистоту моих помыслов. Сама боюсь попасть под Ваши чары. Я не хочу и не влюблюсь в Вас, потому что осторожная. Я просто обожаю Вас. Мне хочется услышать что-нибудь умное, потрясающе интересное – вот и все! Я всегда мечтала о встрече с особенным, а может быть, даже великим человеком…»
– А почему ты так свободно общаешься с человеком из комиссии? Я же старше и для тебя – начальник, – прервал мои восторженные мысли Ефим Борисович.
– Мои теперешние родители – учителя. Вот и они считают, что с начальниками надо «держать ухо востро», чтобы не разозлить, потому что некоторые много о себе воображают и можно ожидать от них больших неприятностей. А мне все равно, кто Вы. Я уважаю умных людей, пусть и начальников, а боюсь только плохих.
– Вижу, на эту тему у тебя целая теория выстроилась, – улыбнулся педагог-экспериментатор.
– Теория здесь ни при чем. Грустный опыт. Вы знаете, к двенадцати годам я поняла, что, каких бы рангов ни были начальники, все равно они люди, не боги. Понимаете меня? Они только намного умнее, энергичнее или связи у них большие. Поэтому у меня, наверное, никогда не будет кумиров, и я никогда не стану поклоняться человеку как идолу. Для меня всегда будут существовать только учителя и обожаемые люди. А Вас я не боюсь, потому что вы подпускаете к себе. Может, Вы любознательный и Вам тоже интересны люди? Ошибаюсь? – спросила я настойчиво.
– Не ошибаетесь, товарищ психолог, – весело ответил педагог.
– Вас мужчины или женщины больше интересуют? – продолжила я задавать вопросы, так и не поняв, шутит или иронизирует мой собеседник.
– С женщинами мне проще.
– Потому что Вы красивый и обходительный?
– Опять ты за свое! Просто я их лучше понимаю, – досадливо поморщился Ефим Борисович.
– Странно, – удивилась я.
– Из детства это идет. Мама меня воспитывала.
– Война виновата?
– Да.
– У меня тоже. Я совсем одна, – сказала я и замолчала. «С чего разоткровенничалась как в вагоне поезда?» – разозлилась я на себя.
– У тебя есть родители, – попытался успокоить меня собеседник.
– Я же просила: не надо об этом.
– Хорошо. Но все, что ты из себя представляешь, – от них. Согласна?
– Нет. Я – другая, сплошное противоречие: то умная, то бестолковая, в чем-то сдержанная, а в чем-то безудержная и психованная. Я, наверное, еще не сформировалась. У меня даже почерк каждый день разный, в зависимости от настроения.
– А когда надеешься сформироваться? – строго перебил гость.
– Не знаю. Наверное, когда детство закончится.
– А ты могла бы подвиг совершить? – вдруг осторожно спросил Ефим Борисович.
– Запросто, не задумываясь.
– Ты уверена?
– Думаете, у меня хвастливая гордость? И в помине нет ее. Такими словами не кидаются. Смею утверждать, что натура моя такая. Не хочу, чтобы жизнь зазря прошла. Во мне много от Павки Корчагина. К примеру, безграничное терпение, вера. Без внутренней убежденности повинуешься неохотно, с неудовольствием. То ли дело с верой и любовью в сердце. Тогда никакой страх нипочем.
– Так может в тебе есть что-то и от Александра Матросова?
– И от него тоже, в зависимости от того, какая ситуация. Но Павке сложнее было. Он годами преодолевал трудности. Минутный подвиг легче совершить, там некогда искать выход из затруднительного положения. Одномоментный страх легче преодолеть. Матросову надо было ценой одной жизни спасти многих, и он был готов к совершению такого подвига. Он был воспитан таким: с ярким сердцем горьковского Данко. Любовь к Родине или отключила остальные чувства, или представила их мелкими, не важными, не главными. У Корчагина была надежда выжить, а у Матросова – нет. Вот в чем разница их подвигов, – с глубоким знанием дела горячо заявила я. – У Вас на этот счет другое мнение? – я испугалась своей категоричности и замолчала.
– Нисколько не сомневаюсь, что имеешь некоторое представление о героике. Ты думаешь, они сумели правильно расставить приоритеты?
– Да. И Матросов, и Корчагин. Герой не из каждого получается. Как говорит наша Юлия Николаевна: должны существовать необходимые и достаточные условия.
– А как ты относишься к шоферу, о котором писали в вашей газете? До тебя дошли слухи о нем?
– Конечно, он герой! Жаль только, что жизнь сгубил из-за разгильдяйства других. Но это не умаляет его подвига. Он выполнил свой долг с честью. Мне кажется: в мирное время во сто крат страшнее умирать. Тут немыслимая твердость воли нужна, особая убежденность. Когда этот шофер был мальчишкой, его отца за три килограмма гречневой крупы посадили в тюрьму. Вот он и хотел самому себе доказать, что другой. Отсюда его… как вы сказали… при… о…
– Приоритеты. Значит, ты задумывалась над проблемой страха?
– Конечно. Первый раз еще в раннем детстве, когда любимый котенок погиб от дуста. И над преодолением задумывалась. Многое страхи из детства идут. Я воспитывала себя, чтобы не бояться темноты и прочей ерунды. Жуткий физический страх ощущаю от бессилия помочь себе и кому-то. Он прожигает мозги насквозь и остается надолго, может, даже на всю жизнь. Удивляет такое: на войне человек был героем, но теперь на работе начальник измывается над ним, а он не умеет противостоять, в червя превратился. И сейчас неприятности его осаждают, будто специально для того, чтобы испытать характер на прочность в разных условиях. Может, он еще встанет с колен? Говорят, что судьба надолго не отворачивается от сильных и мужественных. Видно, смелость и страх бывают разные, – со вздохом закончила я свои пространные рассуждения.
– Мой товарищ по студенческим годам так говорил: «Вполне справедливо, что от мелких страхов спасает пластика человеческой психики. А вот у больших, глубинных совсем другой механизм преодоления. Возьмем, к примеру, ужас бесчестия, безвыходности, страх перед торжеством зла, равнодушия, жуткий непонятный страх смешанный с любовью. Я не оправдываю тотальной манипуляции социальными чувствами, когда будто бы сладкое чувство страха раздавливает человека, приводит к раздвоению личности, когда понимаешь, что ни ты, ни общество уже ничего не решают… С другой стороны, смятение, обычный реальный извечный страх смерти, ощущение хрупкости цивилизации, когда разум и интеллект бессильны». Некоторые виды страхов преодолеть по плечу далеко не каждому. Участь таких людей незавидная. Попав в лабиринт ужасных обстоятельств, они могут пасть духом или даже повредиться разумом. Никто не знает, где граница, за которой люди теряют власть над собой, и есть ли она… Страх – чувство непродуктивное, пока не появится кураж, невероятный кураж, способный преодолеть любые испытания. У человека потрясающая жизнестойкость!..
Вспомнил «Вий» Гоголя. Сумел писатель найти гениальные по простоте слова, чтобы описать ощущение страха. Сказки делают попытку подготовить человека к философскому отношению к жизни… Достоевского читал в детстве, не понимая, но с чувством жутчайшего страха. Подвиг, мужество, момент преодоления страха – непостижимы. Их трудно описать словами, музыкой. Все эти попытки только приближают нас к пониманию подобных состояний. Удивительна красота и величие мужества! Умение в любой ситуации сохранять полное присутствие духа, – безусловно, прерогатива морально сильных людей..
Ефим Борисович все говорили говорил будто бы для себя, словно не замечая моего присутствия. Теперь он нисколько не походил на простого учителя. Он был погружен в осмысление глобальных проблем, остальное его ничуть не занимало. Многие его слова и мысли были для меня настоящим неожиданным откровением, многое я вовсе не осознавала. Изысканная обстоятельность его ответа льстила мне, и я смогла с ним заговорить только после того, как он сам остановился. И то не сразу.
– Все Ваши рассуждения очень серьезные и не совсем мне понятные. А вот если вернуться к простому, бытовому, которое случается каждый день? – осторожно начала я.
– Говори. Позволяю со мной не церемониться. Я не принадлежу к числу снобов, – великодушно улыбнулся педагог.
– Летом со мной казус произошел. Вроде бы ерундовый, а разозлил здорово. Гость к нам из города приезжал. В Обуховку мы с ним к нашим старикам на велосипедах поехали. Конечно, бабушка с дедушкой гостинцев два рюкзака собрали. Яблок ранних очень вкусных насыпали. Я рюкзак на багажник прикрепила, а дядька свой за спину надел. Едем, а он бубнит: «Яблоки мои в твоем рюкзаке побьются». Я послушалась и взвалила его себе на плечи. Дядя толстый, ему проще, а мне рюкзак кости на ухабах долбит. Километров пять терпела. Потом решительно сняла и опять на багажник привязала. Дядька снова начал ныть. А я ему сказала: «Для вас важнее есть непобитые яблоки, зная, что я все шестнадцать километров мучилась, или все же пусть они помнутся слегка? Выбирайте!» Он насупился и молчит. Я все равно его не послушала. Только добавила сердито: «Если вам нужны яблоки, тащите их сами». Конечно, дядька не взял мой рюкзак.
Он тоже не умел приоритеты расставлять? Я ни одного яблока тогда не съела, хотя он оставил нам те, которые немного побились. Тошно на них было смотреть. Вы знаете: он все-таки родителям не пожаловался. То ли пожалел меня, то ли сам задумался над своим поведением? Дети часто неправильно поступают, потому что еще не умеют думать, а взрослые – от плохого характера: зависти, жадности, упрямства. Ребенка за вредность наказывают, а взрослых некому приструнить, – засмеялась я. – Еще один жизненный парадокс меня беспокоит: вот, допустим, спас человек из огня нескольких детей. Конечно, он герой. А другой – сорок лет без единой аварии перевозил на самолете людей. Он тоже герой по моему мнению. Каждый день рисковал. Но о нем никто не помнит. Неправильно это. Обидно мне за таких, никому не известных.
– Похоже, быть тебе педагогом, – задумчиво сказал Ефим Борисович.
– Потому что зануда?
– Потому что кожа тонкая.
– К несчастью, я иногда грублю. Но только после того, как взрослые доведут до полного нервного изнеможения, когда кажется, что уже нет больше оснований терпеть придирки. То там, то сям срываюсь. Взрослые считают, что им можно, а нам нельзя, – обреченно сказала я.