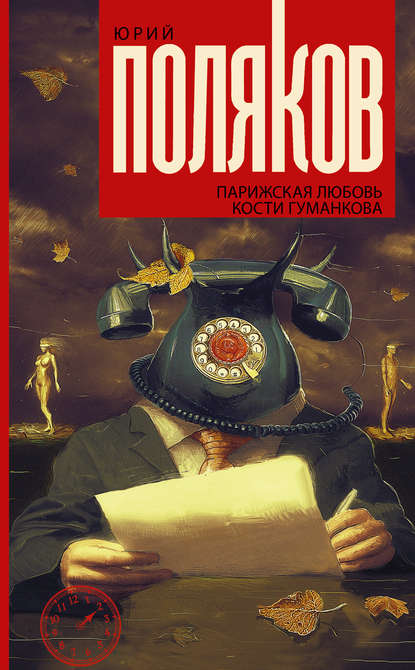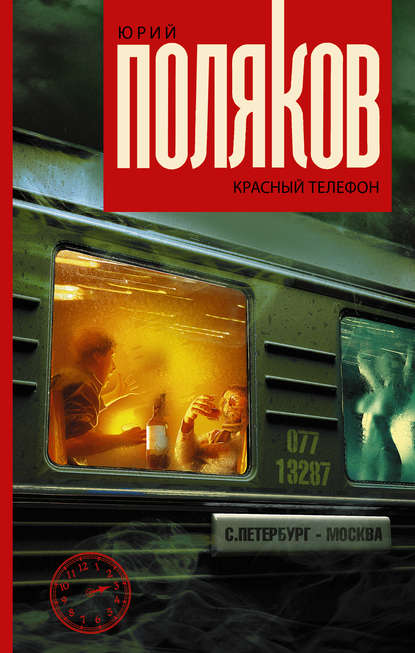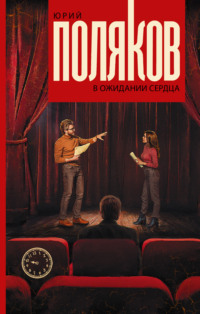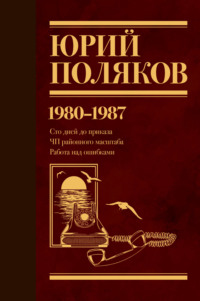Полная версия
Гипсовый трубач. Однажды в России
– Посмотрим еще, какой вы фильм снимете! – покраснев, огрызнулся Кокотов.
– Посмотрим, – согласился режиссер и продолжил: – «…На платформу Ступино выходит десяток людей – в руках у них корзины, ведра, большие целлофановые пакеты. Львов с лукавым терпением опытного грибника дожидается, пока они скроются в деревьях, а потом по ведомой ему узкой тропке, обойдя поселок, углубляется в лес. Хотя солнце уже чуть привстало над горизонтом, вокруг еще сумеречно – листва и стволы кажутся сероватыми, точно в черно-белом фильме. Львову нравится утренний предосенний лес с его влажным шуршанием листьев, запахом прели и птичьим безмолвием.
Прошагав минут двадцать и ощутив, как от росы брюки намокли до колен, он достигает наконец первой заветной полянки. Там, там – в мшистом треугольнике, между пожелтевшей березой и двумя елочками, его всегда ждет удача. Вот и теперь большой белый гриб на высокой ножке стоит вызывающе бесшабашно. Наверное, среди грибов, как и среди людей, тоже есть смельчаки, которые первыми поднимаются в атаку и, погибая, отводят опасность от других…»
В этом месте Кокотов осторожно глянул на Жарынина, ища одобрения: он считал это рассуждение о грибном героизме чрезвычайно удачным и в какой-то мере метафизическим. Дмитрий Антонович посмотрел на автора поверх очков, и глаза их встретились. Во взгляде режиссера он все-таки нашел одобрение, но какое-то снисходительное, словно Андрей Львович – ребенок, впервые наконец-то прицельно сходивший по-маленькому. Тонко улыбаясь, киношник пыхнул трубочкой и вернулся к рассказу:
– «…Срезав смельчака ножом, Львов внимательно оглядывается, даже приседает для лучшего обзора. Он никогда не уходит сразу, но тщательно обшаривает все вокруг, заглядывая под каждую еловую лапу, и, как правило, находит еще два-три трусливо затаившихся боровичка. “Храбрец умирает один раз, а трус тысячу!” – вслух бормочет он, обскребывая ножом землю с толстых ножек. Потом Львов идет глубже в лес, сверяясь с памятными приметами: оврагом, поросшим осинами, ельником, становящимся год от года все выше и гуще, огромным тракторным колесом, невесть откуда взявшимся в чащобе. Попутно он заглядывает в два-три места: на кочках подсохшего болотца собирает белесые подберезовики, в основном, правда, червивые, привычно подхватывает пытающихся перебежать просеку красноголовиков с крапчатыми долгими ножками. А в маленьких квадратных овражках (это были сглаженные следы военных землянок) Львов собирает чернушки. Их много, но они скрыты сухой листвой, поэтому искать их надо, ползая на коленях и разгребая руками душистые предосенние вороха с белыми мохеровыми нитями потревоженных грибниц. Точно ищешь потерянную вещь…»
Тут послышались проклятые «Валькирии», вызвав у Кокотова настоящий прилив ярости. Вот именно так звереет записной меломан, если в Большом зале консерватории на коде Патетической симфонии в кармане у смущенного соседа, который к тому же хлопал, как лох, между частями, мобильная сволочь заверещит вдруг «Мурку». Однако, нисколько не смущаясь, Жарынин вынул трубку из кармана и откинул черепаховую крышечку:
– Ах, это все-таки ты?! Не-ет, крысюнчик, я уже в Токио. Теперь только через две недели… Целую твой бессовестный ротик! – Закончив разговор, режиссер как ни в чем не бывало продолжил: – «…Последнее заветное место его грибных угодий – огромное поваленное обомшелое дерево, в эту пору обсыпанное мясистыми опятами. Однако сегодня Львову не везет: наполовину вросший в землю ствол покрыт бесчисленными ножками, оставшимися от срезанных шляпок, культи завялились на кончиках и стали похожи на бородавчатую шкуру допотопного чудовища. Но наш герой горюет недолго, смотрит вверх – там, на высоте трех метров, на березе растут большие, белесые от спорового порошка опята. Он срезает длинную лещину, очищает от тонких веточек, чтобы получилось как бы удилище, и, размахнувшись, со свистом, ловко, в несколько ударов сбивает эти высокоствольные грибы. Корзина почти полна, и можно возвращаться. Но Львов почему-то идет дальше. Прошагав с километр, он оказывается у серого бетонного забора, украшенного кое-где любовными признаниями, а также, понятно, нехорошими надписями. Некоторые секции от старости выпали из общего ряда и лежали тут же, покрытые зеленым лишаем. За оградой был старенький, заброшенный пионерский лагерь. Деревянные корпуса, похожие на бараки, выкрашенные когда-то в веселенький желтый цвет, сиротливо стояли под почерневшими, провалившимися кое-где шиферными крышами. Окна пустовали: рамы давно уже выломали для близлежащего садово-огородного строительства…»
В этом месте Кокотов кашлянул, ожидая похвалы за то, как он изящно перевел повествование из настоящего в прошедшее время, подчеркивая таким образом, что герой попал в свое прошлое. Но Жарынин ничего такого не заметил и продолжал читать:
– «…Линейка для торжественных построений отдыхающей пионерии, когда-то ухоженная, посыпанная гравием, обсаженная цветами и пузыреплодником, заросла молоденькими березками, крапивой, полынью, лиловой недотрогой… От трибуны (к ней, чеканя шаг, шли некогда председатели отрядов, чтобы звонкими голосами отдать рапорт) осталось только бетонное основание: кованые перила унесли. Металлический флагшток выржавел и покосился. Тросик, предназначенный для поднятия флага, лопнув, завился, точно усы железного хмеля.
Дальше, за линейкой, начиналась аллея пионеров-героев. От нее сохранились лишь сваренные из уголков ржавые перекошенные рамы. В одной уцелел кусок фанеры с остатком безусого лица, кажется, юного партизана Марата Казея, в неравном бою подорвавшего себя вместе с фашистами… А в самом конце аллеи, перед буйными зарослями сирени, окружавшими хоздвор, словно на страже этого затерянного пионерского мира стояли друг против друга гипсовые барабанщик и трубач». Минуточку! – очнулся Жарынин. – А вы точно знаете, что эти фигуры делались из гипса? По-моему, из алебастра…
– Исключительно из гипса! – решительно возразил Кокотов, краснея от неуверенности.
– Ну может быть… может быть… В конце концов, теперь это не важно. Меня беспокоит другое…
– Что же?
– Скажу. Потом. Кстати, сдвиг во времени вы тонко прописали.
– Вы заметили?
– Разумеется! Читайте теперь вы! У меня в горле запершило от ваших метафор. Булгаков писал проще!
– А Набоков?
– Читайте, читайте, юный набоковец!
Польщенный и обиженный одновременно, автор забрал у режиссера журнал, нашел нужное место и продолжил:
– «…Точнее сказать, когда-то они были барабанщиком и трубачом. От первого остались ноги в гетрах и половина барабана, повисшего на согнувшейся проволочной арматуре. Туловище отсутствовало. Кому оно могло понадобиться и куда его унесли? А вот трубач оказался поцелее: у него лишь откололась левая рука, но кисть, упертая в бок, сохранилась. Был также отломан мундштук горна, и выходило, что трубач дул в пространство. Остальное – и задорное курносое лицо, и гипсовый галстук, и короткие штанишки – все уцелело. Только побелка давно сошла, и горнист стал синюшного цвета, точно давний утопленник…»
– Все-таки алебастр! – вздохнул Жарынин. – Текст всегда честнее автора.
Кокотов сделал вид, что реплики не заметил.
– «…Львов поставил корзину и уселся возле постаментика. Ровно, как море, шумел лес. Колюче припекало осеннее солнце. В небе плыли крепко сбитые кучевые облака. И вдруг все его существо наполнилось той непередаваемой сладкой болью, которая охватывает нас лишь при посещении давних жизненных мест и которая, наверное, служит своеобразным, дарованным свыше наркозом, позволяющим сердцу не разорваться от сознания жестокой необратимоости времени, которое уносит все самое лучшее, самое дорогое в ледяной океан утрат…»
– Три «которых»… – ехидно подсчитал режиссер.
– Что? – не понял Кокотов, еще находясь под впечатлением метафизической мощи собственного рассказа. Его страшно ранил этот внезапный обрыв, ведь он почти вошел в ритм и даже покачивался по-восточному, в такт своей размеренной прозе.
– Слово «который» у вас в одном предложении использовано трижды!
– Ну и что! У Толстого бывало и по четыре, и по пять раз…
– А если бы Лев Николаевич убил-таки Софью Андреевну, вы бы тоже свою жену убили?
– При чем тут Софья Андреевна? – оторопел автор, с ужасом осознав: если бы великий писатель сделал это, то, возможно, и он скормил бы вероломную Веронику пираньям.
– Читайте дальше, Кьеркегор Сартрович!
Андрей Львович вытер пот, выступивший на лбу, и продолжил:
– «…Львов достал свой нехитрый завтрак, порезал соленый огурец и луковку, разъял успевший слежаться многослойный бутерброд, разбил о коленку трубача яйцо и стал жевать, подливая себе чай из термоса. В колпачок, служивший стаканом, выпал кружок измученного лимона…»
В этом месте Жарынин вдруг посмотрел на часы:
– Чуть обед тут с вами не проболтали!
– Осталось немножко! – взмолился писатель.
– На войне из-за обеда даже перестрелку прекращали. Вы знаете?
– Слышал.
– Мойте руки! Никуда ваш «Трубач» не денется. Там у вас ведь дальше про любовь?
– Про любовь, – кивнул Андрей Львович.
– А про любовь лучше на сытый желудок. Тяпнем перед обедом? У меня перцовочка. «Кристалл»!
– Я не пью, – отрезал оскорбленный Кокотов.
– Совсем?
– Во время работы.
– Напрасно. Ну, как знаете…
С этими словами Жарынин достал из холодильника бутылку и бугорчатый брусок сырокопченой колбасы. Затем он смахнул свой берет с трости, вынул ее из-за батареи и, потянув за ручку в виде серебряной пумы, извлек, словно из ножен, длинный и узкий клинок. Судя по тому, как легко и тонко режиссер порезал твердую колбасу, лезвие было очень острым. Тщательно вытерев стилет носовым платком и задвинув его в трость, мэтр взялся за бутылку, уже успевшую запотеть. Он несколько раз, точно обжигаясь холодом, перебросил ее с ладони на ладонь, затем умело и хрустко свернул винтовую пробку.
В комнате бесшабашно запахло пряной водкой.
– Ну? – Жарынин ободряюще посмотрел на соавтора.
– Н-наливайте! – махнул рукой автор «Полыньи счастья»: ему вдруг до челюстной судороги захотелось выпить.
Глава 12
Хлеб да каша – пища наша
Чтобы попасть из жилого корпуса в столовую, нужно было спуститься на первый этаж и пройти через «зимний сад» – так обитатели «Ипокренина» именовали десятиметровый застекленный переход, заставленный кадками с рослой декоративной зеленью. Гордостью этой мимоходной оранжереи был выложенный булыжником лягушатник, где вопреки названию обитала одна лишь черепаха – конечно, по имени Тортилла. По словам Жарынина, осторожная рептилия почти никогда не высовывалась из воды, делая исключение только для великой Веры Ласунской.
– Она разве жива? – удивился Кокотов.
– Можете сами ее об этом спросить!
Вторая достопримечательность «зимнего сада» – кактусы стояли в три яруса на специальном возвышении. Каких тут только не было! У одних колючки напоминали жесткий белесый ворс, другие вполне могли одолжить свои иглы дикобразу. Но цвел лишь один – плоский трехлопастный кактус, выпроставший мятый фиолетовый цветок. Кокотов залюбовался и отстал, а когда нагнал режиссера, тот уже беседовал с коренастым усачом, одетым в белый халат и обритым, как сталинский нарком. В одной руке незнакомец держал стакан компота, в другой – тарелку с пирожком.
– Аг-га, вот и мой соавтор! – воскликнул Жарынин. – Знакомьтесь: Андрей Львович Кокотов – прозаик прустовской школы!
– Владимир Борисович, – отрекомендовался обритый и, поставив тарелку на стакан, жестко пожал писателю руку. – Как зубы?
– В каком смысле?
– В прямом! Если что, заходите – подлечим! Зубы в организме человека играют такую же роль, как и сценарий в кино! Правильно?
– Не уверен… – уклончиво отозвался начинающий сценарист, нащупав языком давнюю дырку от вылетевшей пломбы.
– Правильно! – кивнул режиссер. – Ну а как там у нас на Курской дуге?
– Плохо, – помрачнел Владимир Борисович.
– А что случилось?
– Да понимаешь, Антоныч, какое дело… Сел я на «лавочку», взлетел с фелда, иду себе тихонечко над Понырями… А тут, откуда ни возьмись, сверху – «фока»: как даст мне в двигло! Я с ним еле-еле встречными разошелся. Весь такой – дымлю и колбасит во флаттере. А он, гад, ко мне на шесть садится и шмаляет со всех стволов! Я уже едва маневрирую. С трудом бочку ему размазанную забацал… Он соскочил. Я нырк под него – и в сторону…
Владимир Борисович говорил все это страстно, с пацанским азартом, задыхаясь от страсти, жестикулируя так, что компот расплескивался через край, а пирожок прыгал на тарелочке как живой. Казалось, он и сам только что вырвался из-под Курска, минуту назад снял шлемофон и отстегнул планшет. Слушая этот непонятный, бредовый рапорт, Кокотов опустил глаза и с удивлением обнаружил, что из-под белого халата виднеются хромовые гармошчатые сапоги, а в них заправлены галифе с широкими красными лампасами.
– Значит, все-таки ушел? – обрадовался Жарынин.
– Если бы! Я сначала и сам так думал. А тут как начали «зены» дубасить – всандалили мне опять в двигло… Я только успел на бейл нажать. Ну и всё – блэк аут. Вот так, Дмитрий Антонович, мне «фока» над Понырями «пэка» и прописала…
– Что прописала? – не понял писатель.
– Pilot kill! – пояснил Владимир Борисович и посмотрел на него, как на младенца, не сознающего назначение материнской груди.
– Ну ничего! В другом бою отомстишь! – приободрил Жарынин.
– Дай-то бог! – молвил убитый пилот и, сгорбившись под тяжестью оперативной обстановки, сложившейся в небе над Курской дугой, побрел по оранжерейному переходу меж домашних пальм.
– Он кто? – глядя ему вслед, спросил Кокотов.
– Местный стоматолог. Кстати, хороший.
– А почему с лампасами?
– Казак. Есаул, кажется…
– Ясно. А «фоки» и «зены»?
– «Фоки» – это фоккеры. «Зены» – зенитки. А сам он – вирпил.
– Кто-о?
– Виртуальный пилот. «Ил-2. Штурмовик».
– А что это?
– Компьютерная игра. Неужели не слышали?
– Не-ет!
– Господи, как же ленивы и нелюбопытны русские писатели!
…Столовая дома ветеранов размещалась в обширном зале с обязательным для подобных учреждений мозаичным панно во всю стену. В нашем случае монументалист изобразил вихрь, который подхватил и понес вдаль разнообразные предметы творческой деятельности, как то: кисти, карандаши, тюбики краски, рулоны кинопленки, театральные маски, исписанные листки бумаги, книги, гусиные перья, циркули, наугольники, разнообразные музыкальные инструменты вроде скрипок и кларнетов, окруженные, как назойливыми насекомыми, черненькими хвостатыми нотами… Однако весь этот творческий ураган стремился не в какую-то безыдейную даль, а туда, где занималась алая жизнеутверждающая заря, а значит, созидалось панно во времена коммунистической деспотии, изнурявшей крепостную художественную интеллигенцию непосильной идеологической барщиной. Однако и «крепостные» были себе на уме: за мусикическим ураганом из угла наблюдал лукавый глаз, заключенный в треугольник.
– «Пылесос», – пояснил Жарынин, указав на панно. – Миша Гузкин намастрячил. Охраняется государством.
– Угу, – понимающе кивнул Кокотов.
В зале стоял тот особый столовский запах, который можно сравнить с пищевой симфонией, где есть главная тема (сегодня это были, несомненно, щи), но при этом имеется множество иных мотивов и вариаций. Так, с раздачи тянуло еще жареной курицей, подгоревшей творожной запеканкой, ванильной подливкой… Доносился и тяжкий дух застарелой кухонной неопрятности. Обычно над такими цехами общественного питания висит неумолкающий гул голосов, звон тарелок, стук и скрежет торопливых ложек. Однако тут питались старые люди, и поэтому было почти тихо. Ветхие, погруженные в предсмертную полудрему, они даже насыщались негромко, точно во сне. Впрочем, несколько еще бодрых ветеранов с живым интересом вскинулись на вошедших новичков и зашелестели, обмениваясь впечатлениями.
Кокотов успел заметить, что некоторые из ипокренинцев были одеты неряшливо: в какие-то залоснившиеся халаты, вязаные кофты, блузы… Другие же, напротив, нарядились с отчаянным нафталинным щегольством и музейной изысканностью. Андрею Львовичу бросилась в глаза изящно высохшая старуха в кремовом платье и белоснежном тюрбане. Она сидела за столом в одиночестве, высоко подняв голову, аристократично выпрямив спину, и подносила ко рту ложку плавными королевскими движениями.
– Ласунская, – шепнул Жарынин, перехватив взгляд соавтора.
– Боже мой! Она!
А навстречу им уже спешила, по-утиному переваливаясь, сестра-хозяйка, низенькая и очень толстая женщина в белом накрахмаленном халате. Ее улыбчивое румяное лицо покоилось на пьедестале из трех подбородков.
– Ах, Дмитрий Антонович! – воскликнула она. – Давненько вы у нас не были! Куда же мне вас посадить?
– Полностью доверяюсь вам, Евгения Ивановна! – сказал Жарынин с чуть внятной обольстительностью.
– Вам ведь там, где потише, и чтоб не приставали? – спросила она, принимая игру и кокетливо закатывая глаза.
– Вы же понимаете… Заговорят насмерть!
– Я вас всегда понимаю, Дмитрий Антонович! – уже почти призывно засмеялась Евгения Ивановна.
– Какая редкость – женское понимание! – тяжко вздохнул режиссер.
Вникая в разговор, Кокотов внезапно озадачился: а что, собственно, Жарынин будет делать с этим женским шаром, если флирт дойдет до своего естественного финала?
– А вон столик у колонны! Как для вас держала! Там сейчас Ян Казимирович. Он, конечно, не молчун, но меру знает!
– А кто еще там сидит?
– Жуков-Хаит. Но он сейчас Жуков и почти не разговаривает.
– И это все?
– Нет, там еще сидел Меделянский с новой женой. Совсем молоденькая! Но сейчас он в Брюсселе – судится за Змеюрика. Обещал, если выиграет, всех неделю поить шампанским! – восторженно сообщила Евгения Ивановна.
– Сомневаюсь, – хмыкнул Кокотов, зная легендарную скупость Гелия Захаровича.
– Кстати, совсем забыл! – воскликнул Жарынин. – Это мой соавтор – Андрей Львович Кокотов. Автор знаменитого романа «Полынья счастья»!
– Ой, а я читала! – по-девчоночьи зарделась сестра-хозяйка, причем покраснели только складки шеи, а густо напудренное лицо осталось белым. – Но ведь это, кажется, иностранная женщина написала?
– Совершенно верно: Аннабель Ли. У вас прекрасная память!
– Да, точно – Аннабель. Фамилию я не запомнила – очень короткая… А как же это так получается?
– Ах, бросьте, Евгения Ивановна, если вы завтра подпишете меню «Евгений Иванович», вы же от этого мужчиной не станете!
– Не стану… – согласилась она, с недоумением глядя на Кокотова. – Ну надо же!
– Только ни-ни, никому! – предупредил режиссер, приложив палец к губам. – Художественно-коммерческий секрет!
– Ну что вы! Я же понимаю! – посерьезнела сестра-хозяйка, и ее глаза блеснули тайной.
– Значит, у колонны? – переспросил Жарынин.
– У колонны! – подтвердила она, и это прозвучало как отзыв на пароль.
Соавторы двинулись через зал. Старики и старухи замирали с ложками в трясущихся руках и провожали их слезящимися любопытными глазами. Многие узнавали режиссера и радостно кивали или махали сморщенными ладошками, он же в ответ дружественно раскланивался, точно эстрадная звезда, уловившая в зрительном зале знакомое лицо. Кокотов, все еще чувствуя спиной изумленный взгляд Евгении Ивановны, прошипел, не разжимая губ, как чревовещатель:
– Что вы себе позволяете?! Кто вас просил?!
– Вы о чем?
– О прустовской школе и «Полынье счастья»! Я вообще не афиширую эту сторону моей творческой жизни!
– Да ладно… Что вам, жалко? Зато у бедной Евгении Ивановны теперь есть тайна. Представляете, как нужна тайна женщине с такими формами?
– Представляю…
– А вон, видите старика? Вон – залез пальцами в компот! Проценко. Лучший Отелло соцреализма. Любимец Сталина, Хрущева и Брежнева. Друг самого Оливье!
– Да что вы? Тот самый?
– Именно! А вон там, у панно, руками машет? Савелий Степанович Ящик – знаменитый выездной директор ансамбля «Рябинка». – Андрей Львович узнал старичка в тройке и тапочках, встреченного у входа.
– Что значит – выездной?
– То и значит. – Жарынин приложил к плечу три пальца. – Когда в Париже в семьдесят девятом сразу четыре солистки, отлучившись в туалет, попросили политического убежища, старый чекист сначала хотел застрелиться, но потом просто перебрался сюда. А рядом – легенда советского цирка Злата Воскобойникова. Помните сестер Воскобойниковых? Девушки без костей! Спешите: только сегодня пролетом в Токио. Злата – младшенькая. Невеста Ящика.
– Невеста! Ящика? – изумился автор «Полыньи счастья».
– Да. Здесь и такое бывает… А вон, взгляните, старушка в кимоно. Спит. Народная артистка Саблезубова. Говорят, была любовницей самого Берии. Не завидую я Лаврентию Павловичу. А дальше, под пальмой, – внебрачная сноха Блока. Та еще штучка! Вы читали ее мемуары «Трепет незабываемого»?
– Кажется, да… – смутился Кокотов: из этих лихих воспоминаний он позаимствовал для «Лабиринтов страсти» скрупулезное описание артистических свальных оргий.
– С ней за столом – комсомольский поэт Верлен Бездынько, любимый ученик Асеева и Хаита. Помните:
Она сняла гимнастерку.А я отстегнул парабеллум.Она закурила махорку.А я накрыл ее телом.– Верлен? Странное имя…
– Нормальное революционное имя. Верный ленинец. Сокращенно – Вер-лен. Это еще что! У нас в кинофонде служил бухгалтер Тромарлен Самуилович.
– Не может быть!
– Точно! Троцкий-Маркс-Ленин. Он это тщательно скрывал, и никто не догадывался, думали – редкое еврейское имя. Но меня-то не проведешь. Тромарлен мне всегда самые большие командировочные выписывал – за молчание…
– Я не об этом.
– А о чем?
– Я про Ласунскую. – Кокотов снова посмотрел на старуху в тюрбане.
– Да, мой друг, самая красивая женщина советского кино. «Норма жизни»! Стеша Колоскова. Из-за любви к ней застрелился генерал Битюков.
– Боже, Вера Ласунская! – ахнул Кокотов. – А ведь какая была!..
– А что ж вы хотите?! Старость, как справедливо заметил Сен-Жон Перс, – это сарказм Бога.
– Но ведь ей сейчас…
– Ну и что? К столетию Пушкина в степях отыскали ту самую калмычку… Помните, «Прощай, любезная калмычка…»?
– Шутите?
– Факт. Почитайте Бартенева!
– Да я вроде читал…
– Вроде – у Мавроди!
Соавторы подошли к четырехместному столу у колонны. Там сидел миниатюрный старичок, похожий на внезапно состарившегося подростка. В отличие от своих соратников по закату жизни одет он был вполне современно: клетчатый пиджак модной расцветки, сорочка с высоким воротником, вишневый шейный платок… Однако при внимательном взгляде становилось ясно, что пиджаку с пуговицами, обтянутыми вытершимся бархатом, по крайней мере полвека. Просто мода, как известно, ходит по кругу, подобно ослу, привязанному к колышку.
Ел старичок не казенной алюминиевой, а своей собственной ложкой – массивной, серебряной, с кудрявой монограммой на ручке. Рядом лежал сафьяновый футляр-складень, из отделений которого торчали еще вилка и нож.
– А мы к вам! – радостно сообщил Жарынин. – Примете?
– Конечно! – ответил старичок, звонко чеканя «ч». – Счастлив видеть! Милости прошу, Дмитрий Антонович!
Голос у него оказался тоже какой-то полувзрослый.
– Разрешите представить вам моего друга и соавтора: Андрей Львович Кокотов, прозаик прустовской школы! – со сладкой издевкой сообщил режиссер.
У прозаика от обиды во рту возник медный привкус.
– Пруста, к сожалению, не застал. А вот с Кокто встречался… – Старичок, наслаждаясь созвучием имен, лукаво глянул на Кокотова. – Позвольте отрекомендоваться: Ян Казимирович Болтянский.
– Ну что ж вы так скромно, Ян Казимирович? – попенял Жарынин. – Народ должен знать своих героев. Знакомьтесь, коллега: перед вами легендарный Иван Болт – любимый фельетонист Сталина. Мог снять с работы любого наркома с помощью одной публикации в «Правде». Как говорится, утром – в газете, вечером – в решетчатой карете…
– Вы преувеличиваете! – зарделся польщенный ветеран острого пера.
– Ну как же, как же… – вполне искренне отозвался Андрей Львович, вспомнив, как покойная Светлана Егоровна, достав из почтового ящика свежую «Правду», первым делом искала новый фельетон знаменитого Болта.
– Как вам мой платок? – поинтересовался старичок, вытянув шею, чтобы лучше было видно.
– Париж? – уточнил режиссер.
– Да, Галерея Лафайет. Вы, Дмитрий Антонович, знаете толк в дорогих вещах! Это мне правнучек подарил. Кеша. Он скоро сюда приедет. Ну что ж вы стоите? Присаживайтесь!
– Спасибо! – Кокотов взялся за стул.
– Нет-нет! – забеспокоился старичок. – Сюда нельзя. Здесь сидит Жуков-Хаит. К тому же он теперь Жуков – поэтому лучше сюда.
Наконец соавторы расселись. Жарынин в ожидании официантки взял кусочек черного хлеба, намазал горчицей и посолил. Писатель, которому после перцовки страшно хотелось есть, сделал то же самое. Ветеран подвинул к ним банку из-под китайского чая с каким-то зеленым порошком: