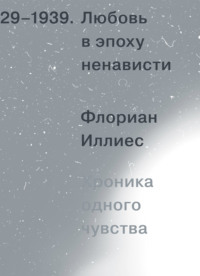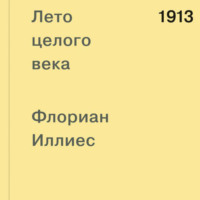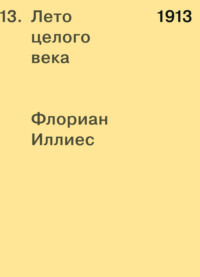Полная версия
1913. Что я на самом деле хотел сказать

Флориан Иллиес
1913. Что я на самом деле хотел сказать
Florian Illies
1913. Was ich unbedingt noch erzählen wollte
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2018
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2020
© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС»/IRIS Foundation, 2020
* * *Зима 1913 года
Максим Горький на Капри обгорает на солнце. Пантера Петер охотится на тигра Теобальда. Герман Гессе горюет без зубного врача, а Пуччини не желает участвовать в дуэли. На небе появляется новая комета, а Распутин сводит с ума русских женщин. Марсель Пруст никак не может найти издателя для своей книги «В поисках утраченного времени». Доктор медицинских наук Артур Шницлер занимается своим самым сложным пациентом – современностью. Огнеглотатель из Панкова (Берлин) становится королем Албании. Всего на пять дней. Но всё-таки королем.

Генрих Кюн. Четверо детей Кюна, 1912/13 (Австрийская национальная библиотека, Венский фотоархив)
Январь
Этой новогодней ночью, между 31 декабря 1912 года и 1 января 1913-го, началась наша эпоха. Погода была не по-зимнему теплой. Это мы знаем. Но пока только это и ничего больше. Добро пожаловать.
Тот вечер 31 декабря в Кёльне затянулся, а на улице моросит дождь. Рудольф Штайнер вошел в раж, он выступает в Кёльне уже четыре вечера подряд, восхищенные слушатели ловят каждое его слово, вот он берется за чашку с жасминовым чаем и делает глоток, и в этот момент колокол бьет двенадцать раз, и с улицы доносятся ликующие крики; Рудольф Штайнер продолжает свое выступление и объявляет, что только йога способна утихомирить взбудораженную Германию. «С помощью йоги душа освобождается от внешней оболочки, она преодолевает эту оболочку». В общем, идите и облачитесь в молчание. С Новым годом.
Пикассо и его собака смотрят друг на друга: Эрика, странная помесь бретонского спаниеля и немецкой овчарки, не любит, когда он собирает чемодан, она визжит и напрашивается в спутники. Неважно куда. Поэтому Пикассо хватает ее за поводок, зовет Еву, свою новую возлюбленную, и они втроем отправляются в Париж, чтобы пересесть там на поезд до Барселоны. Пикассо хочет представить новую любовь своему старому отцу (не пройдет и года, как и отца, и собаки, и Евы уже не будет в живых, но сейчас не об этом).
Герман Гессе и его жена Миа хотят попытаться еще раз. Они сдали теще писателя своих детей Бруно, Хайнера и Мартина и уехали в Гриндельвальд, место в горах, недалеко от их нового дома под Берном, в маленькую гостиницу «Zur Post», которая в это время года уже в три часа пополудни скрывается в тени могучего северного склона горы Эйгер. Тут, в тени, Гессе с женой надеются найти свет своей любви. Они потеряли ее, как другие теряют трость или шляпу. Но моросит дождь. Не пылит дорога, не дрожат листы, подождите немного, – говорит хозяин гостиницы, – скоро дождь станет снегом.

Станислав Виткаций фотографирует удивительно красивую Ядвигу Янчевскую. Но она уже обзавелась револьвером
Они берут напрокат лыжи. Но по-прежнему моросит дождь. Новогодний вечер в гостинице получается долгим, мучительным и молчаливым, только вино оказалось хорошим, и на том спасибо. И вот, наконец, двенадцать часов. Они устало чокаются. Уходят в свой номер. Когда наутро они раздвигают тяжелые гардины и выглядывают наружу, за окном по-прежнему идет дождь. И после завтрака Герман Гессе сдает обратно так и не пригодившиеся лыжи.
В это же время Рильке пишет из Ронды поистине трогательные слова всё еще бодрому Родену.
Гуго фон Гофмансталь 31 декабря в скверном настроении гуляет по улицам Вены. Последние шаги по старому году. Иней укутал ветви деревьев вдоль аллеи, и на швах между кирпичами стен тоже виднеются белые кристаллы. Темный холод медленно опускается на город. Вернувшись в свою квартиру, он протирает запотевшие очки платком с изящной витиеватой монограммой. Проводит всё еще холодной рукой по комоду, на который обычно кладет ключ. Наследство. Затем трогает великолепное зеркало, висевшее когда-то в доме предков. Садится за роскошный письменный стол ручной работы и пишет: «Иногда мне кажется, что нам, поздним детям, отцы и деды оставили в наследство только две вещи: красивую мебель и оголенные нервы. Нам не досталось ничего, кроме зябкой жизни и пустой, унылой действительности. Мы смотрим на нашу жизнь со стороны; мы торопимся опустошить бокал, но всё равно мучаемся жаждой». Потом он зовет слугу. Просит принести первую рюмку коньяку. Впрочем, он давно понял, что и это не спасает от меланхолии, которая лежит на его усталых веках. От нее никуда не деться: Гофмансталь видит гибель там, где другие лишь предчувствуют ее, он знает конец, который для других пока только игра. И вот он пишет своему другу Эберхарду фон Боденхаузену, благодарит за привет из «огромной, неспокойной, хмурой и замученной Германии», а потом признается: «Я так странно себя ощущаю все эти дни, в этой растерянной, немного испуганной Австрии, в этой падчерице истории, так странно, одиноко, хлопотно». Иными словами, никто его тут не слушает.
Гофмансталь стал легендой еще в юности, Европа млела от его стихов; Штефан Георге, Георг Брандес, Рудольф Борхардт, Артур Шницлер – всех очаровал этот гений. Но Гуго фон Гофмансталю было нелегко нести ношу ранней зрелости, он почти перестал публиковаться, а теперь, в 1913 году, его почти забыли, он оказался реликтом старых времен, «прежнего мира», он пропал вместе с тем обществом, в котором был вундеркиндом. Он оказался последним писателем старой Австрии, той Вены, где в январе 1913 года пошел уже немыслимый шестьдесят пятый год правления императора Франца Иосифа I. Он был коронован еще в 1848 году и носит корону до сих пор, будто в этом нет абсолютно ничего особенного. Но именно при этом увядающем правителе, пришедшем из глубин XIX века, власть в Вене захватил модернизм. Вождями революции были Роберт Музиль, Людвиг Витгенштейн, Зигмунд Фрейд, Стефан Цвейг, Арнольд Шёнберг, Альбан Берг, Эгон Шиле, Оскар Кокошка и Георг Тракль. Те люди, что перевернули мир своими словами, звуками и картинами.
Вот массажистка, наконец, ушла, и Гедвиг Прингсгейм, великосветская теща Томаса Манна, отправляется со своей виллы на Аркисштрассе, 12 в Мюнхене на новогодний ужин «У Томми» (это не ресторан в Нью-Йорке, это она так патриархально называет семью своей дочери Кати, в замужестве Манн, которая живет на Мауэркирхерштрассе, 13). Но когда она садится на диван в квартире Маннов, ее спину снова пронзает боль – проклятый ишиас. Доброму Томми нужно на следующий день ехать в Берлин (о чем он потом горько пожалеет), и этот старый зануда в одиннадцать часов резко завершает новогодний вечер: «Вы же знаете, мне завтра рано вставать». Но и до этого момента ужин был, по словам тещи, «не особенно душевным». На обратном пути, в громыхающем трамвае она слышит, как часы на Одеонсплац бьют двенадцать раз. Спина болит, а муж, профессор математики Альфред Прингсгейм, сидит рядом с ней и пишет какие-то расчеты со сложными простыми числами. Как неромантично. А на соседней улице этой ночью сидит Карл Валентин и пишет Лизль Карлштадт: «Пусть нас никогда не оставят здоровье и наш чудесный юмор, будь молодцом, моя милая Лизочка». Как романтично.
Да, точно, это та самая ночь, когда Луи Армстронг в далеком Новом Орлеане начал играть на трубе. А в Праге Кафка сидит у открытого окна и пишет Фелиции Бауэр, Иммануэлькирхштрассе, 4, Берлин – пишет сентиментально, красиво и странно.
Великий венгерский романист, фрейдист, морфинист и эротоман Геза Чат сидит этой ночью в своем маленьком врачебном кабинете, в санатории крошечного курорта Штубня, на самой дальней окраине огромной габсбургской империи. Он решает еще немного почитать воспоминания Казановы, потом закуривает сигару «Луксор», впрыскивает себе еще 0,002 грамма морфия и подводит успешные итоги года: «коитус 360–380 раз». Казалось бы, куда уж конкретнее? Но вот, пожалуйста: Чат ведет подробный учет отношений со своей возлюбленной Ольгой Йонаш, который в своей точности уступает, пожалуй, только подобной ведомости Роберта Музиля: «424 коитуса за 345 дней, то есть 1,268 коитуса в день». И раз уж Геза взялся подсчитывать: «Потребление морфия: 170 сантиграммов, то есть 0,056 грамма в день». «Годовой баланс» продолжается: «Доход 7390 крон. Имел 10 женщин, из них 2 девственницы. Вышла моя книга о психических заболеваниях». А что ждет его в 1913 году? План ясен: «Коитус раз в два дня. Сделать зубы. Новый пиджак». Ну что ж, вперед.
В 1913 году все новое. Везде начинают выходить журналы, объявляющие о начале новой эпохи. Максимилиан Гарден еще с 1892 года говорил о будущем в своем журнале «Die Zukunft», но вот уже следующее поколение захватило современность. Готфрид Бенн, молодой врач из больницы берлинского района Вестэнд, предлагает свои новые стихи и журналу Пауля Цеха «Новый пафос», и «Новому искусству» Генриха Бахмайра. Он пока упускает из виду появившееся в том же 1913 году издание «Начало». Зато в «Начале», в первом номере, на первой странице, выходит текст молодого Вальтера Беньямина. Какой символичный старт, и какой символичный финал «Берлинского детства на рубеже веков».
Марсель Пруст наконец закончил первую часть «В поисках утраченного времени». Всё готово. В итоге это семьсот двенадцать страниц мелким почерком. Он отправляет толстую папку с рукописью в парижское издательство «Fasquelle», потом в издательство «Ollendorff», потом в «Gallimard». Все отказываются. В «Gallimard» отказал лично главный редактор, писатель Андре Жид, гордящийся тем, что недавно в Марокко с помощью Оскара Уайльда приобщился к радостям однополой любви. Он прервал чтение рукописи Пруста примерно на семидесятой странице, обнаружив в описании прически синтаксическую неточность, которая его взбесила. Андре Жид так же легко возбудим, как и Марсель Пруст. И вообще у Жида сложилось впечатление, что этот автор – какой-то подозрительный. Позднее, сам уже почти лишившись волос, Андре Жид назовет конфуз с неправильной прической самой большой ошибкой в своей жизни. Но пока что Марсель Пруст в отчаянии. «Теперь книге нужна, – пишет он, – такая могила, которая будет вырыта раньше, чем я лягу в свою».
Утром 1 января, а если точнее, то в 8:30, император Вильгельм II и его супруга Августа Виктория садятся у Нового дворца в Потсдаме в автомобиль, чтобы отправиться в официальную резиденцию монарха, в Берлинский городской дворец. Они добираются до места без особых происшествий. Доброе предзнаменование?
Во второй половине дня 1 января в Калифорнии произошло землетрясение. Эпицентр находился в той самой долине, которая станет потом Кремниевой и будет править миром. Несмотря на землетрясение, 1 января в Америке была отправлена первая почтовая посылка. Спустя несколько дней Франц Кафка, запутавшийся и растерянный, прекращает работу над своим романом «Америка».
Второго января председатель венгерского парламента граф Иштван Тиса и лидер оппозиции Михай Каройи, граф Надькаройи, продемонстрировали своим наивным буржуазным коллегам, как разумнее всего решать политические вопросы: на дуэли. В утренних сумерках 2 января они дерутся на саблях. Оба получают легкие ранения. И уже на следующий день продолжают парламентскую работу. Графу Каройи вскоре приходится срочно жениться, потому что из-за проигрышей в карты у него накопились немыслимые долги – 12 миллионов крон. А граф Тиса 10 июня вернется на пост главы венгерского правительства. Но это не помешает ему 20 августа снова драться на дуэли, на этот раз с депутатом от оппозиции Дьёрдем Паллавичини, который обвинил Тису в давлении на свидетелей в процессе об оскорблении чести.
На этот раз дуэлянты тоже ранили друг друга. Когда после бесчисленных перипетий мировой войны в октябре 1918 года Тису застрелили повстанцы, он успел сказать слова, которые могут претендовать на звание золотых: «Это было неизбежно».
Неизбежно? Нет. Второго января Джакомо Пуччини в своем тосканском поместье получает вызов на дуэль. Мюнхенский барон Арнольд фон Штенгель не желает более терпеть роман Пуччини с его женой Йозефиной. Но Пуччини любит стрелять по уткам и кабанам, а не по людям. Он просит передать барону, что на дуэль у него сейчас, к сожалению, нет времени.
На следующий день Артур Шницлер отправляет из Вены в Копенгаген, кинокомпании «Нордиск», адаптацию своей пьесы «Игра в любовь» для экрана. В ней влюбленному лейтенанту Фрицу приходится участвовать в дуэли из-за давнишнего романа с замужней женщиной. Муж-рогоносец больше не любит свою жену, но на кону его честь. Фриц погибает. Честь спасена. Но в ней нет никакого смысла. Такой диагноз ставит доктор Артур Шницлер своему самому трудному пациенту – современности.
Третьего января заканчивается эра немого кино. Этим вечером Томас Эдисон устраивает первую демонстрацию «кинетофона» в своей мастерской в Вест-Оранже (Нью-Джерси). Впервые можно передавать одновременно изображение и звук. Процесс пошел.
Четвертого января умирает Альфред фон Шлиффен, глава генерального штаба немецкой армии. На протяжении всей своей жизни он планировал войны. Был крупнейшим стратегом своего времени. Разработал тот самый «План оперативного развертывания I», превентивный удар по заклятому врагу, знаменитый «план Шлиффена», с помощью которого немецкая армия разгромила Францию. Но вот он умер. Всё будет хорошо?
Эрнст Цермело в январе 1913 года на съезде международного математического общества впервые формулирует теорию игр – с примером из шахмат. «В конечных играх с нулевой суммой[1] для двух игроков (например, в шахматах) либо существует доминантная стратегия для одного из игроков, который может выиграть независимо от стратегии второго, либо такой стратегии нет». Потрясающая фраза. Хорошо, что Шлиффен, великий стратег доминирования, только что умер. И что это такое – игра с нулевой суммой для двух игроков, кроме шахмат? Дуэль? А любовь?
Молодой венгерской танцовщице Ромоле де Пульски двадцать три года, у нее очень светлые волосы, она очень красива, у нее светлая кожа и голубые глаза оттенка севрского фарфора. Этой зимой в Будапеште она увлеклась «Русским балетом» Дягилева, особенно великим двадцатичетырехлетним Нижинским в его эпохальной роли в «Послеполуденном отдыхе фавна». Когда труппа знаменитого импресарио Дягилева отправилась из Будапешта в Вену, она просто поехала с ними. Ромола сразу поняла, что ее очень интересует русский балет вообще и Нижинский в особенности. В Вене она под каким-то предлогом добилась встречи с Дягилевым, в пустом зале гостиницы «Бристоль». Она делала вид, что хочет устроиться в балет. Но на самом деле она хотела получить роль партнерши Нижинского. Дягилев сразу почуял неладное, он оберегал своего экзотического любовника, хотя и чувствовал себя в безопасности из-за его гомосексуальности; он полагал, что они с Нижинским – настоящая игра с нулевой суммой для двух игроков. Несмотря на подозрения Дягилева, Ромоле де Пульски быстро удалось стать официальным членом труппы – она задействовала все свои связи. Одним из этапов турне был Лондон. Вечерами танцоры выступают в «Ковент Гарден» с «Петрушкой» и «Послеполуденным отдыхом фавна», а по утрам готовят настоящую революцию. Они репетируют архаичный, доисторический сюжет Стравинского – «Весну священную», для которой Нижинский пытается создать хореографию под звуки холодного дождя в январском Лондоне. И каждый день терпит неудачу. Непонятно, где у Стравинского заканчивается одна фаза и начинается следующая – настолько изломанная и переплетенная музыка. Нижинский уже готов капитулировать перед гениальностью Стравинского. Раз за разом он прерывает репетиции и впадает в истерику. Ромола де Пульски заботливо накидывает ему на плечи теплый плед, чтобы он не простудился.
Эгон Шиле не может отвести от нее глаз. Он снова и снова пишет Валли, полностью обнаженную или хотя бы с открытыми гениталиями. Но ее глаза неизменно остаются безучастными, такими бесстыдно современными. Вечером 8 января Эгон Шиле опять сидит в своей мастерской на Хитцингер Хауптштрассе, 101, в Вене, там у него всегда сидели две или три натурщицы, которые старались забыть о своих проблемах, потягивались, поправляли одежду, Шиле не уделял им особого внимания, а сам сидел у мольберта, как затаившийся тигр, готовый к прыжку всегда, когда чуял интересный мотив. И вдруг он кричал «стоп!» в большой и натопленной комнате, и натурщица должна была застыть, а он рисовал ее быстрыми штрихами. Когда было нужно, он макал кисть в акварельные краски, добавлял немного красного, немного синего. У Валли он любил писать подвязку чулок, губы, пах – тем же безумным светящимся оттенком оранжевого, которым он иногда писал ее волосы. Этот резкий, светлый красноватый оттенок напоминает кровь. В этот день, 8 января 1913 года, Шиле снова не сводит глаз с Валли Нойциль, он так увлечен ею, что заставляет ее (или она сама себя заставляет) написать собственную декларацию о независимости. И вот она, полуобнаженная, склоняется над Эгоном Шиле и записывает в его священном этюднике такую фразу: «Настоящим подтверждаю, что я не влюблена ни в кого на свете. Валли». И он, испытывающий тяжкое облегчение, не понимает, рисовать ее теперь или любить.
В городе Уинстон-Сейлем, Северная Каролина, создана торговая марка «Кэмел». Это первая марка сигарет, которые выпускаются в пачках по двадцать штук. То есть в 1913 году для табачной промышленности начался XX век. А вот на логотипе сигарет «Кэмел» с 1913 года фигурирует, к сожалению, вовсе не верблюд, как можно было бы подумать, а дромадер, конкретно – Старый Джо из цирка Барнума и Бэйли. Барнум и Бэйли в январе 1913 года гастролировали в Уинстоне, а Ричард Джошуа Рейнольдс, вместо того чтобы придумывать логотип, пошел с детьми в цирк. А вечером на его холсте дромадер превратился в «Верблюда». Секретный вклад детей в мировую историю дизайна, часть первая.
А кто же те две девочки, что изображены на седьмой странице этой книги? Которые с таким любопытством, так смело смотрят на мир, но при этом как будто предчувствуют то, что их ждет? «И расцвести перед гибелью», пишет Готфрид Бенн как раз в те дни, когда была снята эта фотография. На ней Лотта и Эдельтруда, дочери фотографа Генриха Кюна, который запечатлел их в 1913 году в цвете на «автохроме» собственного изобретения. «Запечатлел», какое хорошее старомодное слово. В случае Кюна оно хорошо подходит, он много экспериментировал – с камерой, с отпечатками, и одним из первых получил цветные световые отпечатки. Это были фотографии мягкие, но не слащавые, как он сам говорил. Как кадры из «Бабьего лета» Адальберта Штифтера. Он раз за разом ставил своих детей перед камерой в красной, синей и бирюзовой одежде, как маленький актерский ансамбль.
И это была революция, которую совершил фотомастер (еще одно прекрасное старомодное слово!) Кюн на склонах, окружавших его дом под Инсбруком, на Рихард-Вагнер-штрассе, 6, потому что он впервые совместил фотографический взгляд на мир с естественным человеческим восприятием этого мира. Ведь никто не видит мир черно-белым – но в 1913 году все были вынуждены мириться с черно-белой фотографией, с портретами, фотографиями в газетах, репродукциями картин, кинофильмами. Лотта, родившаяся в 1904 году, и Эдельтруда, родившаяся в 1897-м, не знали, что были знаменосцами этой маленькой революции в ментальной истории человечества (секретный вклад детей в мировую историю фотографии, часть первая). Они были просто детьми. Они просто гуляли под гигантским каштаном в саду, карабкались по лугам на склонах, смотрели через забор вниз, на широкую долину. Они играли с няней Мэри Варнер, которая появилась у них после смерти мамы, и в какой-то момент заметили, что отец начал фотографировать няню так же часто, как их самих. И они почувствовали, что это любовь. Это хороший жизненный опыт. Кстати, в книге «1913. Лето целого века» упоминается та самая Мэри Варнер, которая бегает с той же самой Эдельтрудой по цветущим лугам Тироля, в то время как над ними сгущаются тучи будущего. «Стоял прекрасный августовский день 1913 года», когда был сделан тот снимок. Именно этой фразой начинается эпохальный роман Роберта Музиля «Человек без свойств». Это тот литературный 1913 год, в котором заканчивается «Волшебная гора» Томаса Манна, и это реальный 1913 год, когда он начал писать ее. Получается, что разноцветная «волшебная гора» искусства фотографии, со склонами из тоски и меланхолии, находилась тоже в Альпах, недалеко от Давоса.
В январе Зигмунд Фрейд размышляет в Вене об «Отцеубийстве». В январе же великий польский авангардист Станислав Виткевич – младший заявляет, что берет себе новое имя – Виткаций, в знак протеста против своего отца Станислава Виткевича – старшего. Но без особых последствий. Он по-прежнему живет у папы, в популярном у польских интеллектуалов городке Закопане у подножия Высоких Татр, мало того, в городе полностью доминируют постройки его отца, знаменитого архитектора. Это такой польский Давос, и сюда отовсюду съезжаются легочные больные, настоящие и мнимые. Стиль домов представляет собой смесь альпийской хижины и модерна, но в эти зимние дни дома трудно разглядеть под метровым слоем снега на крышах. Снег валит крупными хлопьями, как будто собираясь укутать весь мир молчанием. Виткаций экспериментирует с фотоаппаратом и создает потрясающие серии портретов Артура Рубинштейна, когда великий пианист в январе приезжает к нему в Закопане. Снега на дворе так много, что они целыми днями не могут выйти за дверь. И вот Виткаций непрерывно фотографирует себя и Рубинштейна. Потом Рубинштейн скажет, что Виткаций – неудержимый меланхолик, страстный поклонник Ницше, вкрадчивый Мефистофель. Его главное произведение будет называться «Ненасытность». Подходящее название. Но сейчас, зимой 1913 года, у него снова кризис, Рубинштейну лишь ненадолго удается вытащить его из депрессии. Когда он играет на фортепиано, то всё вдруг кажется таким мирным и спокойным. Виткаций зачарованно стоит в дверях и вслушивается. Эти звуки. Эти пальцы. На дворе снег. И еще эта молодая особа, приехавшая на зиму в дом Виткевича, чтобы подлечить тут, в высоких горах, свой легочный недуг. Но ей самой приходится стать лекарством: Станислав «Виткаций» Виткевич рисует и фотографирует удивительно красивую Ядвигу Янчевскую. Потом он в нее влюбляется. Потом он обручается с ней. Она должна, убежден Виткевич, спасти его пропащую жизнь. Выходит, к сожалению, не очень. Через несколько месяцев она застрелится на склоне горы под Закопане из револьвера – не преминув, в духе самого оголтелого модернизма, поставить на месте будущей смерти роскошный букет цветов. В вазе! Чтобы цветы прожили дольше ее. Вот вам эрос и танатос, с сопроводительной табличкой. Эпоха романтизма заканчивается, по крайней мере в Польше, только в 1913 году.
Восьмого января Юлиус Мейер-Грефе, лучший автор книг об искусстве своего времени и главный пропагандист французского импрессионизма (обе превосходных степени тут совершенно уместны), выступает в новых помещениях галереи Кассирера на Викторияштрассе, 35 в Берлине с лекцией «Куда мы катимся?» (по его мнению, в пропасть). Народу набилось битком, однако, по мнению докладчика, «понимания было ноль». Пауль Кассирер и его жена Тилла Дюрье предлагают Мейер-Грефе поужинать после лекции, но тот отказывается: «Эта славная Дюрье начала шипеть из-за того, что я не пошел с ними в „Эспланаду“». Славная Дюрье действительно не привыкла к такому. Да и уместно ли было назвать ее «славной»? На самом деле это была удивительная выходка со стороны Мейер-Грефе, потому что Пауль Кассирер и Тилла Дюрье в 1913 году были, несомненно, королевской парой Берлина в области культуры. Причем познакомились они десятью годами ранее как раз на ужине в доме Мейер-Грефе. Но ему это было безразлично. Как и то, что у Тиллы Дюрье был дома попугай, кричавший «Тилла», когда она приходила домой. Обычно сама знаменитая актриса Тилла Дюрье поражала всех своей игрой на сцене – и мужчин, и женщин. А крупнейший арт-дилер Пауль Кассирер был в 1913 году не только самым влиятельным галеристом Германии, его избрали председателем Берлинского сецессиона, важнейшей выставочной организации города, и теперь у него в руках оказались все нити художественной жизни. Черты его лица соответствовали его натуре в целом: своенравные, благородные, но при этом сладострастные, нежные и при этом неистовые, в них читались и могучая жажда власти, и крайняя ранимость. Когда он начинал говорить, то уже не останавливался, заодно с Ловисом Коринтом и Максом Либерманом он поддерживал импрессионистов – например, в 1913 году он показывал в своей галерее самые лучшие работы Ван Гога, Мане и Сезанна, какие только можно себе представить. Он любил женщин, он любил риск. Тилли Дюрье соединяла в себе и то, и другое.