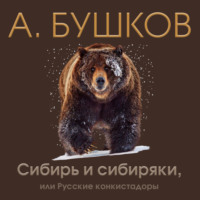Полная версия
Темнота в солнечный день

Александр Бушков
Темнота в солнечный день
Никогда никому не говори, что в молодые годы ты был глуп и смешон. Ты говори: был легковерен, был искренен, был свободен, был добр, был на первом дыхании.
В. Маканин. «На первом дыхании»Глава первая
Флейты голос нежный
Если углубиться в историческо-ботанические дебри, областной город Аюкан на деревья был небогат.
Еще лет пятьдесят назад тут была голая степь со скудной травой, так что овец здесь особенно не пасли, а потому и никакого коловращения жизни не наблюдалось. Старинные тропы торговых караванов, куда ни глянь, проходили далеко в стороне. После революции стало гораздо оживленнее: сначала по этим местам гонялись за красными партизанами колчаковские казаки, потом за белыми партизанами будущий детский классик Аркадий Гайдар, а с ним красные кавалеристы, но не те, про которых былинники речистые вели рассказ. Война с партизанами в степи – дело скучное и неромантичное, а потому гайдаровцев былинники речистые вниманием обошли. Равно как и историки с краеведами и даже писатели, хотя пашенка вроде бы была хлебная, о гораздо более скучных делах Гражданской иные ловкачи ухитрялись нечто наваять, иногда толстое и даже получавшее разные советские премии за идейную выдержанность. Ходили, правда, темные слухи, что к полусотенной годовщине Великой Октябрьской шустрые пионеры отыскали вполне себе бодрого ветерана Гражданской, не достигшего еще и семидесяти, и сдали его классику аюканской литературы Пильчичакову. Тот, не будь дурак, нацелился было к помянутой годовщине создать нечто эпохальное (когда это к годовщинам за эпохальное не давали премии?), взял бутылку хорошей водочки и поехал к деду на казенной «волжанке». Сели, выпили. Улучив подходящий момент, классик Пильчичаков задушевно вопросил:
– Ну, расскажи, дедушка, как ты с красными воевал?
Дедушка бесхитростно и ответил:
– Дык как? А просто. Залегли это мы в распадочке, а тут оне в верхами, человек шесть. Ну, атаман скомандовал: «Пли!» Все краснюки у нас с коней мигом и кувыркнулись. Там с имя девка была в красном платочке, в кожане. Ну, мы ж не звери в девку-то стрелять, мы под ней коня хлопнули, а саму живьем взяли. Ладная была… – И крепкий дедушка ухмыльнулся очень мечтательно, как бывает с людьми, вспомнившими что-то приятное.
Классик Пильчичаков срочно ретировался, оставив недопитую водку. Поскольку с тех удалых времен прошло чуть ли не полсотни лет, дедушке ничего не сделали, разве что не дали юбилейную медальку, а ведь совсем было собирались, трудовая биография-то у него была длинная и внушительная. А впрочем, все это темные слухи, которые партийные товарищи указали считать одной из уток радиостанции «Свобода». Кто бы с ними спорил? Им всегда с горы виднее.
В общем, полсотни лет назад всё изменилось самым решительным образом, когда раскрепощенным революцией народам и народностям в компенсацию за угнетение от царизма стали раздавать кому автономные области, кому даже автономные республики. Обитавшие в здешних местах сагайцы по малочисленности на республику не потянули и удостоились лишь автономной области (правда, и в ней составили лишь процентов десять населения, но это были уже аполитичные детали, широко не оглашавшиеся).
Всякая приличная область, автономная она или нет, обязана, соответственно, иметь областной центр. Самое подходящее место отыскалось лишь в Аюканской степи, где столицу одним махом и возвели. Получилось не так уж плохо, благо в ходе строительства в моду вошли архитектурные излишества. И деревьев за эти полвека насадили некоторое количество. Не особенно много, но все-таки, так что на степь это уже никак не походило.
С течением времени парков в стотысячном городе образовалось целых два. Один – официальный, с капитальной оградой, танцплощадкой, тиром, летним кинотеатром, качелями-каруселями, ларьками, директором и штатом работников. Была еще городошная площадка, но к семидесятым годам городки как-то незаметно, плавненько вышли из моды, и там поставили столбы под навесами для шахматистов, доминошников и любителей шашек. Получилось очень удобное местечко для любителей приносить с собой и распивать, но вот таких старательно гонял патрульный милиционер. Ибо здесь в некотором смысле очаг культуры, и нефиг.
Имелся и второй парк, неофициальный, натурально дикий. Располагался он, так уж случилось, всего-то в паре минут неспешной ходьбы от центра города, по недлинному кварталу то ли из семи, то ли из восьми пятиэтажек хрущевской постройки.
(Центром города, как полагается, считался обком партии, солидное здание с вымощенной красивой плиткой площадью перед ним. Посреди оной сидел высоченный мраморный Ленин (копия кремлевского памятника), с неотрывным отеческим прищуром взиравший на обком. По поводу этого монумента давно втихомолку гулял анекдот. Шли однажды ночью пьяные работяги и спросили: «Ильич, а что это ты задом к народу повернулся?» Ильич охотно ответил: «В народе-то я уверен, а вот с этих, в обкоме, глаз спускать нельзя…» Гуляли еще слухи, что пару лет назад кто-то ночью написал у Ленина на спине красной краской: «Ильич, проснись!» Но если такое однажды ночью и случилось, утром от надписи не осталось и малейшего следа.)
Дикий парк состоял из двух прямоугольников длиной метров по пятьсот и шириной этак в двести, окруженных и разделенных по торцам асфальтированными двухрядками. По аюканским меркам тамошний лесочек был самой натуральной чащобой – одна погуще, вторая гораздо реже. Откуда чащоба взялась, толком неизвестно. То ли ее еще до войны на очередном субботнике утыкали молодыми саженцами комсомольцы-беспокойные-сердца, то ли, что вероятнее, лесок сохранился (и явно был изрядно урезан) еще со времен пустой степи – никак нельзя сказать, что она была вовсе уж безлесная. Никто, в общем, исторической точностью не заморачивался.
К тридцатилетию Победы тот прямоугольник, где лесок был гораздо реже, преобразился до неузнаваемости. В центре поставили памятник с Вечным огнем – солдат славянского облика с воздетым знаменем и сагаец с ручным пулеметом. Сагаец, как положено представителю малого народа, был ростом пониже и малость поуже в плечах брата-русака, но тоже выглядел браво. Уже после установки монумента обозначилась пикантная деталь: если продолжить метров на двести воображаемый маршрут атаки, выходило, что оба героических воина ринулись штурмовать винный магазин, расположенный всего-то через дорогу от парка. Над этим посмеивались и те, кто относился к Отечественной со всем уважением, – да и те, кто воевал сам. Моментально родился и опять-таки потаенно гулял в народе другой анекдот: «Говорит русский сагайцу: я подержу пулемет, а ты за бутылкой сбегай». Власти предпочли сделать вид, что ничего не заметили, – не поворачивать же памятник в другую сторону? Даже винный магазин не убрали. Вымостили плиткой немало дорожек, поставили красивые скамейки без спинок – так что получилось культурно. Алкаши с бутылками там более не появлялись – редколесье отлично просматривалось насквозь с любого места любой дороги, в том числе, разумеется, и из машин спецмедслужбы, собиравшей урожай для вытрезвителя…
По инерции, очевидно, покусились было окультурить и второй парк. Однако ограничились тем, что провели во всю длину неширокую асфальтовую дорожку, окаймленную редкими фонарями. Тем дело и кончилось. Все остальное так и красовалось в прежней неприкосновенности – тропинки, чащобки из деревьев и высоких кустарников. Жители пятиэтажек, выходивших окнами на длинные стороны прямоугольничка, сошлись во мнении, что лес опаскудили.
Гораздо большее одобрение вызвало другое свершение городских властей – на свободном от деревьев уголке стали устраивать новогоднюю ёлку с разнообразными ледяными горками. Молодые родители водили туда свою мелюзгу, там паслись и школьники всех калибров, и вполне себе взрослые парни с девушками. Хотя туда сходились соколы из нескольких окрестных районов, частенько меж собой враждовавших, как-то быстро возникла и устаканилась неписаная традиция: в отличие от танцплощадки в городском парке, на ёлке не драться. Ну, разве что иногда, когда особенно невтерпеж или столкнулись нос к носу вовсе уж непримиримые компании…
И вовсе уж горячее одобрение всего окрест обитающего народа вызвало другое культурное нововведение: в теплое время года, пока не лежал снег, на место будущей елки регулярно привозили «корову», как ласково звали двухколесную цистерну с пивом. Чтобы ее не спутали с молоком, на ней большими буквами так и написали – ПИВО. А впрочем, не будь надписи, любой наделенный житейским опытом издали догадался бы о содержимом: когда это возле цистерны с молоком стояла густая очередь представителей исключительно мужского пола, снабженных любой мыслимой тарой? По части тары русский народ, как и во многих других случаях, проявил нешуточную изобретательность: заявлялись не только с трехлитровыми банками и канистрами, но и с графинами, ведрами, вообще всем, что подходило в качестве емкости. Однажды компания молодежи, видимо не найдя ничего другого, пришла с корытом. Которое потом, полнехонькое, несли так бережно, как не всякая мать носит младенца. Светофора на том перекрестке не имелось, но перед корытоносителями с обеих сторон притормозили машины и даже автобусы – все мы люди, все человеки.
Большая часть купленного пива изничтожалась здесь же, в лесочке. Вообще, оставшийся диким лесок был грандиозной распивочной под открытым небом, куда чем ближе к вечеру, тем больше стекалось компаний разнообразного возраста. Нужно непременно добавить, что по некоему неисповедимому выверту природы вытрезвительские машины лес почти не навещали, хотя уж там-то урожай могли собрать богатейший, куда там знатным комбайнерам.
Ближе к полуночи пьяные компании, как правило, кто разбредался, кто расползался. Лесочком завладевали парочки, пылавшие романтическими и не особенно чувствами, но местом для уединения не располагавшие. Тут уж единообразия не было: где ограничивалось поцелуями и вольностями руками, где, в местечках погуще, на расстеленных куртках романтическое общение происходило уже гораздо более по-взрослому.
Автор с чувством выполненного долга покидает страницы романа, чтобы никогда уже более не вернуться. Место действия он обрисовал, пусть и скупо, декорации, в которых оно не раз будет происходить, обозначил, так что со спокойной совестью может удалиться, освободив сцену героям, двадцатилетним сынам своего времени образца одна тысяча девятьсот семьдесят шестого года, конца лета. Кажется, это был определяющий год тогдашней пятилетки. А может быть, решающий. По ушедшей в небытие традиции тех времен каждый год пятилетки обязательно каким-то был: то определяющим, то решающим, то еще каким-то. Признаться, эти тонкости автор по давности лет запамятовал, да они и вряд ли интересны читателю, даже тому, кто это время не хуже автора помнит…
Теплой вечерней порой они шагали от магазина к Дикому Лесу, по своему району, хозяйской походочкой – неторопливой и уверенной. Как писали в учебниках литературы об Онегиных-Печориных и прочих персонажах – типичные представители своего времени. Существенная разница в том, что их, в отличие от Маши и Дубровского, не проходили в школе и вряд ли когда-нибудь будут проходить. Никто о них в жизни не напишет романа (по крайней мере, достойного включения в школьную программу). Если рассудить, оно и к лучшему: иные подробности их веселой и небезгрешной жизни, попади они в роман, живо заинтересовали бы в первую очередь участкового Карпухина, а им такая радость была совершенно ни к чему…
Они шагали – Костя по кличке Батуала, Митя по кличке Доцент и Коля по кличке Сенька. В последнем случае кличка давным-давно стала прямо-таки именем: фамилия у него была Сенников, и соответствующую кличку он заработал еще в пятом классе, да так и прилипло. Частенько новые девочки и новые кенты[1] далеко не сразу и узнавали, что Сенька – это не имя. Имя он и сам чуточку подзабыл…
Они шагали. На троих – шестьдесят лет, три аттестата зрелости[2], три военных билета и один комсомольский, три мотоцикла, две собаки, три мамы, один отец, два младших брата и одна младшая сестренка. В данном конкретном случае – еще гитара и два огнетушителя[3] «Шипучего».
Навстречу попалась такая же компания – только с тремя чуваками шла еще и девчонка. Все четверо – насквозь незнакомые на рожи, но что тут поделаешь, если район, хоть они в нем и прочно держали мазу[4], был не тупик, а сквозняк?[5] Вообще-то это еще ничего не значило, имелся законный повод до чужаков докопаться: если уж идешь по чужому району, иди по тротуару со стороны проезжей части, а не по дворам мимо подъездов, как эти вот залетные. Иначе в два счета плюх заработаешь. Но они сегодня никак не собирались заниматься примитивной махаловкой, культурная программа была задумана мирная. А потому прошли мимо, как мимо пустого места, наметанным глазом отметив, что залетные держатся чуточку скованно – понимали, что к чему…
– А бикса у них ничего, – сказал Батуала.
– У нас не хуже, – сказал Доцент.
– Истину глаголешь, отче…
Они свернули вправо, меж торцами домов, вышли к неширокой асфальтированной дороге, за которой и начинался Дикий Лес.
– Вот те нате, хрен из-под кровати… – сказал Батуала, глядя влево. – В шесть часов ехал, еще не было…
Слева меж фонарными столбами красовался новенький, хорошо натянутый транспарант: «ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ 60-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!»
– И до Великого Октября – как до Китая раком, – прокомментировал Доцент.
– А поскорее бы, – мечтательно сказал Сенька.
– Ничего, – заключил Доцент. – Мы свое первого сентября возьмем. Правда, не та охапка будет, но все равно месяц хлебный…
Двое остальных с этой святой истиной молчаливо согласились. Такая уж у них была специфика работы, не знавшей «красных дней календаря». Пахать в праздники приходилось, как Папе Карло. Но в претензии никто не был, наоборот: в хлебные месяцы, то есть отмеченные самыми знатными праздниками, они зарабатывали самое малое раза в полтора больше обычного (хотя и в остальные месяцы получали поболее советского инженера). Так что Седьмого ноября ждали, как соловей лета, – как и Восьмого марта, Первого и Девятого мая, Дня Советской армии и Военно-морского флота и особенно – новогодних праздников. Да и первое сентября в этом плане денежку приносило неслабую.
(Еще следует уточнить: на всех троих жен и детей приходилось ноль целых ноль десятых – что их как-то не особенно и печалило.)
Пропустив автобус, перешли на другую сторону – ну, а там метров через десять располагался «Ресторан «Пенёк», их любимое место вдумчивого распития алкогольных напитков. Место, правда, было бойкое, но, если там обосновывались свои, с района, можно было в темпе присоединиться. В случае, если там обреталась превосходящая числом компания залетных, вариантов имелось два: либо пройти мимо и поискать другое местечко, либо пошукать по дворам подкрепление (что времени отняло бы мало) и залетных отсюда вышибить – но это работало только в том случае, если махаловка входила в вечернюю культурную программу. Уступавших числом залетных вышибали без церемонии, и они, ворча, уходили, превосходно зная правила игры.
Уютная была полянка, а посередине и в самом деле располагался широкий пенёк, по которому она и была названа еще в те времена, когда они фроляли[6] в пионерских галстучках. И на пенечке…
Вот это была ситуация чуточку нестандартная: на пенечке сидел невзрачный (а главное, незнакомый) мужичонка бичевского облика, баюкал в правой руке поллитровку «плодововыгодного» и дымил каким-то веником[7]. Что заставило троицу брезгливо поморщиться: сами они предпочитали болгарские, а из советских в первую очередь те, что в твердых пачках, подороже.
Впрочем, и на такую жизненную коллизию давно имелся свой с винтом. Батуала просто-напросто рявкнул:
– Слинял отсюда на хер!
Как всегда, результат был обычным: мужичонка живенько смылся в чащобу, уронив докуренную до половины сигаретку. Давненько жил на белом свете и прекрасно понимал, что одинокому бичику никак не стоит задираться в Диком Лесу с тремя молодыми советскими парнями – замесят и фамилии не спросят…
Доцент с той же брезгливостью притоптал вонючий окурок, а Сенька выставил на пенек огнетушители. «Шипучее» они очень уважали – ноль семь, белая этикетка с зеленым виноградным листиком, крепость удовлетворительная, если нужно не тупо набухаться, а просто принять для веселья. Пенилось, как шампанское, на вкус было слаще шампанского, а стоило, по их зарплатам, смешные деньги – два рубля тридцать семь копеек (что не означает, будто они обходили вниманием другие всевозможные вина).
– Давай, Батуала, – сказал Доцент.
Батуала привычно раскрыл внушительный складной ножик. Все они давно умели такое винцо мастерски раскупоривать, но у Батуалы получалось ловчее всех. «Шипучее», да еще по летнему времени, да еще взболтанное переноской, при малейшей оплошности пускало фонтан, а они были не киношными гусарами, лихо плескавшими пенным гейзером добрых полбутылки. Подобные методы советской молодежью отвергались решительно, как гнилое наследие царизма. Так что Батуала кончиком лезвия аккуратно проковырял дырочку в верхушке белой пластмассовой пробки – причем так, чтобы наружу с шипеньем пошел только воздух, без примеси вина. Когда шипение прекратилось, сковырнул ножом витые жгутики металлической оплетки, раскачал пробку и выдернул. Едва слышно хлопнуло, объявился и тут же растаял небольшой дымок – и ни одной капли не пролилось зря.
Огнетушитель пустили по кругу. Пить из горла тоже надо было умеючи – пузыриков оставалось еще много, и они при неосторожном обращении опять-таки могли дать фонтан. Ну, тут уж никто не оплошал. Прикончив полбутылки, закурили и блаженно прислушались к организмам, в которые вино располагалось со всеми удобствами.
– Анекдоты свежие есть? – поинтересовался Доцент.
– Про Брежнева, – сказал Сенька. – Звонят в дверь. Подходит Леонид Ильич, вытаскивает из кармана бумажку и читает: «Ктооо тааам?»
Посмеялись, но из чистой вежливости – анекдоты о Брежневе, в общем, были скучноватыми, сводились главным образом к насмешкам над чтением по бумажке и прочим маразматическим фокусам.
– С картинками, – сказал Батуала. – Дневник Вовочки. «Первое сентября. Сегодня жарил Катьку. Жалкое подобие онанизма. Второе сентября. Машка сказала, что вечером сделает минет в вестибюле. Срочно посмотреть в словаре, что такое «вестибюль».
Вот тут уже жизнерадостно захохотали в три глотки. Потом Батуала сказал с некоторой печалью:
– Хорошо это у Вовочки там в анекдоте. Биксы сами предлагают. А тут дюжине предложишь – хорошо, если одна согласится…
Доцент с Сенькой с большим пониманием покивали. Минет был, в общем, относительной новинкой, залетевшей с растленного Запада, и далеко не всякую девочку на него можно было уговорить. Даже отъявленные лядёшки сплошь и рядом держали фасон.
– Надо бы Лорку как-нибудь сфаловать[8], – сказал Доцент. – Второй год пользуем, пора бы ей образование повышать…
– А откажется? – лениво спросил Батуала. – Не личико же ей бить.
– Наше дело предложить, ее дело отказаться.
– Тоже верно… Фотки подсунем, их навалом. Будет наглядная агитация.
– Не голова у тебя, Батуала, а Дом Советов.
– Малёха есть, – согласился Батуала.
Речь, понятное дело, шла о тех мутных от многократного переснимания фотках, которыми торговали в поездах и на вокзалах глухонемые – впрочем, как давным-давно проверено, никакие не глухонемые в большинстве своем. Каковые их жизненные наблюдения Карпухин давно подтвердил, а Карпуха врать не будет.
– Журнальчик зря сплавили, – сказал Сенька.
– Да ну, сто раз зырили, глазами фотки протерли…
Вот с журналом было интереснее. Это уже не мутные черно-белые фотки, а самый настоящий толстый журнал с цветными снимками и непонятным названием «Playboy». Журнал к ним попал от Хана, он же – Серега Саражасков. Хан, даром что сагаец, ухитрился поступить в ленинградскую мореходку и второй год ходил на сухогрузе в зарубежные рейсы, главным образом в Юго-Восточную Азию. Ухитрился, хорошо заховавши, провезти то ли из Гонконга, то ли из Сингапура полдюжины этих самых «Плейбоев», имевших на районе успех почище, чем Ален Делон во французском кино.
– Порнофильм бы посмотреть, – мечтательно сказал Батуала. – Хану хорошо, насмотрелся. А тут слушай пересказы с пересказов… Может, при коммунизме казать начнут?
– Ты сначала доживи до коммунизма, – сказал Доцент. – Я вот лично насчет себя не уверен. Потому что коммунизм, партия учит, не за горами, а мы как раз за горами. За Уральскими…
– Уж это точно, – поддакнул Сенька. – Если и доживем до коммунизма, то седыми старичками, и похеру нам будут и порнофильмы, и лядёшки. Агрегат на полшестого повиснет.
– Не ссы в трусы, – хмыкнул Доцент. – Авось придумают лекарство, чтобы стоял до ста лет.
– Ты еще скажи, что столетним будут молодые биксы давать, – фыркнул Сенька. – Бабушек пежить придется, а кому оно надо?
Митя наставительно сказал голосом диктора программы «Время»:
– Советская наука творит чудеса.
– Мудеса она творит, а не чудеса, – отмахнулся Сенька.
– Ну, не скажи, придумали ж кассетные магнитофоны. А мы с вами еще старье помним катушечное.
– Да ну, поди, у японцев слямзили. Как двадцать первую «Волгу» у штатников. Ты ж, Митька, про «Волгу» сам рассказывал.
– Ну, рассказывал. Но не могут же они все время лямзить? Иначе не платили бы им такие бабки. Я так думаю, иногда и сами придумывают.
– Хрен они без масла придумывают, – упорствовал Сенька.
– Ну погнали, погнали, – ухмыльнулся Батуала. – Как диссиденты, ага.
– Ну ты сказанешь, хоть стой, хоть падай. Кто этих диссидентов видел и откелича они у нас?
Диссиденты для Сибири были что инопланетяне – все про них слышали, но никто их не видел. Не водились они как-то за Уралом.
– Это он пропаганду пускать начал, – ехидно сказал Сенька. – Он у нас один-единственный комсомолист, ему положено.
– Идешь ты боком, – лениво отмахнулся Батуала. – Делать мне нехер, только пропаганду пускать. Пусть Бутыляка старается, ему за это зарплату платят.
– Да мы ж шутейно… Ну, банкуй вторую?
Батуала столь же сноровисто откупорил вторую бутылку. Пустили по кругу, что твою Лорку, такая уж судьба у бутылок и лядёшек. Когда закурили очередные болгарские, Батуала сказал крайне мечтательно:
– А вот представьте, поца…[9] Заходим мы в кино, в «Победу» или «Октябрь», а там порнофильм кажут. В цвете, широкоэкранный… Всё законно, по билетам…
Тут уж грянул такой жизнерадостный гогот из всех без исключения глоток, что припозднившиеся прохожие в радиусе ста метров наверняка вздрагивали и прибавляли шагу. Измышленная Батуалой картина была столь абсурдной, что любая фантастика ей в подметки не годилась.
– Ну, Батуала, даешь стране угля, – просмеявшись, сказал Доцент. – Не раньше, чем на горе целая кодла раков иссвистится. Да и тогда – сомневаюсь я…
– Помечтать-то можно, – сказал Батуала.
– Путная мечта к реальности должна быть прибита хоть за уголок хоть одним гвоздочком, – задумчиво сказал Доцент. – А у тебя она такая фантазийная, что фантазийнее и быть не может…
– Сам знаю, – уныло сказал Батуала. – А все равно хочется. Доцент вон смотрел в Париже. Который Алхимик.
– Да уж понятно, что не который Мозгляк… Ага, Инка говорила.
Речь, понятное дело, шла не о Мите, а о настоящем доценте, то бишь официальном. Так сложилось, что в домах, где жила троица, доцентов обитало целых два. Мозгляк был доцентом как бы и второсортным – из областного пединститута. Зато второй – гораздо правильнее, из научного института (их в Аюкане имелось целых два). Занимался чем-то сложным по части большой химии, готовил докторскую, и на их памяти раза четыре ездил в настоящую загранку, то есть на Запад. Так что супружница с Инной щеголяли в заграничных шмотках, совсем как в кинокомедии «Бриллиантовая рука».
– Мне тоже, – кивнул Митя. – А еще она мне проболталась, когда в мае в честь окончания учебного года стаканизатор «шипучего» хлобыстнула… Короче, слышала как-то, как мама за бутылочкой со смефуечками подругам на кухне рассказывала. Алхимик ее уж давненько в позы из порнофильмов ставит. Ей нравится.
– Я б тоже поставил, – сказал Батуала. – Баба товарная.
– Старая, – сказал Сенька. – Тебе в мамки годится.
– Ни хера, – сказал Батуала. – Чтобы ей мне в мамки годиться, она меня в девятом классе родить должна была бы. А я за всю свою жизнь только раз про такое и слышал. Да вы тоже – я про Клаву Бабичеву.
– Ну, кто ж не слышал… Только фиг тебе доцентиха даст. Если и лядует тишком, то с кандидатами в доктора какими-нибудь. Вот нахера ты ей?
– Я молодой, – сказал Батуала. – У меня стояк лучше, чем у всех этих кандидатов. У них вся моща в диссертации ушла.