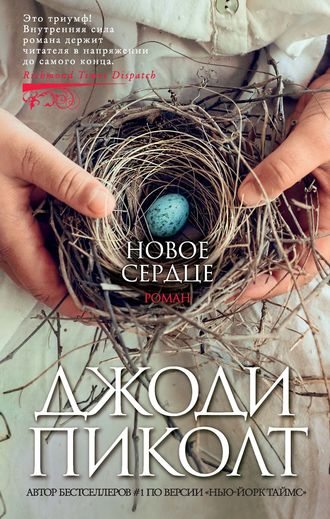
Полная версия
Новое сердце
В то утро пейджер, который мы постоянно носили с собой, завибрировал.
«У нас есть сердце, – сказал доктор Ву, когда я позвонила. – Встретимся в больнице».
Последние шесть часов Клэр отмывали, кололи, обследовали, то есть готовили к операции, чтобы к тому моменту, как в изотермическом контейнере доставят чудесный орган, она смогла сразу попасть в операционную. Наступил момент, которого я ждала и страшилась всю жизнь.
Что, если… Я даже не позволяла себе произнести эти слова.
Я просто взяла Клэр за руку и переплела наши пальцы.
Бумага и ножницы, подумала я. Мы сейчас между молотом и наковальней.
Я посмотрела на веер ее ангельских волос на подушке, на бледно-голубой оттенок кожи – на мою девочку, для которой даже ее худенькое тело казалось непосильной ношей. Иногда, глядя на нее, я видела не ее – мне казалось, она…
– Какая она, по-твоему?
Вздрогнув, я заморгала:
– Кто?
– Девочка. Та, что умерла.
– Клэр, давай не будем об этом говорить.
– Почему? Разве мы не должны все о ней знать, если она будет частью меня?
Я прикоснулась к ее голове:
– Мы не знаем даже, девочка ли это.
– Конечно девочка, – откликнулась Клэр. – Ужасно, если у меня будет сердце мальчика.
– Не думаю, что пригодность оценивают исходя из этого.
– А должны бы, – поежилась она и заерзала в постели, чтобы устроиться повыше. – Думаешь, я стану другой?
Наклонившись, я поцеловала дочь:
– Ты очнешься и останешься все той же девочкой, не желающей прибраться в своей комнате, погулять с Дадли или выключить свет, когда спускаешься вниз.
Так или иначе, я сказала Клэр именно это. Но услышала лишь два первых слова: «Ты очнешься».
В палату вошла медсестра.
– Нам только что сообщили, что началась подготовка донорского органа, – произнесла она. – Скоро мы получим более подробную информацию. Доктор Ву разговаривает по телефону с командой врачей.
После того как она ушла, мы с Клэр сидели в молчании. Вдруг все стало реальным. Хирурги были готовы раскрыть грудь Клэр, остановить ее сердце и пришить новое. Мы обе слышали разъяснения многочисленных врачей по поводу рисков и шансов, мы знали, насколько редко встречаются детские доноры. Клэр вся сжалась, натянула одеяло на нос.
– Если я умру, – сказала она, – как думаешь, я стану святой?
– Ты не умрешь.
– Нет, умру. И ты тоже. Просто со мной это может случиться раньше.
Я с трудом сдерживалась, чувствуя, как глаза наполняются слезами. Вытерла их краем больничной простыни. Клэр дотронулась кулачком до моих волос, как делала это в раннем детстве.
– Спорим, мне это понравится, – сказала Клэр. – Быть святой.
Она постоянно читала, и в последнее время ее восхищение Жанной д’Арк перенеслось на всех страждущих существ.
– Ты не будешь святой.
– Но ты ведь не знаешь этого наверняка, – возразила Клэр.
– Прежде всего ты не католичка. И, кроме того, все они умерли страшной смертью.
– Это не всегда так. Тебя могут убить, пока ты здоров, и это важно. Святая Мария Горетти была моего возраста, когда сопротивлялась парню, пытавшемуся ее изнасиловать. Она была убита и стала святой.
– Это ужасно, – сказала я.
– Святой Барбаре выкололи глаза. А ты знала, что существует святой покровитель сердечных больных? Иоанн Божий.
– Вопрос в том, откуда ты знаешь, что есть покровитель сердечных больных?
– А то! – ответила Клэр. – Я читала о нем. Это все, что ты разрешаешь мне делать. – Она откинулась на подушки. – Спорим, святой может играть в софтбол.
– Так же, как и девочка с пересаженным сердцем.
Но Клэр не слушала, поскольку, всю жизнь глядя на меня, усвоила, что надежда подобна призрачному дыму.
– Наверное, я буду святой, – посмотрев на часы, сказала она, словно это было полностью в ее власти. – Тогда никто не забудет тебя, когда тебя не станет.
Похороны полицейского – поразительная вещь. Из каждого города штата и даже из более отдаленных мест приезжают офицеры, пожарные и чиновники. Перед катафалком едет процессия патрульных машин. Они, словно снег, покрывают шоссе.
Я долго вспоминала похороны Курта, потому что в свое время изо всех сил старалась сделать вид, что этого не было. Шеф полиции Ирвин поехал со мной на службу у могилы. Вдоль улиц Линли стояли горожане с самодельными плакатами, на которых было написано: «СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ» и «ВЕЛИКАЯ ЖЕРТВА». Было лето, и каблуки моих туфель увязали в асфальте. Меня окружали полицейские, работавшие с Куртом, и сотни тех, кто с ним не работал, – целое море синего. У меня разболелась спина и опухли ноги. Я поймала себя на том, что стараюсь сконцентрироваться на кусте сирени, трепетавшем от ветра. С него дождем сыпались лепестки цветков.
Шеф полиции организовал салют из двадцати одного ружейного залпа, а когда залпы стихли, над отдаленными фиолетовыми горами поднялись пять истребителей. Они прорезали небо параллельными линиями, а потом, пока они летели у нас над головой, крайний справа самолет оторвался от остальных и взмыл в небо, направляясь на восток.
Когда священник перестал говорить – я не услышала ни слова… что он мог рассказать мне о Курте, чего я не знала? – вперед выступили Робби и Вик. Они были ближайшими друзьями Курта из отделения. Как и у всех полицейских Линли, их жетоны были обрамлены черной тканью. Они взялись за флаг, прикрывающий гроб с телом Курта, и принялись складывать его. Их руки в перчатках двигались так быстро, что я подумала о Микки-Маусе и Дональде Даке с их огромными белыми кулаками. Потом Робби вложил треугольник мне в руки – своего рода опора, то, что могло в какой-то степени занять место Курта.
Сквозь шум от полицейских раций пробился голос диспетчера: «Всем подразделениям приготовиться к трансляции. Последнее донесение для офицера Курта Нилона, номер сто сорок четыре. Сто сорок четыре, явиться на Уэст-Мэйн, триста шестьдесят, для выполнения последнего задания».
Это был адрес кладбища.
«Ты переходишь в наилучшие руки. Нам будет очень тебя недоставать… Сто сорок четыре… десять-семь».
Радиокод для окончания смены.
Мне говорили, что после я подошла к гробу Курта. Гроб был сильно отполирован, и я увидела в нем собственное отражение, сжатое и незнакомое. Гроб был специально сделан шире обычного, чтобы в нем поместилась Элизабет.
В свои семь лет она по-прежнему боялась темноты, и Курт, бывало, ложился рядом с ней – этакий слон среди розовых подушек и атласных одеялец, – пока она не уснет, а потом выползал из комнаты и выключал свет. Иногда она с криками просыпалась среди ночи. «Ты его выключила», – рыдала она, уткнувшись мне в плечо, словно я разбила ей сердце.
Распорядитель похорон позволил мне проститься с ними. Курт крепко обнимал мою дочь, Элизабет положила голову ему на грудь. Они выглядели точно так, как теми ночами, когда Курт засыпал сам, дожидаясь, когда заснет Элизабет. Они выглядели так, как хотелось бы выглядеть мне: спокойными и умиротворенными. Предполагалось, что меня должно утешать то, что они вместе. Предполагалось, что это компенсирует тот факт, что я не могу уйти вместе с ними.
– Позаботься о ней, – прошептала я Курту, и сверкающая полировка чуть запотела от моего дыхания. – Позаботься о моей малышке.
И словно я позвала ее, внутри меня зашевелилась Клэр: медленные толчки хрупких ножек, напоминание о том, почему я должна остаться.
Было время, когда я молилась святым. Мне особенно нравилось непритязательное начало их жизни: когда-то они были людьми, и я знала, что они обрели святость совсем не так, как Иисус. Они понимали, что такое разбитые надежды, нарушенные обещания или поруганные чувства. Моей любимой была святая Тереза – та самая, которая считала, что человек может быть совершенно обычным, но великая любовь способна его возвысить. Правда, это было давно. Жизнь умеет расставить все по своим местам и показать человеку, что он обращает внимание на неправильные вещи. Вот тогда я призналась себе, что скорее умерла бы, чем родила ребенка, которому приходится бороться за свою жизнь.
За последние месяцы аритмия Клэр усугубилась. Ее кардиостимулятор срабатывал по шесть раз в сутки. Мне объяснили, что, когда он срабатывает, это ощущается как электрический разряд. Он запускает сердце, но это очень больно. Раз в месяц – это еще куда ни шло, раз в сутки – ослабляет здоровье. А у Клэр, с ее частотой…
Существуют группы поддержки для взрослых с кардиостимуляторами. Ходят рассказы о людях, которые предпочитают жить, рискуя умереть от аритмии, чем знать наверняка, что рано или поздно получат электрошок от устройства. На прошлой неделе я застала Клэр в палате за чтением «Книги рекордов Гиннесса».
– За тридцать шесть лет Роя Салливана семь раз била молния, – прочитала она. – В конце концов он покончил с собой.
Подняв рубашку, она опустила взгляд на шрам у себя на груди.
– Мамочка, – принялась умолять она, – пожалуйста, пусть они его отключат.
Я не знала, насколько у меня хватит сил уговаривать Клэр остаться со мной, раз уж все так получилось.
Открылась дверь в палату, и мы с Клэр сразу же обернулись. Мы ждали медсестру, но это был доктор Ву. Усевшись на край кровати, он обратился прямо к дочери, как будто ей было не одиннадцать, а столько, сколько мне.
– С сердцем, которое мы предназначали для тебя, что-то не так. Хирурги узнали об этом, только когда забрались внутрь… правый желудочек расширен. Если он сейчас не заработает, есть вероятность, что после пересадки сердца будет только хуже.
– Значит, оно не подходит? – спросила Клэр.
– Да. Когда мы пересадим тебе новое сердце, я хочу, чтобы это было самое здоровое сердце на свете, – объяснил врач.
Я оцепенела:
– Я… я не понимаю.
Доктор Ву повернулся ко мне:
– Мне жаль, Джун. Сегодня не ваш день.
– Но на поиски другого донора могут уйти годы… – сказала я и не закончила фразу, так как знала, что Ву все услышал: «Клэр может не дождаться».
– Будем надеяться на лучшее, – ответил он.
После его ухода мы несколько мгновений подавленно молчали. Неужели я это сделала? Неужели страх, который я пыталась скрыть, – страх того, что Клэр не перенесет операцию, – каким-то образом просочился в реальность?
Клэр принялась стаскивать с груди кардиомониторы.
– Ну что ж… – начала она, и я почувствовала, как прерывается ее дыхание в попытке не заплакать. – Эта суббота прошла совсем впустую.
– Знаешь, – сказала я, стараясь говорить ровным голосом, – тебя назвали в честь святой.
– Правда?
Я кивнула:
– Она основала женский монашеский орден, известный как клариссинки.
Клэр взглянула на меня:
– Почему ты выбрала ее?
Потому что в день твоего рождения медсестра, которая принесла тебя мне, покачала головой и сказала: «Она такая светленькая». Так оно и было. И я назвала тебя в честь святой Клары. Я хотела, чтобы ты с самого начала была под ее защитой.
– Мне нравилось, как звучит это имя, – солгала я, помогая Клэр надеть рубашку.
Мы выйдем из больницы, возможно, заглянем в кафе и выпьем по шоколадному коктейлю, а потом посмотрим фильм со счастливым концом. Сделаем вид, что это обычный день. А после того как она уснет, я зароюсь лицом в подушку, дав волю чувствам, которые скрывала в присутствии дочери: стыд от сознания того, что Клэр живет со мной на пять лет дольше, чем прожила Элизабет; чувство вины оттого, что испытала облегчение, когда пересадка не состоялась, поскольку это могло как спасти Клэр, так убить и ее.
Клэр засунула ноги в высокие розовые кеды «Конверс».
– Может быть, я стану клариссинкой.
– Но все же ты не можешь стать святой, – сказала я.
И добавила про себя: «Потому что я не позволю тебе умереть».
Люций
Вскоре после того, как Шэй воскресил Бэтмена-Робина, Крэш Витале поджег себя.
Он смастерил самодельную спичку, как делаем все мы: снимаешь флуоресцентную лампу с держателя и подносишь ее металлические контакты близко к розетке, чтобы образовалась электрическая дуга. Сунь в этот зазор кусок бумаги, и получится факел. Крэш смял страницы из журнала и разложил их вокруг себя. Когда Тексас начал звать на помощь, галерея уже заполнилась дымом. Надзиратели открыли дверь камеры Крэша и направили на него мощную струю воды из шланга. Мы слышали, как этой струей Крэша ударило о дальнюю стену. Его, вымокшего насквозь, привязали к каталке – спутанные волосы, безумные глаза.
– Эй, Зеленая Миля, – вопил он, пока его увозили с яруса, – как это вышло, что ты меня-то не спас?
– Потому что птица мне нравится, – пробубнил Шэй.
Я рассмеялся первым, потом захихикал Тексас. Джои – тоже, но лишь потому, что не было Крэша, который их заткнул бы.
– Борн… – произнес Кэллоуэй первое слово с того момента, как птичка вернулась к нему в камеру. – Спасибо.
Повисло молчание.
– Она заслуживала еще одного шанса, – сказал Шэй.
Дверь на галерею со скрежетом открылась, и на этот раз появились надзиратель Смайт и медсестра с вечерним обходом. Сначала Алма зашла ко мне в камеру, подавая стаканчик с пилюлями.
– Судя по запаху, кто-то готовил здесь барбекю и забыл меня пригласить, – сказала она и дождалась, пока я не положу таблетки в рот и не запью водой. – Хорошего сна, Люций.
Она ушла, и я встал у двери. По цементному помосту текли ручейки воды. Вместо того чтобы уйти с яруса, Алма остановилась у двери Кэллоуэя:
– Заключенный Рис, позволишь мне взглянуть на твою руку?
Кэллоуэй ссутулился, закрывая птичку. Все мы знали, что он держит в ладони Бэтмена, и разом затаили дыхание. Вдруг Алма увидит птицу? Донесет ли она на него?
Я мог бы догадаться, что Кэллоуэй не даст этому случиться, – он шуганул бы Алму, не позволив ей приблизиться. Но не успел он заговорить, как мы услышали нежное щебетание – и из камеры не Кэллоуэя, а Шэя. Раздалось ответное чириканье – дрозд искал товарища.
– Какого дьявола здесь творится? – оглядываясь по сторонам, спросил надзиратель Смайт. – Откуда эти звуки?
Вдруг из камеры Джои долетел посвист, а затем тонкий писк из камеры Поджи. К своему удивлению, я услышал птичий щебет где-то рядом с моей койкой. Резко обернувшись, я бросил взгляд на вентиляционную решетку. Здесь что, поселилась целая колония дроздов? Или это Шэй – мало того что чародей, а вдобавок чревовещатель – подражает голосам птиц?
Охранник прошел вдоль яруса в поисках источника шума, присматриваясь к потолочным люкам, и заглянул в душевую.
– Смайт? – прозвучал по интеркому голос офицера с пульта управления. – Что происходит, черт побери?!
В месте, подобном этому, изнашивается все, и терпимость не исключение. Здесь сосуществование может сойти за прощение. Ты не пытаешься полюбить человека, вызывающего у тебя отвращение, ты просто свыкаешься с этим. Вот почему мы подчиняемся, когда нам велят раздеться. Вот почему мы снисходим до игры в шахматы с растлителем малолетних. Вот почему мы не позволяем себе плакать по ночам. Живи и дай жить другим, и в конечном счете этого бывает достаточно.
Это, возможно, объясняет, почему мускулистая рука Кэллоуэя с нашлепкой из пластыря высунулась в окошко его двери. Удивленная Алма заморгала.
– Больно не будет, – пробормотала она, рассматривая новую розовую кожу там, где она была пересажена.
Достав из кармана латексные перчатки, Алма натянула их на руки, ставшие такими же белыми, как у Кэллоуэя. И да будет вам известно – в тот самый миг, как медсестра прикоснулась к нему, странный шум прекратился.
Майкл
Священник должен ежедневно проводить мессу, даже если никто не приходит, хотя такого почти не бывало. В городе масштаба Конкорда в церкви всегда было хотя бы несколько прихожан, молящихся с четками в ожидании священника.
Я читал ту часть мессы, где творятся чудеса.
– «Сие есть тело Мое, которое за вас предается»[3], – вслух произнес я, преклонил колена и поднял вверх гостию.
Следующим вопросом после: «Какого рожна Бог – это еще и Святая Троица?», который мне, как священнику, задавали не католики, был вопрос о пресуществлении – вера в то, что при освящении Святых Даров хлеб и вино действительно превращаются в тело и кровь Христа. Я понимал, почему многие сбиты с толку: если это правда, то нет ли в причастии чего-то людоедского? А если превращение действительно происходит, почему мы этого не видим?
Когда я ребенком ходил в церковь, задолго до того, как вернуться в ее лоно, то принимал причастие, как все прочие, особо не задумываясь над происходящим. Для меня это выглядело как крекер и чашка вина – и до и после освящения. Сейчас могу сказать, что это по-прежнему выглядит как крекер и чашка вина. Аспект чуда сводится к философии. Не акциденции предмета делают его таковым, а что-то более существенное. Человек остается человеком, даже лишившись конечностей, зубов или волос, но если он вдруг перестанет быть млекопитающим, то результат будет другим. Когда я во время мессы освящал гостию и вино, менялась сама суть этих вещей, а внешние свойства – форма, вкус, размер – оставались прежними. Точно так же как Иоанн Креститель, увидев человека, сразу понимал, что смотрит на Бога. Точно так же как мудрецы, увидев Младенца, знали, что Он наш Спаситель. Каждый день я держал в руках то, что выглядело как печенье и вино, но по сути было Иисусом.
Вот почему с этого момента мессы я не разжимал пальцев, пока не вымою руки после таинства евхаристии. Нельзя было потерять ни крупинки освященной гостии. Мы делали для этого все возможное, удаляя остатки причастия. Но в тот момент, когда я об этом подумал, облатка выскользнула из моей руки.
Я почувствовал то же самое, что в третьем классе во время финальных игр Малой лиги, когда смотрел, как мяч слишком быстро и высоко летит в мой угол левой половины поля, с замиранием сердца понимая, что не поймаю его. Оцепенев, я наблюдал, как облатка благополучно падает в чашу с вином.
– Правило пяти секунд, – пробормотал я, опустив руку в чашу и выловив облатку.
Облатка успела частично пропитаться вином. Я с изумлением смотрел, как на ней вырисовывается челюсть, ухо, бровь.
У отца Уолтера бывали видения. Он говорил, что главной причиной его решения стать священником было вот что: как-то, когда он был служкой, статуя Иисуса потянула его за одежду, веля ему придерживаться намеченного пути. Позже, когда он жарил форель на своей кухне, ему явилась Мария, и вдруг рыбешки начали подскакивать на сковороде. «Не позволяй ни одной упасть на пол», – предупредила она и исчезла.
Сотни священников выделялись чем-то в своем призвании, но никогда не удостаивались подобного Божественного заступничества – и все же мне не хотелось оказаться в их числе. Как и подростки, с которыми я работал, я понимал потребность в чудесах – они не позволяют действительности парализовать нас. Итак, я уставился на облатку в надежде, что намеченные вином черты воплотятся в портрет Иисуса… а вместо этого поймал себя на том, что смотрю на что-то совершенно иное. Всклокоченные темные волосы, которые пристало иметь скорее барабанщику из группы гранж-рока, чем священнику, нос, сломанный на соревновании по борьбе в неполной средней школе, и небритые щеки. На поверхности облатки с изысканностью гравюры был запечатлен мой портрет.
«Что моя голова делает на теле Христа?» – подумал я, кладя на дискос облатку темно-фиолетового цвета, начавшую таять. Я поднял чашу.
– «Сие есть кровь Моя», – произнес я.
Джун
Когда Шэй Борн работал в нашем доме плотником, он сделал Элизабет подарок на день рождения. Это был небольшой ящик с крышкой на петлях, вырезанный вручную из отходов древесины за многие часы трудов за порогом нашего дома. Каждая сторона ящика была украшена замысловатой резьбой, изображающей разных фей, одетых в наряды по временам года. У Лета были яркие, как лепестки пиона, крылья и солнечная корона. Весна была покрыта вьющимися побегами, под ее ногами разворачивался свадебный шлейф цветов. Осень носила роскошные тона сахарных кленов и осин, на ее голове сидела шапочка в виде желудя. А Зима мчалась на коньках по льду озера, оставляя за собой искрящийся след. На крышке была раскрашенная картинка, изображающая луну, которая с раскинутыми руками поднимается сквозь сонм звезд навстречу невидимому пока солнцу.
Элизабет любила этот ящичек. В тот вечер, когда Шэй его подарил, она застелила его одеялами и улеглась там спать. Но мы с Куртом запретили ей делать это впредь. А если бы во время сна на нее упала крышка? И тогда Элизабет стала использовать ящичек как кроватку для кукол, а потом игрушечный комод. Она дала феям имена. Иногда я слышала, как она разговаривает с ними.
После смерти Элизабет я вынесла ящик во двор, чтобы сломать. Я была тогда на восьмом месяце беременности. Сраженная горем, я размахивала топором Курта, но в последний момент не смогла этого сделать. Элизабет ценила эту вещь, и мне тяжело было бы ее потерять. Я отнесла ящик на чердак, где он пролежал много лет.
Я могла бы сказать, что забыла о нем, но это было бы ложью. Я знала, что он там, под грудой старых вещей, детской одежды и картин с разбитыми рамами. Однажды – Клэр тогда было около десяти – я застукала ее за попыткой спустить ящичек вниз.
– Он такой хорошенький, – запыхавшись, произнесла она. – И никто им не пользуется.
Я прикрикнула на нее, велев пойти прилечь.
Но Клэр продолжала спрашивать о нем, и в конце концов я принесла ящик к ней в комнату и поставила в изножье кровати, совсем как было у Элизабет. Я не говорила ей, кто смастерил ящик. Но по временам, когда Клэр была в школе, я ловила себя на том, что заглядываю внутрь него, задаваясь вопросом: не жалеет ли, как и я, Пандора, что не исследовала сначала содержимого – страдание, хитро замаскированное под презент?
Люций
Обитатели первого яруса говорили, что я достиг в «ловле рыбки» настоящего мастерства. Мое снаряжение состояло из лески, сделанной из ниток, которые я припасал годами, и грузила в виде расчески или колоды карт, в зависимости от того, что я выуживал. Я был известен способностью закидывать удочку из моей камеры в камеру Крэша на дальнем конце яруса, а также в душевую, в противоположном его конце. Наверное, поэтому мне было любопытно посмотреть, когда свою удочку забросил Шэй.
Это было после «Одной жизни, чтобы жить», но перед Опрой. В это время большинство парней ложатся вздремнуть. Мне сильно нездоровилось. Болячки во рту не давали нормально говорить, и я буквально не слезал с горшка. Кожа вокруг глаз, пораженная саркомой Капоши, сильно вспухла, и я почти ничего не видел. Вдруг в узком зазоре под дверью моей камеры просвистела леска Шэя.
– Хочешь? – спросил он.
Мы удим для того, чтобы что-то получить. Мы обмениваемся журналами, обмениваемся едой, расплачиваемся за наркотики. Но Шэй ничего не просил, а только раздавал. К концу его лески был привязан кусочек жвачки «Базука».
Это контрабанда. Жвачку можно использовать в качестве замазки для разных поделок, и с ее помощью можно портить замки. Одному Богу известно, где Шэй раздобыл это сокровище – и, что еще более удивительно, почему он просто не припрятал его.
Я сглотнул, чувствуя, что горло вот-вот лопнет.
– Нет, спасибо.
Я приподнялся на койке и отогнул край матраса. Когда-то я хорошо поработал над одним из швов. Он был распорот и стягивался ниткой, которую я мог при необходимости ослабить и покопаться в пенопластовой набивке. Засунув внутрь указательный палец, я извлек свою нычку.
Там были таблетки «Эпивир ТриТиСи» и сустива. Ретровир. Ломотил от диареи. Все лекарства, которые я под наблюдением Алмы клал на язык и якобы проглатывал, хотя фактически заталкивал их за щеку.
Я пока еще не решил, воспользуюсь ими, чтобы убить себя, или просто продолжу копить, вместо того чтобы принимать, – более медленное, но верное самоубийство.
Забавно, что, умирая, все же пытаешься быть хозяином положения. Хочешь диктовать условия, хочешь выбрать дату. Стараешься убедить себя, что держишь ситуацию под контролем.
– Джои, – позвал Шэй, – попробуешь?
Он снова забросил леску, которая изогнулась дугой над площадкой.
– Честно? – спросил Джои.
Большинство из нас просто делали вид, что Джои здесь нет, – это было безопасней для него самого. Никто не лез вон из кожи, чтобы его заметить и тем более предложить нечто столь ценное, как кусочек жвачки.
– Я хочу, – потребовал Кэллоуэй.
Должно быть, он только что видел пролетевшее мимо сокровище, поскольку его камера находилась между Шэем и Джои.
– Я тоже, – заявил Крэш.
Шэй подождал, когда Джои возьмет жвачку, а затем осторожно подтянул леску ближе, чтобы ее смог достать Кэллоуэй.
– Здесь много.
– Сколько у тебя штук? – спросил Крэш.
– Всего одна.
Так вот, вы видели пластинку жвачки. Наверное, можно поделиться ею с другом. Но разделить одну пластинку между семью мужчинами?











